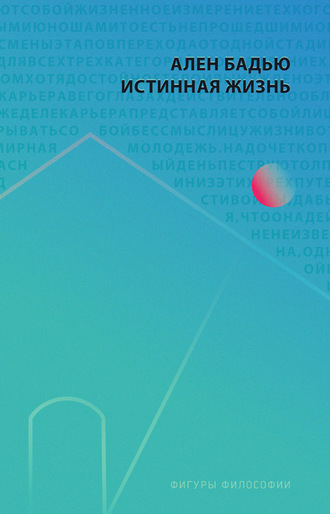
Ален Бадью
Истинная жизнь
Как возможно говорить, что есть некая этика истин, если нет субъекта этой этики? Согласно Бадью, никакого субъекта нет, есть только субъекты, привязанные к своим истинам. Откликнутому-в-законе субъекта[26] Альтюссера Бадью противопоставляет субъекта, откликнутого-в-истине (стоит отметить забавный факт: самые яркие примеры идеологической интерпелляции у Альтюссера берутся из «религиозной идеологии», равно как и самый яркий пример субъективации Бадью берет из Посланий апостола Павла). Субъекты эти отличаются не только между собой теми истинами, к которым они прикреплены, но отличаются от не-субъектов, с которыми истины не состоялись.
Главная трудность этики Бадью заключается, на наш взгляд, в следующем: чтобы этический дискурс не был бы самопротиворечив, он должен сводить в некое подобие единства этики во множественном числе, удостоверяя, что форма отношений субъекта события является этичной. И, самое важное, не должно получиться так, что есть просто много разных истин и каждая истинна по-своему, – иначе, мы не должны прийти к тому самому релятивизму, с которым Бадью ведет войну. Дискурс этики истин, не составляя никакого субъекта и никакой истины, тем не менее настаивает на возможности истинной жизни. Этика истин как дискурс, в котором верность сингулярным событиям находит свою артикуляцию, сама по себе ничего не предписывает, но именно в нем уведомляется об этическом различии par excellence: между существованием в субъекте и существованием в качестве человеческого животного, упорствующего в бытии и бредущего в направлении смерти. «…Бессмертие Человека [возможно] в тот момент, когда он утверждает, что готов идти наперекор воле-быть-животным, к которой его приводят обстоятельства… субъективация бессмертна и создает Человека»[27]. Как замечает Саймон Кричли, этика истин является «целиком формальной теорией, грамматикой этического опыта, а не специфическим определением блага», «этот формализм мотивирует теория субъекта, имеющая сильные нормативные коннотации (курсив мой. – А. С.)»[28]. Если каждая истина взывает к верности себе сингулярным образом, в ситуации, то, тем не менее, этика дискурсов из некой несобытийной точки взывает к истинам. Как мы покажем, такой ход оказывается возможен для Бадью по той причине, что у сингулярных этик истин между собой общего больше, чем различий.
Этика истин и ее утверждения предполагают, как кажется, следующее: индивид, чтобы уклоняться от участи «смертного животного» и «пассивного нигилизма», должен стремиться встроить себя в субъект события и удерживать себя в нем. Субъект истины не бесконечен, но связан с бесконечным. По словам крупного исследователя философии Бадью Бруно Бостелса, «субъективная способность действительно бесконечна, коль скоро субъект конституирован под знаком события. Почему? Потому что субъективная способность состоит в выведении последствий изменения новой ситуации, и если это изменение событийно, то последствия будут бесконечными»[29]. Этика истин, высказывающаяся о множественных субъективных процессах, не может ни к чему призвать и ничего предписать, коль скоро предписывает только истина, однако она обращается, говорит, опровергает. Если бы она не могла совершать свои обращения, у Бадью не было бы ресурсов противостоять «пассивному нигилизму» и «этической идеологии». Чтобы им противостоять, нужно быть некой консистентной этической программой, способной артикулировать этические предписания. Стать субъектом и продолжать является таким предписанием. Но обладает ли этот призыв какой-то действенностью? Как мы сказали выше, субъект, не равный человеку, является тем, что декларирует истину, то есть у него нет иного состояния, кроме как верности событию. Иначе, субъекта может просто не стать, но он не может не быть верностным субъектом. Следовательно, обращение «будь субъектом» обращено к индивидам, еще-небесконечным. Бадью говорит в «Этике»: от человека, не субъекта, требуется «быть верным верности»[30]. Иначе, если верность есть само существование субъекта относительно истины, то верность верности – это то, что требуется от «человеческого животного». Этический дискурс адресует это требование именно ему. Оказывается, человеческое животное восприимчиво к требованиям, несмотря на то, что оно не заинтересовано в истине. Событие для человеческого животного будет шагом к тому, чтобы стать субъектом. А этический дискурс, адресованный человеческому животному, будет говорить: неважно, субъектом какого события ты являешься, главное – продолжать им быть. То есть «этическая ценность» здесь исходит из самого усилия, без события бессмысленного, в направлении субъективации. Этика истин не дает ответа на вопрос, какие отношения устанавливаются между субъектами разных истин, очевидно лишь, что все они, кроме субъектов истины, являются субъектами этики, иначе – субъектами. Джон Локк, отвечая на вопрос о том, какая церковь заслуживает права на терпимость, среди прочего, утверждал: «Те, кто не признает существования божества, не имеют никакого права на терпимость» (Локк, 55). Это сравнение могло бы быть шуткой, если бы не являлось удобной иллюстрацией: не важно, к какой истине вы себя привязали, важно, что вы это сделали, и очень плохо, если такого не случилось.
Настаивая на отсутствии субъекта (который служил точкой сборки идеологического производства у Альтюссера, в которой себя узнавали субъекты с прописной буквы), Бадью при этом проводит различие между субъектами. Субъекту верности противостоят не только не-субъекты, Бадью говорит также о существовании неких плохих субъектов. Их можно описать как тех, кто, будучи затронут событием, «говорят ему нет» (Бадью приводят бывших маоистов, ставших так называемыми «новыми философами», которые встали на защиту демократии от тоталитаризма, отказавшись от проекта эмансипации). Их бытие не чисто негативно, они нечто провозглашают, они отказывают событию, потому что утверждают нынешнее положение вещей, поскольку оно чуть лучше, чем предыдущее. Также Бадью выводит «обскурантистского субъекта», который «взывает к вневременным фетишам». Если реактивный субъект стремится удержать настоящее, отклоняя событие, то обскурантистский субъект (он приводит в пример исламистов) стремится уничтожить настоящее на основании некой вневременной истины. Более того, сама верность истине может оказаться в конечном счете злом: истина, которая забывает о том, что и для нее есть некая неименуемая пустота, что не все мнения и факты (элементы бытия) могут быть поименованы истиной, – такая истина начинает вершиться как зло. Мнения должны оставаться мнениями, несмотря на то что они пересекаются истиной. «Мир в качестве мира есть и пребудет по сю сторону от истинного и ложного. Нет мира, залученного в связность добра… Добро является добром, лишь пока не домогается сделать мир хорошим… Таким образом, нужно, чтобы истина была также и бессилием»[31]. Это можно понять как если бы Бадью накладывал запрет на учреждение неких законченных порядков, основанных на истине. Истина должна оставаться делом активистов, а не государства, в противном случае событие станет катастрофой. С этого же ли места Бадью озвучивает запрет на «обмирщение истины», что и то, с которого он призывал быть субъектом? Соблазн интерпретировать этот запрет в духе теологии слишком велик, чтобы не попытаться дать этой интерпретации ход, хотя такая интерпретация не означает, что мы-де приводим философию Бадью к ее «теологической истине»: благодать не может стать установлением, а принципы христианского братства не могут стать принципами мира, потому что цели мира (организация совместного выживания, например) невозможно привести к целям спасения. Сама ли истина-событие накладывает на себя такое ограничение – отказ от замены мнений, отказ от посягательств на неименуемое – или запрет приходит из другого места? Что это за место? Может быть, место философии, которая наводит порядок в истинах? Или здесь мы встречаемся с элементом Закона, который всеми силами пытается вытеснить Бадью? В любом случае, этот запрет на поглощение истиной всей ситуации исходит не из самой истины. То же самое мы наблюдали и в случае политики: чтобы оставаться мыслью, политика не должна становиться на сторону государства. Истинная жизнь, или жизнь, подвешенная на истину, по Бадью, всегда уклоняется от установленного, потому что истина, как было уже сказано, есть только истина субъекта (Бадью следует здесь за Жаком Лаканом, чья этика психоанализа во многом основывает этику истин Бадью), а субъект никогда не дан – он возникает вместе с событием и живет до той поры, пока верен ему (заметим также, что концепты «верности событию», как и «форсинга истины», Бадью выстраивает через математику, углубляться в которую у нас нет ни компетенций, ни времени). «Неименумое», которое знаменует предел истины, как замечает Бруно Бостелс, является своеобразным аватаром «нерепрезентируемого», благодаря которому истина и смогла прорваться в ситуации. «Почему мышление должно, в каждой из своих родовых процедур, признавать его [неименуемого] важность перед лицом его пустого символа чистого реального, голой жизни, не знающей истин…?»[32]. Бруно Бостелс не дает конечного ответа на этот вопрос, предполагая, что в самом процессе «форсинга истины» встроен призыв не просто «продолжать!», но и «продолжай не забывать, что человек – конечное существо».
Холлворд полагает, что в действительности истину удерживает от катастрофы не что иное, как отличие истины от знания: «…истина никогда не может быть встроена в область знания и объективности»[33], истина держится на неименуемом, где «неименуемое – это реальное истины как таковой; это то, что остается невозможным для истины»[34]. Мы не уверены, что Холлворду удается здесь что-то объяснить: вводя понятие «реальное истины», то есть допуская, что реальное есть также и у самой истины, он просто переформулирует сказанное Бадью: событие именует реальное ситуации, но в самом именовании есть некое реальное, которое нельзя именовать. Далее он справедливо утверждает, что только субъект может ограничить истину, которой он верен: зло возникает лишь как следствие истины. По этой причине риск зла невозможно нейтрализовать полностью. Здесь важно точно уяснить: является ли зло собственной возможностью истины или же зло – результат ее «неправильного форсинга». Пытаясь понять ограничение на именование как имманентный истине принцип, Холлворд утверждает, что требование «продолжать» предполагает также «обходить зло», не дать истине обернуться злом, чтобы истина могла продолжаться. Иначе, здесь утверждается, что зло не является закономерным развертыванием истины, но ее прерыванием как «незаконной возможностью». Холлворд, как и мы, сомневается в статусе запрета на подобающее развертывание истины: он задается вопросом: «Не делает ли Бадью фактически уступку перед некоего рода этическим присмотром за истиной?»[35]. Холлворд полагает, что Бадью следовало бы перепродумать отношения мнения и истины таким образом, чтобы наделить мнения более ценным статусом и ослабить онтологическую непримиримость истины/мнения.
Бостелс цитирует слова Бадью, произнесенные им в ходе интервью, которое брал Холлворд: «По существу, признавая квазионтологическую категорию неименуемого, я сделал уступку вездесущему морализму 1980-х и 1990-х годов. Я сделал уступку навязчивой вездесущности проблемы зла»[36]. И также: «Вполне возможно, что категория неименуемого может оказаться нерелевантной. <…> Катастрофа больше не будет состоять в желании поименовать неименуемое любой ценой, но скорее в утверждении, что переход от несуществования к существованию возможен в этом мире без того, чтобы за это платить. Суммируя сказанное, я возвращаюсь назад к максиме китайских коммунистов времен Культурной революции "Нет создания без разрушения". Этика состоит в приложении этой максимы с ясностью и умеренностью. Все, что начинает существовать, или все, что строится, мы должны спрашивать: обладает ли оно универсальной ценностью, которая могла бы оправдать частичное разрушение, которое требует его появление?»[37]. Он продолжает, что «неименуемое» – малопригодное слово для того, о чем он хочет сказать. Речь идет о том, что истина, из которой верностный субъект выводит последствия, не имеет последствий для некоторых вещей. «Субъект портится, когда принимает за возможное последствие события нечто, что в действительности не является его последствием. Если кратко, речь идет о логической заносчивости»[38].
Можно проследить аналогию проблемы «неименуемого» для истины у Бадью с проблемой «неусваиваемого» у Лакана. В семинаре «Психозы», там, где Лакан говорит об отношении субъекта к означающему, он произносит следующее: «На самом деле существует нечто принципиально неусваиваемое означающим. Просто говоря, это индивидуальное существование субъекта. Почему он здесь? Откуда он? Что он тут делает? Почему ему предстоит исчезнуть? Означающее не может дать ему на это ответ, потому что для него он уже по ту сторону. Означающее заранее рассматривает его как мертвого, в нем он по сути своей бессмертен»[39]. Субъект, находящий свое место в символическом, ничего не знает о своем индивидуальном и одновременно родовом бытии (не в бадьюанском смысле) – о своем биологическом происхождении от другого человека. Речь идет не о том, что субъект не способен об этом говорить: скорее дело здесь в том, что появление субъекта в символическом и появление индивида в бытии – это несоизмеримые величины. Очевидно, Бадью движется в логике Лакана: субъект истины, во-первых, не обитает в плане бытия, во-вторых, попытка исчерпывающим образом поименовать бытие, распространить последствия события на животное бытие индивида как таковое, была бы невозможным жестом. Более того, этически опасным, поскольку животное бытие, таким образом, в пределе становится жертвой истины, которая ничего не знает о смерти и рождении. Особо интригует здесь не только само понятие «неусваиваемого» Лакана и его очевидная связь с понятием «неименуемого» Бадью, но и лакановское выражение «в нем он по сути бессмертен». Можно заключить, что Лакан представляет символическое измерение как такое, где смерть и жизнь как таковая недоступны. Отсюда – некоторый эффект бессмертия. Бадью же продолжает развивать мысль о бессмертии, используя фигуру бессмертия в строении своей этики. Однако вопрос, на который мы не можем дать здесь ответ, состоит в том, каковы концептуальные границы бадьюанского «бессмертия», становится ли бессмертие здесь чем-то большим, чем «бессмертие» в символическом у Лакана.
Как утверждает сам Бадью, его этика истин – ответ на «этизацию политики» и на тот «пассивный нигилизм», который основывает свою «этику» на фигуре «радикального Зла». Коль скоро Бадью исключает универсальный субъект разума, который, в свою очередь, мог бы сообщать моральные законы, а субъект производится только в событии, следовательно, в самих производящих субъект событиях должно быть что-то, что имеет отношение к добру, злу или моральному требованию. Не то или иное событие, образующее локальный субъект, но всякое событие, как его понимает Бадью, должно быть одновременно чем-то этическим. Или, не будучи чем-то этическим, производить субъект, который является этическим. Нет сомнений, все, что только может относиться к этике у Бадью, располагается на стороне события и истины. Как мы уже говорили выше, когда упоминали реактивных и обскурантистских субъектов, зло у Бадью тоже определяется через событие – через его отрицание или фальсификацию. Следует ли из этого заключить, что верность событию есть нечто само по себе этическое? И если да, то почему? Как бы мы ни манипулировали с понятием «этики», едва ли возможно изъять из него смысл ориентации на другого человека. Сколь бы мы ни сводили этику к чистому долгу, последний едва ли бы имел смысл, если бы исполняющий его не предполагал наличие таких же знающих долг разумных существ. В разуме, как и законе, участвуют многие. С некоторой натяжкой можно сказать, что некто хочет поступать в согласии с разумом потому, что быть разумным для него – это возможность возможностей, нечто, что не просто есть у субъекта, но что делает субъекта субъектом. Я не принимаю благо быть разумным; чтобы быть.
Я, нужно соучаствовать в разуме. У Бадью мы можем найти подобную картину. В том, насколько он явно и без экивоков высказывает то, что является высшим благом, есть нечто нарочито-провокационно-классичное, или, иначе, архаичное: «У Аристотеля есть формулировка, которую я люблю и часто повторяю: "Жить бессмертно". У этого аффекта есть другие имена – "блаженство" у Спинозы, "Сверхчеловек" у Ницше. Я думаю, что есть аффект истинной жизни… Этот аффект – утвердительно ощущение расширения индивида, возникающее, когда он начинает принадлежать субъекту истины»[40]. Классичность и смелость Бадью состоит в том, что он не мыслит этику без того, чтобы мыслить некое высшее состояние, доступное смертному. Возможна ли философия, «достойная своего имени», которая бы не полагала нечто подобное?





