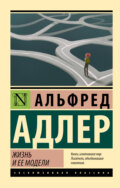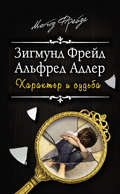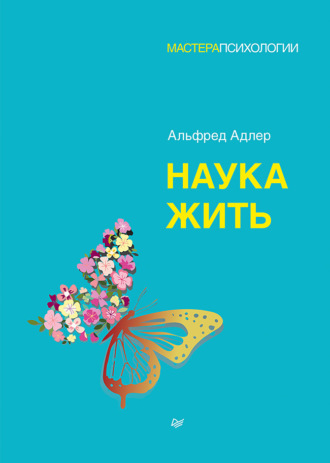
Альфред Адлер
Наука жить
История и легенды рассказывают о многочисленных случаях, когда младшие дети обретают выдающуюся силу. Приведем в пример библейского Иосифа, который превзошел всех остальных. Тот факт, что младший из братьев был рожден в семье, с которой не знался многие годы после того, как покинул дом, не поменял ситуации: он оставался в положении младшего. Такое же описание встречается во всех сказках, в которых младшему ребенку принадлежит ведущая роль. Несложно проследить, как подобные характеристики появляются в раннем детстве и не меняются до того момента, пока персонаж не постигнет собственной сущности. Для того чтобы исправить ребенка, нужно дать ему осознать, что случилось с ним в первые годы жизни. Кроме того, ему необходимо объяснить, что его прототип ненадлежащим образом влияет на все его жизненные ситуации.
Ценным инструментом для понимания прототипа и, следовательно, природы индивидуума является изучение ранних воспоминаний. Все наблюдения и знания приводят нас к выводу, что воспоминания человека так или иначе принадлежат прототипу. В качестве иллюстрации приведем такой пример. Представьте ребенка первого типа, с поврежденными органами – скажем, со слабым желудком. Если он помнит, что́ видел или слышал когда-либо, то, вероятно, это будет тем или иным образом относиться к пище. Аналогичным образом будет вести себя ребенок-левша: тот факт, что он левша, точно так же будет определять его точку зрения. Человек может рассказывать о матери, которая его баловала, или о рождении второго ребенка; о тех побоях, которые наносил ему грубый отец, или о тех обидах, какие ему причиняли в школе. Эти свидетельства оказываются очень ценны в том случае, если мы освоили искусство чтения их смысла.
Искусство понимания ранних воспоминаний требует способности глубоко сочувствовать, отождествлять себя с ребенком в тех ситуациях из его детства. Только благодаря умению сочувствовать мы можем понять тот сокровенный смысл, который приобретает в детской жизни ожидание появления в семье младшего ребенка, или то влияние, которое оказывает на ум ребенка жестокость грубого отца.
И, коль об этом зашла речь, нельзя не подчеркнуть, что наказания, наставления и поучения ничего не дают. Невозможно ничего добиться, если ни ребенок, ни взрослый не знают, что именно нужно изменить. Когда ребенок чего-то не понимает, он становится хитрым и трусливым. Его прототип, однако, невозможно поменять с помощью наказания или поучений. Его не меняет и простой жизненный опыт, потому что он уже соответствует личной схеме апперцепции индивидуума. Только добравшись до основы личности, можно достичь каких-либо изменений.
Если мы понаблюдаем за семьей с плохо развитыми детьми, то увидим, что, хотя все они имеют нормальные умственные способности (в том смысле, что на заданный вопрос они дают правильный ответ), тем не менее у них обнаруживается огромное чувство неполноценности, которое выражается в различных симптомах и проявлениях. Безусловно, ум – это не обязательно здравый смысл. У этих детей имеется сугубо личная (можно даже сказать, субъективная) ментальная установка того рода, которая встречается у невротических личностей. Например, при неврозе навязчивых состояний пациент осознает бесполезность постоянного подсчета окон, но не может остановиться. Тот, кто заинтересован в полезных вещах, никогда не будет действовать подобным образом. Субъективное, сугубо личное восприятие и манера выражаться также характерны для душевнобольных. Они никогда не говорят на языке здравого смысла, который представляет высшую степень развития социального интереса.
Если мы сопоставим суждение на основе здравого смысла с субъективным суждением, то обнаружим, что суждение на основе здравого смысла в большинстве случаев оказывается верным. С помощью здравого смысла мы различаем хорошее и плохое, и, хотя в сложной ситуации мы нередко ошибаемся, эти ошибки имеют тенденцию к корректировке благодаря самому движению здравого смысла. Но те люди, которые всегда озабочены лишь своими частными интересами, не могут отличить хорошее от плохого столь же легко, как другие. Откровенно говоря, их неспособность к этому практически лежит на поверхности, ведь все движения их души прозрачны для стороннего наблюдателя.
Теперь обратим внимание на то, каков обычный сценарий совершения преступлений. Если мы рассмотрим умственные способности, особенности мышления и мотивы преступника, то обнаружим, что он всегда считает свои деяния не просто хорошо продуманными, но и героическими. Он уверен, что достиг превосходства над окружающими и стал умнее полиции. Поэтому себе самому он представляется героем, не замечая, что его реальные действия указывают на нечто совершенно другое, отнюдь не героическое. Недостаток социального интереса, который переводит активность преступника на бесполезную сторону жизни, связан с недостатком смелости, трусостью, но он этого не осознает. Те, кто настроен на бесполезную деятельность, часто боятся темноты и изоляции; они желают быть рядом с кем-то. Это обычное проявление трусости, другого определения здесь быть не может. В действительности лучшим способом искоренить преступность было бы довести до сведения каждого человека, что преступление – это не более чем выражение трусости.
Известно, что некоторые преступники, когда их возраст приближается к тридцати, начинают работать, женятся и становятся впоследствии добропорядочными гражданами. Что с ними происходит? Возьмем, к примеру, вора-взломщика. Может ли тридцатилетний вор соревноваться со своим «коллегой» двадцати лет? Последний, как правило, сообразительнее и сильнее. Более того, в тридцать лет преступник бывает вынужден жить иначе, чем прежде. В итоге занятие преступника больше не окупается, и он предпочитает отойти от дел.
Рассуждая о преступниках, нужно также иметь в виду еще один факт. Усиливая наказание, мы – вместо того чтобы напугать преступника – всего лишь укрепляем его веру в то, что он герой. Не следует забывать, что преступник живет в эгоцентричном мире, в котором не найти настоящей смелости, уверенности в себе, чувства общности или соблюдения привычных человеческих ценностей. Для таких личностей невозможно присоединиться к обществу. Невротики редко устраивают клубы по интересам, а для людей, страдающих агорафобией, или душевнобольных это и вовсе непосильная задача. «Трудные» дети или самоубийцы никогда не имеют друзей – это факт, причина которого до сих пор оставалась невыясненной. Тем не менее объяснение здесь простое: у них нет друзей, потому что с детства их жизнь развивалась в направлении эгоцентризма. Их прототипы были направлены на ложные цели, а дальнейший путь – к бесполезной стороне жизни.
Давайте рассмотрим программу, которую предлагает индивидуальная психология для воспитания и обучения невротиков – невротичных детей, преступников и пьяниц, пытающихся подобным образом избежать полезной стороны жизни.
Для того чтобы легко и быстро понять, что конкретно с ними не так, мы начинаем с расспросов о том, когда появилась проблема. Обычно вина возлагается на какую-либо новую ситуацию. Но это ошибочное суждение, так как еще до того, как спорное событие свершилось, наш пациент не был готов к данной ситуации (что очень скоро выясняется в процессе обследования). В течение всего времени, пока условия вокруг него были благоприятными, ошибки его прототипа оставались незаметными, так как каждая новая ситуация по природе является экспериментом, на который индивидуум реагирует в соответствии со своей схемой апперцепции, созданной его прототипом. Впрочем, его ответы представляют собой не просто реакции: в них присутствует доля творчества, хотя они по-прежнему соответствуют цели, доминирующей в его жизни. Еще в начале наших занятий индивидуальной психологией практический опыт научил нас, что важность наследственности можно исключить точно так же, как важность любой отдельной части. Не вызывает сомнения тот факт, что прототип отвечает на любую конкретную ситуацию, опираясь на собственную схему апперцепции. И именно над схемой апперцепции мы должны работать, чтобы получить результаты.
В этом и заключается подход индивидуальной психологии, который разрабатывался в течение последних двадцати пяти лет. Как нетрудно заметить, индивидуальная психология прошла большой путь в новом направлении. В психологии и психиатрии существует много разновидностей. Один психолог выбирает одно направление, другой – другое, и ни один из них не считает другого абсолютно правым. Возможно, и читатель тоже не должен полагаться на убеждения и веру. Предоставим ему возможность сравнить. Он увидит, что мы не можем согласиться с тем, что называется гормической психологией (самым известным представителем этого направления в Америке является Макдугалл[3]), потому что в социальных инстинктах слишком много места отводится наследственным тенденциям. Точно так же мы не можем полностью разделить и бихевиористскую теорию, с ее «обусловленностью» и «реакциями». Бесполезно конструировать судьбу и характер индивидуума из социальных инстинктов и реакций, если мы не понимаем цели, к которой все эти движения направлены. Ни одна из перечисленных разновидностей психологической науки не оперирует терминами индивидуальных целей.
Не исключено, что при упоминании слова «цель» у читателя, скорее всего, сложится неясное впечатление. Идею необходимо конкретизировать. В конце концов, иметь цель означает претендовать на то, чтобы быть как Бог; впрочем, быть как Бог – это, безусловно, высшая цель, другими словами, цель всех целей. Любой воспитатель должен быть осторожен в своих попытках воспитывать самого себя и своих детей так, чтобы быть подобными Богу. На практике мы обнаружили, что ребенок в своем развитии заменяет данную цель на более конкретную и актуальную. Ребенок находит в своем окружении самую сильную личность и выбирает ее в качестве своей модели или цели. Это может быть отец или же мать, так как мы выяснили, что даже мальчик может иметь тенденцию подражать матери, если она оказывается самой сильной личностью. Далее ребенок может захотеть стать, к примеру, кучером, потому что вдруг придет к выводу, что кучер сильнее всех в мире.
Когда у ребенка впервые появляется столь конкретная цель, он начинает вести себя, чувствовать и одеваться как кучер, приобретая все черты, соответствующие его цели. Но как только, скажем, полицейский шевельнет пальцем, кучер тут же обращается в ничто… Следующим идеалом может стать врач или учитель. Учитель, имеющий право наказывать учеников, вызывает у ребенка уважение, как сильная личность.
При выборе цели у ребенка имеется набор конкретных символов, и нам удалось обнаружить, что цель, которую он выбирает, в действительности является отражением его социального интереса. Если мальчик на вопрос, кем он хочет стать, отвечает: «Я хочу стать палачом», это демонстрирует недостаток его социального интереса. Получается, этот мальчик хочет быть хозяином жизни и смерти, то есть играть роль, которая принадлежит Богу. Он желает быть сильнее, чем общество, и таким образом рискует отправиться по пути бесполезной жизни. Отметим, что цель стать доктором также организована вокруг богоподобного желания быть хозяином жизни и смерти, но в этом случае цель достигается посредством социального служения.
Глава 2. Комплекс неполноценности
Использовать термины «сознательное» и «бессознательное» для обозначения различающихся факторов в практике индивидуальной психологии не совсем корректно. Сознательное и бессознательное движутся вместе в одном направлении и не противоречат друг другу, как часто ошибочно думают. Более того, между ними нет четкой разграничительной линии. Вопрос заключается скорее в том, чтобы раскрыть цель их совместного движения. Невозможно решить, что является сознанием, а что – нет, до тех пор, пока не известен весь контекст. Этот контекст обнаруживается в прототипе, то есть в том жизненном шаблоне, который мы анализировали в предыдущей главе.
В качестве иллюстрации тесной связи между сознательной и бессознательной жизнью приведем конкретный случай. Сорокалетний женатый мужчина страдал от навязчивого желания выпрыгнуть из окна и постоянно боролся с этим желанием. В остальном же в его жизни все было хорошо: у него были друзья, хорошая должность и он счастливо жил с женой. Чтобы объяснить его случай, невозможно обойтись без термина «сотрудничество» сознательного и бессознательного. Сознательно он испытывал чувство, что должен выпрыгнуть из окна. Тем не менее на самом деле он никогда даже не пытался это сделать и продолжал вести обычную жизнь. Причиной этому была другая сторона его жизни, где борьба с желанием совершить самоубийство играла важную роль. В результате сотрудничества этой бессознательной стороны его натуры и его сознания он оказывался победителем. В действительности в рамках своего «образа жизни» (здесь мы используем термин, о котором поговорим подробнее в следующей главе) он был победителем, достигшим требуемой цели – превосходства. У читателя может возникнуть вопрос: как мог этот мужчина чувствовать превосходство, если его постоянно мучила сознательная склонность к самоубийству? Ответ заключается в том, что в его существе было нечто, успешно противостоявшее его суицидальным тенденциям. Именно его успех в этой битве сделал его победителем и высшим существом. Объективно же его борьба за превосходство была обусловлена его собственной слабостью, как это часто бывает с людьми, которые чувствуют себя неполноценными в каком-либо отношении. Тем не менее важно то, что в его личном сражении стремление к превосходству, жажда жить и побеждать выиграли у его ощущения неполноценности и желания умереть, несмотря на то что последнее было проявлено в сознательной части его натуры, а первое – в бессознательной.
Теперь необходимо проследить, подтверждает ли нашу теорию развитие прототипа данного человека. Для этого мы проанализировали его детские воспоминания. Из них мы узнали, что в раннем возрасте у него были трудности в школе. Отношения с другими мальчиками у него не сложились, и ему хотелось убежать от них. Однако он собрал все свои силы, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Таким образом, здесь уже заметно его старание преодолеть собственную слабость. Он не обратился в бегство от своей проблемы – и одержал над ней верх.
Проанализировав характер этого пациента, мы поймем, что победа над страхом и тревогой являлась главной целью в его жизни. В стремлении к этой цели его сознательные идеи взаимодействовали с бессознательными, сформировав в итоге единство. Напротив, если же мы не будем воспринимать любое человеческое существо как совокупность подобных противоречий, то нам придется заключить, что данный пациент не достиг превосходства и не добился никакого успеха, а был всего лишь амбициозной личностью, желая бороться, но в глубине души оставаясь трусом. Однако такое мнение было бы ошибочным, так как оно не принимало бы во внимание все подробности этого случая и не интерпретировало бы их с учетом единства человеческой жизни. Вся наша психология, все наше понимание или стремление понять индивидуумов было бы тщетным и бесполезным, если бы мы не были уверены в том, что человеческое существо представляет собой единство. Если мы вдруг допустим возможность существования двух сторон, не связанных друг с другом, будет невозможно рассматривать жизнь как единое целое.
В дополнение к тому, чтобы рассматривать жизнь индивидуума как единство, мы также должны учитывать контекст социальных связей. Новорожденные дети слабы, и их слабостью обусловлена необходимость того, чтобы окружающие заботились о них. Образ, или модель, жизни ребенка невозможно понять, не учитывая, кто о нем заботился и восполнял его неполноценность. Ребенок находится в тесных отношениях с матерью и семьей, и отношения эти невозможно было бы понять, если бы мы в нашем анализе ограничивались только периферией физического существования ребенка в пространстве. Индивидуальность ребенка выходит за рамки его физической индивидуальности, она включает в себя весь контекст его социальных связей.
Все, что относится к ребенку, в определенной степени применимо также к людям в целом. Слабость, которая и диктует необходимость существования ребенка в семейной группе, можно сравнить со слабостью, побуждающей всех нас жить в обществе. Каждый человек чувствует себя неполноценным в определенных ситуациях. Он ощущает себя перегруженным жизненными трудностями и зачастую не способен противостоять им в одиночку. Следовательно, одной из самых сильных тенденций в человеке является тенденция присоединяться к группе людей для того, чтобы жить как член общества, а не изолированный индивидуум. Без сомнения, жизнь в обществе оказывает ему существенную помощь в преодолении чувства несостоятельности и неполноценности.
Известно, что подобная закономерность действует в мире животных, среди которых более слабые виды всегда живут группами, поскольку объединение сил помогает каждому из них удовлетворять свои индивидуальные потребности. Так, например, стадо буйволов может защитить себя от волков. Один буйвол не справился бы с этим, но в группе они становятся голова к голове и отбиваются копытами до тех пор, пока противник не ретируется. С другой стороны, гориллы, львы и тигры могут жить отдельно друг от друга, потому что природа дала им надежные средства для самозащиты. Что же касается человеческих существ, то у них не имеется внушительной силы, мощных когтей и острых зубов, поэтому они не могут жить изолированно. Таким образом, главной причиной социальной жизни является слабость индивидуума.
Принимая во внимание данную слабость, мы не можем ожидать, что у всех человеческих существ в обществе будут равные способности и умения. Однако правильно устроенное общество, как правило, вовремя оказывает нужную поддержку своим членам. Данное обстоятельство не следует упускать из виду, так как иначе нам придется предположить, что об индивидуумах нужно судить исключительно исходя из их врожденных способностей. В действительности же индивидуум, которому могло бы недоставать определенных умений при изолированной жизни, без особых проблем компенсирует свои недостатки в правильно организованном обществе.
Предположим, что недостатки, которыми обладает каждый из нас, являются врожденными. В таком случае цель психологической науки состоит в том, чтобы приучать людей жить в согласии с окружающими, сглаживая тем самым воздействие их возможностей, ограниченных от природы. История социального прогресса предоставляет массу примеров человеческого сотрудничества на пути к преодолению подобных дефектов и недостатков.
Всем известно, что язык является социальным изобретением, но только немногие осознают, что «матерью» этого изобретения стали индивидуальные дефекты. В любом случае поведение детей в раннем возрасте наглядно демонстрирует справедливость данного тезиса. Когда желания детей не удовлетворяются вовремя, они стараются привлечь внимание окружающих – и применяют для этого своеобразный язык. Если бы ребенку не нужно было привлекать к себе внимание, он вообще не стал бы пытаться разговаривать. Так обстоит дело в первые месяцы его жизни, когда мать ребенка обеспечивает все, чего желает ребенок, до того, как он начинает говорить как следует. Известны случаи, когда дети не разговаривали вплоть до шести лет, потому что им никогда это не требовалось. Эту тенденцию хорошо иллюстрирует случай ребенка, родители которого были глухонемыми. Когда он падал и ушибался, он плакал, но плакал беззвучно. Он понимал, что любой звук бесполезен, ведь родители все равно не услышат его. Поэтому он всем своим видом показывал, что плачет, чтобы привлечь внимание родителей, но никаких звуков не издавал.
Таким образом, мы делаем вывод, что в каждом случае нужно рассматривать весь социальный контекст фактов, доступных для изучения. Внимание к социальному окружению поможет понять ту особую «цель превосходства», которую выбирает индивидуум. Кроме того, анализируя социальную ситуацию, мы можем выяснить, что именно вызывает затруднения. Многие люди оказываются плохо адаптированы в обществе, потому что не способны установить нормальный контакт с другими посредством языка. Ярким примером подобного является заикание. Если исследовать человека с заиканием, обнаружится, что с самого начала своей жизни он никогда не обладал надлежащей социальной адаптацией. Он не стремился участвовать в какой-либо деятельности и не желал иметь друзей или товарищей. Для развития речи ему требовалось общение с другими, но он не хотел общаться – поэтому его заикание никуда не делось. В целом заикам свойственны две противоположные тенденции: к общению с другими людьми и к изоляции от них.
Позднее, уже во взрослом возрасте, люди, избегающие социальной жизни, оказываются неспособными выступать на публике, испытывая боязнь сцены. Причина в том, что они считают членов аудитории своими врагами. У них возникает чувство неполноценности, когда они сталкиваются с внешне враждебной и подавляющей аудиторией. Дело в том, что человек может хорошо говорить, только если уверен в себе и в своих слушателях, и лишь в этом случае он не будет страшиться публичного выступления.
Итак, чувство неполноценности и проблема социального воспитания тесно связаны друг с другом. Поскольку чувство неполноценности возникает на почве социальной дезадаптации, именно социальное воспитание становится тем базовым методом, с помощью которого каждый из нас может преодолеть свое чувство неполноценности.
Между социальным обучением и здравым смыслом существует прямая связь. Утверждая, что люди решают свои проблемы с помощью здравого смысла, мы имеем в виду объединенный разум социальной группы. С другой стороны, как мы уже отмечали, люди, изъясняющиеся личным языком и опирающиеся на личное восприятие, демонстрируют таким образом свою ненормальность. К этому типу относятся душевнобольные, невротики и преступники. Не секрет, что они не проявляют интереса ко многому: к окружающим людям, общественным институтам, социальным нормам, хотя именно через это и пролегает дорога к их спасению.
При работе с такими личностями наша главная задача заключается в том, чтобы пробудить в них интерес к социальным фактам. Невротические личности всегда чувствуют себя оправданными, если проявляют добрые намерения. Однако здесь необходимо нечто большее, чем просто добрые намерения. От нас требуется помочь им понять, что для общества имеет значение то, чего они на самом деле достигают, что отдают ему.
Хотя чувство неполноценности и стремление к превосходству представляют собой универсальные тенденции, было бы ошибкой считать это доказательством того, что все люди равны между собой. Неполноценность и превосходство являются общими условиями, которые руководят поведением всех людей, но, кроме этих условий, существуют также различия в физической силе, здоровье и окружающей обстановке. По этой причине в одних и тех же условиях индивидуумы совершают разные ошибки. К примеру, исследуя поведение детей, мы увидим, что у них не имеется единой, неизменной и правильной манеры реагирования. Каждый ребенок реагирует по-особому, собственным способом. Все они стремятся к лучшим условиям жизни, но каждый достигает успеха по-своему, совершая свои собственные ошибки.