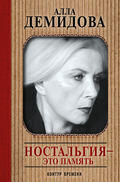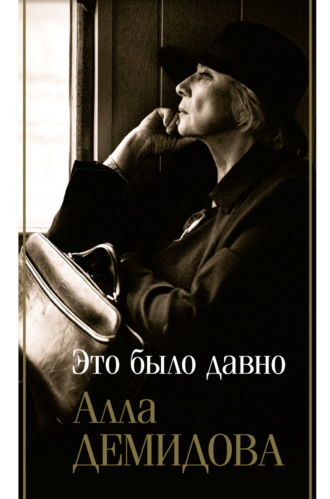
Алла Демидова
Это было давно: Дневники. Воспоминания. Путешествия
Пароход до Gardone – это фабричный поселок, который в ясную погоду можно было видеть с балкона нашего отеля – шел часа два. Когда мы подплыли, то увидели совершенно отвесные скалы, и в небольшом углублении между ними, где низкий берег, расположился этот поселок. Над ним с крутой отвесной скалы низвергался водопад, но на последнем отрезке пути он был запрятан в большую черную фабричную трубу. Мы с Татьяной подивились умению людей заставлять работать на себя дикую природу.

Гранд Отель в Гардоне. на озере Гарда. Фото начала ХХ века
Когда мы сошли с парохода и очутились на улицах Gardone, было уже около 11 часов и солнце припекало нещадно. В Ботаническом саду было попрохладнее, огромные деревья, давали тень. Сад мне понравился, но все равно, я думаю, что наш Никитский сад в Крыму намного больше и богаче. Здесь для этого сада было мало места, особенно для массы экзотических растений. Он скорее напоминали музей, а не сад. Владимир Федорович останавливал наше внимание то на одном, то на другом экзотическом экземпляре, но рассказывал мало, приводя только в некоторую связь все эти разнообразные кустарники, деревья и цветы.
После экскурсии в Ботаническом саду мы были предоставлены сами себе до вечера, так как пароход отходил к нашему берегу где-то около 7 часов. Мы с Татьяной пошли гулять по узким улочкам поселка, иногда заходили в частные сады – благо они все открыты – и подолгу сидели около какого-нибудь мостика, перекинутого через горный поток, в зарослях бамбука, то поднимались по еле заметным тропинкам вверх, мимо неглубокой речушки. Мне запомнились громадные агавы в каком-то саду, из них одна собиралась цвести и уже выбросила цветочную стрелу аршина полтора длиною. Я никогда не видела таких громадных экземпляров. Очень нам понравились олеандровые деревья, которые тогда стояли в полном цвету. В другом саду были чудные розы совершенно немыслимых сортов и оттенков. Мы набродились по садам до головной боли, и Татьяне стало совсем дурно. Наконец добрели до местного отеля Benaco (кстати, итальянское название озера Гарда) и могли посидеть в кафе и выпить кофе.
На набережной, когда мы ждали пароход, нас окружили итальянские ребятишки, очень хорошенькие и веселые. Они были страшно любопытны. Окружили нашего Петра Николаевича, который покупал у местного торговца бамбуковую удочку. Кричали, давали советы. Татьяна, как опытный педагог, пыталась наладить с этими ребятами взаимоотношения, но они, как птицы, не сосредоточивались долго ни на чем.
Когда мы в следующий раз уже с нашими поехали в эти места, мы знали, куда идти. Заходили в прекраснейший костел с разноцветными витражами. На пристани Gargnano мы один раз видели католических монахов, босоногих, в грубых одеждах какого-то коричневого цвета, подпоясанных веревками, с круглыми шапочками на головах, прикрывающими тонзуру. Лица их меня тогда поразили грубостью выражения.
А в тот раз, когда мы приплыли домой, нам сказали, что не все наши путешественники в горы вернулись и что там не все благополучно: горная дорога была усыпана настолько острыми камнями, что у многих, в том числе у Сережи и у Александры Васильевны, разорвалась обувь – веревочные туфли на толстой подошве, купленные специально для хождения по горам. Они шли по острым камням почти босиком. Другие же, и между ними и Люся, страшно устали и идут так медленно, что вряд ли будут дома раньше часа ночи. Мы заволновались, хотели идти им навстречу, но тут вернулся Сережа, мой драгоценный брат. Он рассказал, что шли они все вразброд. Сережа в компании четырех человек, с ними была и Александра Васильевна. Пришли на вершину около 12 часов, и с 2 часов стали спускаться. Вот тут-то и приключилась с ними эта беда с обувью. Ступать на острые камни мучительно больно. Все ноги у Сережи были в ссадинах. У Александры Васильевны обувь разорвалась, когда они шли еще туда, добраться до вершины она не могла и ждала их на спуске. Когда они спускались, стала портиться погода: подул довольно сильный и холодный ветер. Да и мы видели начинающееся волнение на озере. Сережа понял, как он рассказывал, что дойти до отеля в такой обуви немыслимо и, оставив Александру Васильевну на спуске около удобного камня, поспешил к нам за помощью. Эфрос спешно снарядил в помощь проводника-итальянца в сопровождении самого signor Gulio с обувью, едой и вином. Отстающие стали возвращаться постепенно только после 2 часов ночи. Когда я встретила Александру Васильевну, так обрадовалась, что расцеловала ее. Она шла с некоторым усилием, но уже слегка улыбалась. Она сказала, что чувствовала себя очень скверно, что они уже совсем было решили заночевать в горах, но очень помогли спасатели, пришедшие с вином и обувью. «Даже не обувь была здесь главной, – с улыбкой говорила она, – а сознание, что о нас не забыли товарищи. Я после этого легко прошла оставшийся путь, только устала смертельно».
Пришедшие все хвалили Сережу, как он пытался помочь, но когда понял, что он один не справится, поспешил за помощью. Я была рада за него. После 3 часов пришли последние, в том числе наша Люся; она была в таком изнеможении, что еле открывала глаза и заснула как убитая в тот же момент, как голова ее коснулась подушки.
Но наше беспокойство ту ночь не кончилось на этом. Дело в том, что профессор Цебриков с несколькими молодыми людьми уехал кататься на лодке, когда еще не было ветра. И они все не возвращались, хотя на озере нарастали волны и ветер усиливался. Я ушла наверх, на нашу темную верхнюю террасу и долго стояла там, всматриваясь в туманную даль. В ушах у меня стояли слова плачущей Antoinette: «Наш профессор! Господи, где же они? Те, что на горе, придут, ну приползут в крайнем случае; а те, что на озере… ведь они могут не вернуться!» Между тем озеро все сильнее волновалось. Одна за другой вставали огромные волны. Уже было темно, и только слышался грозный шум прибоя. На том берегу была отвесная скала, о которую, как скорлупа ореха, разобьется наша лодочка. Мы были в панике, но ничем не могли им помочь. Единственная надежда на маленький островок Oliva, лежащий почти в середине озера; да и тот может их спасти, если они попали на него до бури, так как он тоже скалист. Или, может быть, счастливый случай прибьет их как раз к одному из немногих низких мест того берега, где расположен поселок. Был уже 4-й час утра, с горы вернулись все, а буря не утихала, и все наши попытки послать большую парусную или моторную лодку были тщетными. В 5-м часу я почувствовала, что не в состоянии больше ни сидеть, ни стоять: ведь это была вторая бессонная ночь. Но проснулась я все же рано, часу в 8-м. Оказалось, что профессор с молодыми людьми вернулись. После 5 часов утра буря стала утихать, и тогда на розыск послали две парусные лодки: одну к тому берегу, другую на остров, где их и нашли. Пережили они, конечно, ужасную ночь, думали, что не вернутся живыми. На остров они попали еще до бури, но отойти от него уже не могли. В разгар бури волны перекатывались через скалу острова, и они думали, что их просто смоет волной. Пережидали они в каких-то углублениях берега, в небольших пещерах.
Утром озеро лежало перед нами спокойное, прозрачное, синее; мягко освещенное солнцем, и в совершенно прозрачном воздухе вырисовывались скалы другого берега.
Эта ночь останется для меня навсегда памятной еще и по особому чувству братства и любви ко всем людям перед надвигающейся опасностью. Я не забуду ни слезы Antoinette, ни усилия повара-итальянца до 3 часов ночи накормить непременно горячим всех возвращающихся с горы, ни содержателя отеля signor Gulio, который сначала с проводником пошел в горы, а потом в 5 часов утра на парусной лодке – к острову. Да, люди все братья, это чувство вырвалось наружу и создало в отеле особенную, очень хорошую атмосферу. Мы постепенно узнавали друг друга лучше и полнее.
Мы все очень любили кататься на лодке, которая в ту памятную ночь доставила нам столько волнений. Лодка была немаленькой, она выдерживала до 8 человек. В нашей компании обычно довольствовались 5-6 людьми. Первые недели мы уходили на лодке почти каждый день, но только часа на полтора, чтобы успеть отдать ее следующим жаждущим покататься.
К нашей компании присоединилась Антонина Георгиевна Федорова, знакомая мне по Москве фельдшерица. Она оказалась очень хорошим человеком, сердечным, чутким и, вместе с тем, сильным и смелым. Она, кстати, была единственным человеком с медицинским образованием, к которому можно было обратиться за советом, и поэтому вокруг нее крутилось всегда много пациентов. На лодке она предпочитала ездить с нами, так как нашу компанию считала самой смелой. Особенно нам нравилось кататься на лодке поздно вечером, когда стемнеет. В черной воде играли огни берега, темные скалы надвигались на нас, а низкое небо с блестящими большими звездами было просто сказочно. Иногда начинались астрономические беседы; Александра Васильевна и я немного знали расположение звезд, учили остальных находить созвездия, а ботаник Раздорский, который часто присоединялся к нам, делился астрологическими знаниями, что особенно интересовало нашу Люсю. Она была по астрологическому календарю Весами, считала, что Луна – это ее знак и поэтому любила, когда ночи были особенно лунными.
Одна из прогулок в лодке по озеру была необычна. Дело было утром, накануне отъезда 2-й группы, где находилась и Антонина Георгиевна. Нас было шесть человек: Орлов, Татьяна, Александра Васильевна, Антонина Георгиевна, Мария Семеновна и я. Антонина Георгиевна была в очень хорошем настроении; говорила, что завтра не хочет уезжать, с удовольствием осталась бы с нашей группой, так как очень привязалась к нам. И мы решили плавать на лодке дольше, чем обычно, нам хотелось доставить себе наслаждение на прощание. Лодка шла довольно быстро на двух парах весел. На середине, хотя озеро казалось совершенно спокойным, лодку начало качать. Антонина Георгиевна опять сказала, что любит нашу компанию за смелость. Из нас всех она почему-то особенно любовно относилась к Александре Васильевне и называла ее Шурочкой, говорила, что у нее была такая милая знакомая, которую тоже звали Шурочкой. Александра Васильевна немного смущалась, но не теряла доброго расположения духа. Во время пути завязался разговор о том, что есть хорошего и дурного в жизни. Орлов развивал теорию, что в жизни все происходит к лучшему и все в итоге кончается хорошо. «По крайней мере, в моей жизни», – прибавил он. Рассказал о своей юности, как он был исключен из одной семинарии за сношения с группой социал-революционеров, еле окончил курс, так как едва добился разрешения поступить в другую семинарию; рассказал о своей солдатской жизни, когда ему пришлось служить в какой-то среднеазиатской пустыне, которая осталась в памяти своей своеобразной, оригинальной жизнью. Теперь он вынужден жить за границей, а жена его осталась в России, и он еще не видел своего ребенка – но все это ничего, все образуется, и все несообразности жизни, сыплющиеся на его голову, не сломили его, а воспитали, и жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. «Посмотрите: какое небо! Какое солнце!» – и он запел «Из-за острова на стрежень…» Но я видела, что глаза у него грустные. А Александра Васильевна, когда мы вернулись домой, сказала мне: «Вы заметили: Орлов говорит не то, что думает, он всегда немного наигрывает?» – и я была вынуждена с ней согласиться. Я заметила, что Александру Васильевну особенно интересовал Орлов, его рассказ о учебе в семинарии. Она сказала, что сама училась в епархиальном училище, но добром это училище вспомнить не может, и заключила, что вообще семинарии и епархиальные училища больше калечат людей, чем другие заведения.

Маленькое озеро Тенно и гора Бальдо (Монте Бальдо) на озере Гарда. Фото начала ХХ века
Наша лодка стала приближаться к берегу, и разговор оборвался. Мы подплыли к водопаду. Это не тот водопад, что работает на фабрике и наполовину запрятан в трубу, а свободный, и могучая струя его, начинаясь где-то наверху, падает почти отвесно в озеро. Мы долго стояли возле него и были почти мокрые от его брызг. Вдруг с высоты стали падать камни, мы подумали, что это водопад разбушевался, но когда немного отплыли и посмотрели вверх, то увидели, что падающие сверху камни были приветствием, надо сознаться довольно неуклюжим, со стороны молодых немцев, которые накануне останавливались в нашем отеле, а сейчас стояли высоко-высоко наверху, на совершенно отвесной скале, и, заметив, что камни их обратили наше внимание, принялись весело махать нам платками.
Мы медленно двигались вдоль берега. Совершенно отвесная стена опускалась в озеро, и в прозрачной воде ясно видно такое же отвесное продолжение скалы под водой. У меня закружилась голова, когда я смотрела в эту бесконечную бездну. Наши естественницы, Татьяна и Александра Васильевна, собирали какие-то водоросли для своих гербариев. Мы нашли место на берегу, где можно было причалить, высадились и пошли вверх по пологому зеленому склону, но невысоко, так как боялись за лодку, которую могло смыть. Мы долго молча сидели на склоне и смотрели на противоположный берег. Берег Мальчезине казался менее суровым, чем тот, на котором мы находились сейчас. Был виден Мальчезинский замок и оливковые рощи, а наверху – каменная оголенная громада Monte Baldo.
Прежде чем вернуться домой, мы проехали вдоль берега еще дальше, чтобы вблизи посмотреть то место, где почти по отвесному склону строилось прибрежное шоссе и откуда к нам домой нередко прилетал звук взрывов, предшествуемых легким белым облаком. Шоссе было и сейчас от нас высоко, но мы видели на белой ленте будущей дороги копошащихся рабочих. Лента шоссе, как начерченная, очень выделялась на темном фоне скалы, изредка прерываясь там, где в будущем будет мост или возникал туннель.
Мы вернулись домой в самом прекрасном настроении. А я еще за обедом получила открытку – привет от своих петербургских учениц. На открытке, по странному стечению обстоятельств, были изображены скала, озеро и на нем лодочка; только у нас на Гарда скала гораздо выше, а цвет озера не зеленоватый, а темно-синий.
Накануне отъезда 2-й группы в Венецию, мы устроили прощальный вечер. Много пели, а Владимир Михайлович Цебриков играл на рояле долго и хорошо – не как дилетант. И даже дело не в его прекрасной технике. Он играет, забывая об окружающих, а мы молча могли его слушать часами. Особенно я люблю его импровизации. В это время он иногда что-то говорил, заставляя слушателей войти в строй его образов, услышать в звуках музыкальное воплощение его мыслей. В этот вечер он играл и заставлял нас войти в мир Адриатики и «увидеть» жемчужину Адриатики – Венецию, куда на следующее утро отправлялась 2-я группа.
Владимир Михайлович оказался сложным человеком. Когда мы сюда приехали, 2-я группа, как я уже писала, была здесь. Цебриков у них – главный руководитель. Мне он сначала показался очень старым, может быть из-за его седых волос и некоторой сутулости. Но во время наших пешеходных прогулок он был бодр и крепок, никогда я не замечала, чтобы усталость сказывалась на нем сильнее, чем на других. Его главным образом окружала молодежь. Да и вся группа относилась к нему с таким вниманием и любовью, что это походило иногда на поклонение. Его любила и вся прислуга отеля. На самом деле он был очень обаятелен, относился ко всем очень просто и внимательно. Он любил много говорить на наших вечеринках или во время экскурсий. Правда, когда произносил так называемые тосты, в его речи слышался неприятный пафос и напыщенность. А неискренность тона заставляла предположить несоответствие внешнего и внутреннего содержания. Вторым его недостатком, уже как лектора, являлась некоторая несистематичность изложения, туманность образов. Я думаю, это громадный недостаток для профессора точных наук, которым он был.
Однажды мы отправились на так называемую геологическую экскурсию с Владимиром Николаевичем. Перед прогулкой он нам прочитал довольно сумбурную лекцию на вилле al Solo. Шли мы не торопясь, по шоссе в небольшой поселок Navene, лежащий в километрах шести от Мальчезине. Это последний перед границей итальянский поселок; дальше шоссе уже не идет по берегу озера. По дороге встречались каменоломни, где Владимир Михайлович хотел показать нам ископаемые породы. Но каменоломни были разрушены и покрыты массой мелких обломков, найти там что-нибудь интересное проблематично. Я вспомнила интереснейшие каменоломни на Кавказе, где в разломах действительно можно увидеть чередующиеся слои. Гораздо интереснее была сама дорога, особенно когда выбегала к озеру. Мы прошли мимо отвесной скалы, видимо, коварной, так как недалеко от нее три креста – память о разбившихся путниках. Погода была прекрасная, и ничего не предвещало скорой бури. Правда, иногда облака набегали на солнце, и озеро начинало непривычно хмуриться. Но к этому мы уже привыкли. Несколько дней подряд небо обманывало нас и не такими тучами, но до дождя дело не доходило. Мы шли дальше, тучки разрастались, серела поверхность озера. Вот наконец и Navene. Зашли мы в какую-то крошечную osteri-ю, но нашли там только хлеб, прескверный сыр и всегдашнее красное итальянское вино. Расположились отдохнуть и перекусить кто в крохотной низкой комнате с кирпичным полом, кто на улице перед домиком. Посидели мы недолго, с полчаса. За это время погода изменилась. Небо окончательно покрылось тучами, которые ползли откуда-то с запада. А я давно заметила, еще в России – если тучи с запада – обязательно будет дождь. Небо стало принимать свинцово-зеленую окраску, очень красивую, но разливавшую в воздухе тревожное настроение. Владимир Михайлович вышел на улицу, внимательно посмотрел кругом и сказал: «Эге! Минут через 20 будет гроза; спасайтесь, господа!» Сверкнула молния, начал погромыхивать гром. И вот мы буквально почти бегом, останавливаясь только на минуту, чтобы полюбоваться грозной картиной, направились домой. Мы втроем – я, Александра Васильевна и Татьяна – очень скоро опередили всю группу и потеряли ее из виду. На полдороге начался дождь, сначала небольшой, но все усиливающийся и усиливающийся, наконец он превратился в ливень, да такой, что на нас не осталось сухой нитки очень скоро. Настроение наше не падало; нам нравилась молния, гром, черное небо. Мы даже смеялись от удовольствия, а мне еще импонировало, что мои спутницы, как и я, не боятся грозы. Но постепенно к ливню стал присоединяться очень сильный, а главное очень холодный ветер. Это было уже неприятно, так как насквозь промокшее платье липло к телу, и мы буквально дрожали от холода. Наконец, уже порядочно уставшие и продрогшие, мы добрались до Мальчезине; вот ставшая потоком улица, по которой мы храбро бежали, боясь только, чтобы этот поток не сшиб с ног, так как мокрая обувь скользила по камням. Своим видом мы вызывали улыбки и даже смех спрятавшихся под воротами и смотрящих из окон итальянцев. Вот и последний поворот, сейчас улица выйдет к берегу озера, а там и наш отель. Когда добежали до берега, невольно остановились: озеро бесновалось. громадные волны, не ниже двух саженей, почему-то зеленоватого цвета, яростно лезли на берег, разбиваясь о каменную ограду порта и почти всей массой перекидываясь через нее, заливая часть сада и площадку перед нижней террасой, а брызги долетали до окон 2-го этажа.
Переодевшись, мы уже с балкона смотрели на эту разбушевавшуюся стихию. Озеро заметно утихало. Прислуга убирала нижний этаж гостиницы, который был затоплен. Буря стихла, как и началась, довольно скоро. Но до самого вечера дул порывами ветер и вспыхивали зарницы. Вскоре вернулись остальные экскурсанты, которые переждали ливень в каком-то итальянском доме. Вечером подошел пароход. Его отчаянно качало, и он не мог пришвартоваться, так как пристань сорвало с передних столбов, и она болталась в воде на петлях, прикрепляющих ее к помосту. У нашей купальни сорвало лестницу, мы увидели ее недалеко от берега. Моторную лодку, прозванную нами Психеей, стоявшую на якоре у решетки сада, потопило; так что на следующий день ее пришлось поднимать на блоках. А двухмачтовую лодку, которая была на плаву, разбило в щепки, но люди, к счастью, все спаслись вплавь.
И все же, как я люблю это озеро за его красоту и за его силу!
И какое удовольствие было ездить на пароходе по озеру во время наших экскурсий!
Кроме Gardone, мы посещали еще Solo в Тосколанском ущелье и Sirmione. Solo представляет собой центр курортной жизни озера Гарда; но курортная жизнь замирает на июль месяц – самое жаркое время года, и поэтому в ту пору городок, с его изящными магазинами и громадными отелями, казался вымершим, как и другой курорт этого берега – Gardone. В Gardone, например, у самой пристани стоял многоэтажный Grand Hotel с наглухо закрытыми во всех этажах окнами. Этот Hotel обратил на себя наше внимание еще безвкусием своей архитектуры и украшениями с многочисленной позолотой.

Isola di Garda (остров ди Гарда) на озере Гарда. Фото начала ХХ века
Несмотря на жару, пассажиров на пароходе было много. Может быть, потому, что было воскресенье; в этот день билет на пароход куда угодно стоит 1 лиру. На палубе трудно было найти местечко, чтобы присесть – сидят всюду: не только на скамейках вдоль бортов, но и на ящиках (багаже), наваленных посередине, некоторые на свернутых канатах. Я пристроилась на какой-то круглой тумбе у самого борта. До последней станции южного берега озера (Sirmione – предпоследняя станция) пароход идет 3 часа. Но кругом было так красиво и интересно, что никто из нас не устал, хотя Сережа, например, простоял всю дорогу. Когда мы огибали остров – isole del Garda[9] – увидели кружевной дворец герцогов Боргезе. Жаль, что мы не сошли на берег полюбоваться этим красивейшим зданием; когда мы проплывали мимо этой небольшой станции, где от пристани шла прекрасная кипарисовая аллея, с берега был дан знак, чтобы пароход не причаливал.
Мы сошли на берег, где расположился поселок Sirmione. Здесь все носит уже другой характер, чем там, на севере, у Ривы или Мальчезине. Здесь Низкий берег, неглубокое озеро, даже заросшее местами осокой; пристань выдвинулась далеко, так как непосредственно к берегу пароход подойти не может. Мы сразу же отправились к замку, который тоже называется, как и поселок, Sirmione. Это постройка XI-го или XII-го века с зубчатыми стенами, очень напоминающими зубцы Кремлевской стены в Москве. Это понятно, потому что русские цари для строительства Кремля приглашали итальянских мастеров. А Италия, как известно, родина Аристотеля Фиораванти.
Замок окружен со всех сторон водой – озером и мелкими каналами. Мы, конечно, взобрались на самую высокую башню, откуда был потрясающий вид. Профессор Цебриков нам рассказал о Карле Великом, Венецианской республике, которой много лет принадлежала Верона итальянских республиках Вероны и Венеции (Верона не была самостоятельной республикой никогда в своей истории, она была частью владений Венецианской республики), о битвах, которые разыгрывались недалеко отсюда – на Ломбардской низменности, которая была нам видна с башни. Мы даже смогли различить, где виднелся памятник какой-то битвы. Владимир Михайлович обратил наше внимание на скалу Гард, давшую озеру свое имя; скала – с плоской вершиной, на которой десятки раз воздвигались укрепления сталкивающихся здесь народов. Какие страсти когда-то здесь кипели, какая человеческая жестокость и грубость проявлялась на этих берегах, но «равнодушная природа» сияла и тогда красотой, как и ныне. Как и тогда, сияет солнце, так же чуть шевелилось озеро, так же голубели вдали горы, а мы сейчас стоим и вспоминаем отважных воинов, которые умирали в бою. Меня посетило тогда какое-то мистическое чувство – я почти воочию видела эти прошедшие времена и как бы побывала там. «Дух Времени» – очень точное и образное выражение.
С башни на дне озера мы увидели какие-то трубы. Оказалось, что это давно открытые серные источники, которые по трубам дают воду в лечебные заведения.
Налюбовавшись окружающим видом, мы спустились вниз и отправились, по совету Цебрикова, к римским развалинам, к гроту Катулла. Это самый конец мыса, выдвинувшийся стрелкой к озеру. Развалины огромные. Цебриков сказал, что здесь был дворец римского вельможи. Много веков прошло с тех пор, а озеро все то же. Исчезнем и мы, теперь любующиеся синей гладью, опять сменят друг друга много-много поколений, а озеро так же будет лежать в своих берегах, может быть, слегка изменив свои формы, так же будет отражать небо и прекрасные виды.

Замок Сирмионе на озере Гарда. Фото начала ХХ века
Мы долго сидели около развалин. Потом разбрелись кто куда. Сережа с Александрой Васильевной отправились вниз купаться; Люся и несколько наших дам легли в тени, чтобы немного подремать, а мы с Татьяной полезли еще дальше наверх, облазили все уголки развалин и даже забрались в темный, сырой подвал, где пахло плесенью и почему-то старым вином. Потом мы с ней с самой верхней точки видели, как внизу на траве в одиночку и группами лежат наши экскурсанты. Между ними видим далеко внизу Владимира Михайловича, размахивающего руками и что-то, видимо, рассказывающего интересное. Рядом с ним стоит Эфрос и внимательно его слушает. Видим Сережу с Александрой Васильевной, которые бредут вдоль разрушенной стены и о чем-то тихо разговаривают.
Наконец, пора двигаться в обратный путь. Мы с Татьяной спускаемся, идем рощей в тени больших деревьев. Страшно жарко и очень хочется пить. По дороге забираем Люсю и спускаемся уже вместе к небольшому кафе-павильону с маленькими столиками и странными каменными скамьями. За заказанным нами лимонадом служащая девушка-официантка спускается в подвал, какой мы видели с Татьяной наверху. Постепенно в кафе стекаются все наши экскурсанты. Подходят и садятся за наш столик Сережа с Александрой Васильевной. Все наперебой делятся своими впечатлениями. Одна только наша Люся молчит и печально смотрит на Сережу.
Вот снова пристань, пароход. И, наконец, мы у себя в отеле. Наверное, от жары у меня страшно разболелась голова.
Из экскурсий, так сказать официальных, мне запомнилась наша поездка в Тосканское ущелье. С утра, несмотря на портящуюся погоду, мы опять сели на пароход. Дул сильный, довольно холодный ветер, пароход качало. Я сидела на лавочке у борта, следя за волнами, а Александра Васильевна стояла рядом со мной; и я вдруг сообразила, что порывы ветра заставляют меня все сильнее прижимать ее к себе. Я засмеялась. «Знаете, мне, очевидно, инстинктивно кажется, что ветер сейчас унесет вас из моих рук, такое ощущение; оттого я и держу вас так крепко – боюсь потерять». Она улыбнулась мне в ответ.
Тосканское ущелье – одно из самых красивых мест на берегу озера Гарда. Оно мне чем-то напомнило мой дорогой Кавказ. Но… какая разница! На Кавказе все первобытно дико, но и первобытно величественно. По дну ущелий с бегущими горными речушками там приходится пробираться без дорог и вброд. Иногда попадаются еле заметные тропинки, проложенные черкесскими табунщиками. Взобравшись на гору по таким тропинкам, там не видишь вокруг и внизу никаких признаков «цивилизации». Разве только где-то на склоне заметишь табун, охраняемый несколькими всадниками. А здесь, в Тосканском ущелье, мы идем по прекрасной дороге, окаймленной со стороны ручья каменной оградой. То и дело попадаются небольшие фабрики (кажется, бумажные), утилизирующие шумный ручей: колесо фабрики вертит вода и отработанная же вода небольшими водопадами опять попадает в этот шумный ручей.
Помню там одно особенно красивое место. Скалы сдвинулись настолько, что между ними было едва 2-3 сажени, а в одном месте, думаю не больше полутора саженей. Между тем небо становилось все более темным, начал накрапывать дождь. Нам попалось небольшое кафе, расположенное у самого ручья и прижавшееся к скале. В этой остерии мы постепенно собрались все вместе и, несмотря на уже проливной дождь, чувствовали себя превосходно. Настроение повысило неизбежное в таких случаях vino. Пели хором, провозглашали бесконечные тосты. Дело дошло даже до импровизаций в стихотворной форме. Сережа вспомнил и прочитал очень хорошо Лермонтова. Было весело. А через 3 дня, когда мы были уже в Венеции, мы получили от Цебрикова телеграмму, в которой говорилось, что наш приют в Тосканском ущелье на другой день после нас накрыла горная лавина, и погибли люди.
Мы добрались до пристани, где предстояло ждать парохода еще два часа. Чтобы не заболеть от мокрой одежды, которая буквально прилипала к коже, Эфрос договорился в одном доме, чтобы хотя бы женщин пустили посушиться к горящему камину. Как выяснилось потом, мужчины тоже куда-то пристроились сушиться. Народу было много, и одежду на всех хоть выжимай, то, конечно, мы отправились в путь по озеру мокрыми. Но, несмотря на качку и ветер, никто из нас не заболел.

Тосколано, долина в Майно, общий вид. Озеро Гарда. Фото начала ХХ века
Я любила сидеть на нашей веранде и смотреть на озеро. Недаром древняя мудрость гласит, что надо утром смотреть на горы, а вечером на воды. Горы дают энергию, а изменяющаяся вода успокаивает. И еще я люблю грозу. Не боюсь, как многие женщины (Люся, например), молнии и грома; моя душа радостно раскрывается навстречу бурной стихии. И, к счастью, Александра Васильевна разделяла мои чувства. Она так же, как и я, сидела на балконе во время грозы всегда радостно возбужденная. Ее оживление, смех, умные замечания всегда мне были по душе. Однажды, когда в темную-темную ночь вспыхивали особенно яркие молнии, она предложила снять нас при их свете. У меня сохранились негативы этих снимков: на одном вышла яркая молния, а на другом – расплывчатая группа с еле заметными фигурами людей. Но я все равно люблю этот снимок – он мне напоминает наши ночные бдения. Особенно я любила оставаться наедине с Александрой Васильевной на нашем балконе или внизу, на маленькой угловой террасе, скрытой от всех какими-то южными кустарниками. И мы говорили, говорили и не могли наговориться. Иногда с нами была и Татьяна, но чаще мы оставались там вдвоем и заканчивали нашу беседу уже поздней ночью на диване, стоящем в конце коридора, около выходящей на балкон двери. А затем тихо пробирались в наши уже уснувшие комнаты, стараясь никого не разбудить, так как у меня М.П., а у нее М.С. особенно были недовольны нашими ночными бдениями и недружественно их комментировали.
Как-то наша Дуня сказала: «Как приятно встретить случайно родственную тебе душу!» Для меня родственной душой в этой поездке оказалась Александра Васильевна. И она охотно делилась со мной своими переживаниями. Всегда в ее рассказах чувствовалось нервное напряжение и поражало соединение мучительно обнаженной совести с ясным, холодным умом. Каждый возникающий вопрос захватывал ее всю, заставляя буквально гореть и тревожно искать ответа. И она заражала меня этим своим горением. С какой тревогой, с какой болью она рассказывала о своих «ребятах», мальчиках-учениках, которым приходится сталкиваться с сухой формальностью жизни. Как она хотела им помочь. В ее словах явно чувствовался талант большого педагога. И рядом с этим неверие в свои силы, глубокое к себе недоверие. Она все время повторяла: «Вы во мне ошибаетесь – я не сильная». И с недоверием относилась к чувствам других, которые она же вызывала. Я пыталась рассказать ей о Сереже, но она каждый раз уходила от этого разговора и не верила, что может кого-то заинтересовать. Иногда она говорила мне: «Как я завидую вашей вере в людей!» Я думаю, не в одной себе видела она внутри что-то нехорошее, несоответствующее ее идеалу, а вообще в людях. Думаю, она не любила людей. Но, конечно, не принадлежала к бездушным людям с холодными, равнодушными глазами, спокойно смотрящими на горе и радость. Ведь таких людей не любят, с ними общаются по необходимости, они не притягивают к себе. Нет! Александра Васильевна интересовала не только меня: я это видела и по Сереже, и по Татьяне. В ней было какое-то противоречие. Я видела, что реакции на пошлость, мещанство, эгоизм у нас с ней были общими. Она, так же, как и я, не любила равнодушных. И потом, что такое любовь? Разве не любовью были окрашены ее рассказы о своей младшей сестренке Наде, которую она воспитывала? И разве не любовь сквозила в ее темных глазах, когда я ей читала письмо моей Мани из ссылки? Помню, как она говорила, что в будущем люди будут тоньше, нежнее душой; лучше будут друг друга понимать. Но особенно мне нравилась ее черта до самозабвения отдаваться какой-нибудь новой мысли или чувству. Но, кажется, эта черта и погубила ее…