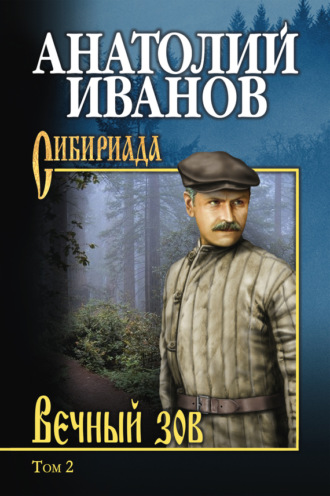
Анатолий Иванов
Вечный зов. Том 2
Василий покорно глянул вперед. Старший лейтенант, как ранее подполковник, сидел, прислонившись спиной к стенке, будто уснул, и голова его во сне чуть склонилась вбок. Грюндель внимательно и удивленно смотрел на советского командира, словно не веря, что тот уже мертв.
Затем круто повернулся, сверкнув под тусклой лампочкой мокрым плащом, сделал два шага к дверям и опять резко повернулся к заключенным.
– Господа, я очень сожалею, – начал он злым и сухим голосом, вытянув сильно вперед широкий раздвоенный подбородок, – очень я сожалею, что больше ни у кого из вас не нашлось такого мужества, как у этого офицера. – Немец кивнул на лежащий вдоль стены труп подполковника-самоубийцы. – Чем больше вы будете убивать сами себя, тем больше облегчите нашу задачу. А задача наша, в сущности, проста – истребить вас. Не всех, не-ет! Нам, немцам, нужны рабы, рабочий скот… Если мы оставим из каждых десяти одного, нам будет достаточно. Оставлять будем самых сильных и тупых, интеллектуально недоразвитых. Мозг ваш нам не нужен, нужны мускулы… Кружилин, три шага вперед!
«Вот когда конец!» – сверкнуло у Василия в голове, под черепом больно треснуло, а из трещины потекло что-то, обжигая лоб, виски, затылок. Он стоял не шевелясь, окаменев, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тяжести Назарова на своей шее.
– Ты, свинья! Тебе приказано! – заревел, багровея, Грюндель.
Кружилин не видел, только почувствовал, как сбоку подскочил немец с плетью, взмахнул ею и будто просек левое плечо. Василий пошатнулся, выпустил перекинутую через шею руку Назарова, понимая, что, если упадет сам, упадет и капитан Назаров. Их пристрелят обоих, и он будет виноват в гибели капитана…
…Потом Василий стоял перед Грюнделем, а тот долго смотрел на него. В жидких глазах немца подрагивало злое, беспощадное белесо-голубоватое пламя.
Вдруг Грюндель выдернул из кармана своего черного плаща руку в черной перчатке и молча протянул ее в сторону. Тотчас ближайший эсэсовец вложил в эту руку плеть. Василий сжался, опустил невольно глаза. Опуская их, успел заметить, что во взгляде немца, на всем его конопатом лице проступило надменно-презрительное удовлетворение. И это удовлетворение фашиста своей силой, беспредельной властью оскорбило Василия, наполнило каждую клеточку мозга, каждый сантиметр измученного тела чем-то горячим и тяжелым, будто от ненависти закипела вся кровь, которая была у него внутри. Он с трудом поднял набрякшие этой горячей кровью веки, но смотреть стал не в глаза немца, а на его мокрые плечи и тонкую шею. На резиновой ткани плаща были рассыпаны дождевые капли, каждая капелька отражала чужой утренний свет, падающий из зарешеченного окошка на потолке. Эти искрящиеся точки резали ему глаза, и Василий думал, что сейчас, как только немец ударит его плетью, он качнется вперед и, падая, вцепится обеими руками в тонкую шею фашиста, повалит его вместе с собой, пальцами продавит кожу и рванет, раздерет эту шею на лохмотья. Пусть они стреляют в него, Василия, прошивают его тело из автоматов – он не умрет, не оставят его силы до того момента, пока он не задушит этого фашиста, не оторвет ему голову…
Грюндель не ударил Василия, он только ткнул рукоятью плети в плечо, поворачивая Кружилина лицом к остальным пленным. И, постукивая рукоятью в свою ладонь, вновь заговорил:
– Вы находитесь уже не в России. И никогда больше туда не попадете. Разве что дымом из печи крематория… И России больше нет. И никогда не будет. Войска фюрера продвинулись в глубь ваших… бывших ваших лесов и степей на несколько сот километров и успешно продвигаются дальше. Наши танки и автомашины идут полным ходом, сопротивления нигде не встречают, потому что войска ваши смяты, раздавлены и уничтожены. Львов, Минск, Киев и множество других городов уже в наших руках. Скоро германские танки появятся на улицах Москвы. Первое, что они сделают, – развернутся на Красной площади и в упор расстреляют Мавзолей Ленина. И это станет концом нашей самой блестящей войны, концом вашей паршивой России… Это произойдет через две, в крайнем случае – через три недели.
«Врешь… врешь! – думал Василий неожиданно спокойно, понимая отчетливо и ясно, что конопатый этот немец действительно врет. – Верно, танки ваши где-то за Перемышлем, за Дрогобычем… Но так ли уже глубоко продвинулись ваши войска? Львов, Киев… А тем более – Москва?! Нет, нет!»
В голову Василия толчками била кровь, но все тише и тише, странным образом утихомириваясь.
– Из всех вас самым порядочным здесь является этот человек, этот солдат, – продолжал Грюндель, показывая плетью на Василия. – Мы, немцы, понимаем и ценим солдатский долг, мужество и верность. Этот солдат не бросил своего офицера, это вот дерьмо, которое вы держите на плечах. – Немец ткнул плетью в сторону Назарова. – Если он выживет, будет у… как вас? Василь…
– Кружилин, – проговорил неожиданно для самого себя Василий.
– …будет у господина Кружилина в денщиках. Сапоги будет ему чистить, белье грязное стирать… – Грюндель резко повернулся к Василию. – Назначаю вас пока старостой этой камеры. Номер вашей камеры одиннадцатый. – И протянул ему плеть.
Василий, опешив и онемев, стоял не двигаясь.
– Берите же! – рявкнул Грюндель.
Василий, теперь даже не вздрогнув от зловещего этого окрика, еще помедлив, принял плеть.
– Так, хорошо… – усмехнулся чему-то Грюндель. – Хорошо, что вы приняли эту плеть – символ и средство вашей власти над этими безмозглыми существами, кое о чем раздумывая. Думайте, думайте, господин Кружилин. – Немец сделал ударение на слове «господин». – И вы найдете свое место среди великой немецкой нации, сделаете свою жизнь… К завтрашнему утру составьте список наличного состава вашей камеры – возраст, звание, состояние здоровья… Бумагу вам дадут.
Так же резко повернувшись лицом к угрюмо стоявшим вдоль стены пленным, Грюндель, сдерживая на губах усмешку, отчетливо произнес:
– За малейшее неповиновение вашему старосте – смерть. За словесное оскорбление его чести и достоинства – смерть. За недостаточное оказание ему знаков внимания, если он таковое в ком-либо усмотрит, – на первый раз публичная порка, на второй раз смерть… Надеюсь, я выразился ясно? Ауфвидерзеен, господа. До свидания…
Взмахнув полами плаща, Грюндель крутанулся и пошел прочь. Следом загрохотали по бетонному полу коваными сапогами эсэсовцы, затем автоматчики. С грохотом захлопнулась дверь, и в каменном мешке установилась тишина. Люди у стены стояли молча, лишь дышали тяжко и глядели на Василия. А Кружилин глядел на них, только сейчас поняв до конца, в каком же положении он оказался, не понимая, как это произошло, не зная, не представляя, что он теперь будет делать, что вот он сейчас, какое первое слово им скажет.
Василий стоял, опустив безвольно отяжелевшие руки. Потом он почувствовал плеть в правой ладони, приподнял эту плеть, короткую, тяжелую, сплетенную из жестких ремней, будто хотел получше рассмотреть ее. Плеть была новенькая, только что со склада, кожа резко пахла. Она ни разу не была еще в употреблении. Люди, стоявшие у стены толпой, молча наблюдали за действиями Кружилина. Наблюдал исподлобья и капитан Назаров, висевший на плечах майора Паровозникова и лейтенанта Кузнецова.
Помедлив еще секунду-другую, Кружилин размахнулся и швырнул плеть в сторону раковины. А сам опустился на бетонный пол, осел, будто надломился враз, подтянул к лицу колени, спрятал в них голову. Спина его затряслась.
Тогда майор Паровозников глазами попросил кого-то поддержать вместо него капитана Назарова, подошел к раковине, поднял плеть и протянул ее Василию:
– Возьми.
Кружилин не приподнял головы.
– Я самый старший в камере по званию. Я приказываю – возьми. А там видно будет… как ею действовать.
– Никак я не буду действовать.
– Ну, расстреляют тебя, – жестко произнес майор. – Легче нам всем, что ли, от этого станет?
Толпа уставших от долгого стояния людей зашевелилась, расползлась по камере. Люди принялись устраиваться, кто как мог. Назарова бережно положили на его место.
Никто ничего Василию не сказал. И сам Василий, приняв от Паровозникова плеть, долго молчал. Потом спросил:
– Унтерштурмфюрер – это что за чин у них?
– Это эсэсовское звание. Соответствует, кажется, армейскому лейтенанту, – ответил майор Паровозников.
Василий еще посидел недвижимо, поднялся, прошел к Назарову, сел возле него.
– Как вы себя чувствуете, товарищ капитан?
– Голова кружится. Наверное, от… от этого долгого стояния. А так ничего… Неужели я буду жить?
Назаров за эти несколько дней оброс густой щетиной. На голове у капитана не было ни одного седого волоса, а вылезшая щетина на лице была наполовину белесой. Это удивило Василия, и он почему-то подумал: неужели с бороды люди седеть начинают?
– Я буду, буду жить, Кружилин! – зашептал вдруг капитан Назаров, лихорадочно блестя глазами. – Ах, сволочи! Что с людьми делают! Со старшим-то лейтенантом этим… Я, назло им, выздоровею! И вырвусь отсюда! Мы с тобой вырвемся вместе. И будем их, гадов, бить, стрелять, давить… Пока ни одного не останется! Пока ни одного… на всей земле!
* * *
«Да, раньше капитан Назаров был не такой…» – все размышлял Василий Кружилин, пока их колонна по раскисшей дороге тащилась куда-то в неизвестность. Дорога петляла между жиденьких перелесков с молодой, ослепительно засверкавшей под первыми лучами солнца листвой, мокрой от ночного дождя, иногда выбегала на открытое поле. Грязь была здесь не такой, как в Сибири, как в Ойротии, отметил Василий. Светло-серая, клейкая, точно перемешанная с яичным белком, она крепко присасывала деревянные колодки, и, чтобы из нее выдернуть ногу и сделать следующий шаг, нужно было напрягать все силы.
Солнце часто скрывалось за текущими по блекло-зеленому небу дымными облаками, и тогда сразу становилось холоднее, ветер пронизывал ветхие лохмотья, и по грязному, давно не мытому телу Василия словно рашпилем шоркало.
Валентин Губарев, хлюпая по грязи, сильно размахивая руками, пристально всматривался зачем-то в перелески и невысокие холмики, часто оглядывался, чем привлек даже внимание конвоиров. Один из них, пожилой, толстый, с изъеденным в дыры лицом, погрозил спустить на него собаку, а потом шагал с боку колонны, все время напротив Валентина.
– Думает, бежать примеряюсь, сволота, – произнес негромко Валентин. – А я не примеряюсь.
– Hrf auf zu quatschen![3] – угрожающе крикнул немец.
Максим Назаров шагал бок о бок с Василием, согнувшись, уныло глядя в землю. Покрасневшие от холода ладони он беспрерывно совал в рукава полосатой куртки. Сковывающая их цепь была длиной метра в полтора, и Василий, чтобы Назарову было легче, почти всю ее намотал на свою руку.
По этой дороге они тащились до полудня, сделав один только привал где-то на открытой поляне. Конвойные приказали им сесть прямо в холодную грязь, и ослушаться было нельзя. Отдых превратился в пытку, лучше бы уж, несмотря на смертельную усталость, идти дальше. Но конвойные по очереди обедали, сидя на взявшихся откуда-то легких раскладных стульчиках, подолгу пили из своих фляжек горячий кофе, что-то рассказывали друг другу и на все поле гоготали. Затем кормили своих собак.
Так, коченея, люди сидели в грязи часа два, если не больше.
Наконец колонну подняли и повели дальше по пустынной дороге. За все время с самого утра колонну никто не обгонял и навстречу никто не попадался. Жизнь кругом словно вымерла.
Когда люди уже начали падать от изнеможения и голода, дорога заметно поползла вверх между негустых деревьев, и идти стало еще труднее. Конвоиры теперь оживились, громко орали, требуя держать равнение. Некоторые бегали вдоль колонны, то в одном, то в другом конце ее громко, как выстрелы, щелкали длинные плети. Все это означало, что колонна приближалась к месту назначения.
И, действительно, вскоре за верхушками деревьев показались темные от дождя крыши строений. Миновали пропускной пункт, из будки выскочил высокий солдат, торопливо поднял полосатый шлагбаум, и колонна двинулась дальше. Впереди замаячила какая-то кирпичная башня, по всем признакам водонапорная. А за башней возникли островерхие сторожевые вышки, так знакомые каждому заключенному. «Все, кажется, пришли», – с облегчением подумал Василий.
Но конец мучительного пути все не наступал. Водонапорная башня давно осталась позади, а колонну гнали и гнали дальше по залитой грязью дороге, мимо высокого дощатого забора, поверх которого в несколько рядов была натянута колючая проволока, мимо сторожевых вышек. За забором виднелись темные постройки заводского типа, высокие кирпичные трубы, некоторые из них жиденько дымили…
Минут через двадцать колонна вышла на мощенную камнем довольно широкую улицу, по бокам которой стояли дощатые, казарменного вида бараки, каменные коробки с редкими и очень маленькими окнами, миновали гараж. Опять показались вдруг сторожевые вышки.
Наконец колонна остановилась на просторной площадке. Грязи здесь не было, отмытые дождем гладкие булыжники блестели. Василий понял, что они наконец прибыли в какой-то лагерь. На миг ему почудилось, что площадка вымощена не булыжником, а человеческими черепами. Голова закружилась, он закрыл глаза. Но, боясь упасть, тут же открыл их, стал глядеть на высокую трехэтажную деревянную вышку, под которой был, видимо, главный вход в лагерь, на запертые массивные чугунные ворота. По верху ворот шли какие-то буквы. «Ob es recht hat oder nicht – es ist mein Vaterland», – прочитал Василий и поглядел на стоявшего рядом Губарева. Тот чуть скривил губы и вполголоса перевел: «Право оно или нет – это мое отечество». Назаров поднял глаза, тоже прочел эти слова, затем поднял глаза еще выше – на болтающийся под несильным ветром черный флаг с белой свастикой, укрепленный на тонком железном стержне, но ничего не сказал.
Справа и слева к сторожевой вышке примыкали не очень длинные одноэтажные каменные коробки с крепкими железными решетками на окнах. А далее в ту и другую сторону тянулись высоченные, в несколько рядов, заборы из колючей проволоки. Проволока была натянута на изоляторы. Это означало, что колючий забор постоянно находится под током высокого напряжения.
Василий более или менее спокойно оглядел проволочный забор под током, шеренгу сторожевых вышек, тянувшихся влево и вправо от главного входа, маячивших там часовых. Все это было знакомо по другим лагерям, ничего иного он не ожидал и тут. Но циничные в своей откровенности слова над воротами его поразили. Он стоял и думал: что же это получается? Не важно, что их отечество попирает правду и человечность, чинит на планете разбой и невиданные зверства? Это их отечество… Не важно, что льется реками человеческая кровь, разрушаются в пыль и прах города, в газовые камеры сотнями и тысячами загоняются даже женщины и дети… Это делается во имя их отечества! Что же это тогда за отечество такое? И люди ли живут в нем? И неужели непонятно, что государство, исповедующее подобные нравственные принципы и воплощающее их на деле, враждебно человеческой природе и самой жизни, оно долго не выживет, оно обречено…
Колонна, обессиленная переходом, стояла недвижимо и безмолвно, лишь беспрерывно кашляли измученные люди. Конвойные, повернувшись лицом к колонне, держали автоматы на изготовку, будто боялись, что именно сейчас-то люди в полосатых одеждах взбунтуются и побегут в разные стороны. Возле ног каждого конвоира лежала или сидела рослая, с теленка, овчарка. Собаки, вывалив языки, тяжко и часто дышали. Едва какой-нибудь заключенный, стоящий в крайнем ряду, переступал с ноги на ногу, овчарки угрожающе рычали и скалили зубы. Псы знали свое дело.
Остроту их зубов Василий помнил, хотя произошло это больше года назад, в январе сорок второго. На плацу лагеря Ламсдорф точно такие же псы под рев пьяных эсэсовцев остервенело рвали его тело. И если бы не ватное промасленное пальто…
Тогда, в середине января, в Ламсдорфе стояли лютые морозы, на работы не выводили, потому что у заключенных никакой одежды, кроме полосатых курток из тонкой материи и штанов, вот этих, какие на людях и сейчас, не было. На весь блок, в котором жил Василий, имелось рваное, пропитанное мазутом ватное пальто, неизвестно как там очутившееся. Староста блока, пожилой тощий поляк, разрешал им пользоваться тем заключенным, чья очередь подходила заготавливать дрова или воду.
Числа шестнадцатого или семнадцатого подошла очередь Василия. Он поднялся затемно, сполз с верхних нар, натянул это заскорузлое от мазута и человеческого пота пальто и вышел наружу. После спертого и затхлого воздуха тесного помещения в грудь ударили свежие струи, и, как всегда, голова закружилась. Прислонившись к бревенчатой, покрытой хлопьями изморози стене, Василий чуточку отдышался, впрягся в лямку обледенелых санок, на которых стояла железная бочка, и потащил их к колодцу.
Колодец был в дальнем конце лагеря, там раздавались уже крики и ругань. «Опоздал, пораньше надо бы, простоишь теперь в очереди…» – мелькнуло у Василия. От соседних блоков тоже двигались к колодцу санки с бочками.
Чтобы как-то выиграть время и поспеть к колодцу хотя бы не последним, Василий решил пробежать с санками прямо через плац. Вообще-то это запрещалось, но в такую рань офицеров в лагере еще не было, а часовые на вышках обычно не обращали на водовозов внимания. Главное – не попасть на глаза дежурному по лагерю или внутренним охранникам. Но если и попадешься, огреют тебя несколько раз плетью – на том все и кончится.
На этот раз, однако, едва Василий дотащил санки до середины плаца, со стороны входных ворот послышался рев мотора и через несколько секунд мелькнули из-за угла эсэсовской казармы автомобильные фары. Сердце Василия оборвалось. Если его заметят, быть беде: в автомобиле солдаты не разъезжают по ночам, в машине, конечно, офицер. А немецкое офицерье сейчас злее собак – фашистов расколошматили под Сталинградом, добивают теперь окруженные дивизии. Все это заключенные знали, в одном из блоков был самодельный радиоприемник. Немцы об этом, видимо, догадывались, время от времени устраивали повальные обыски, но найти радиоприемник не могли.
Согнувшись, задыхаясь от напряжения, Василий побежал. Но было поздно. Развернувшись у казармы и перерезав плац сильными лучами фар, автомобиль, набирая скорость, стал приближаться к Василию. «Задавит!» – пронеслось у Кружилина в мозгу. И он действительно попал бы под колеса, если бы не успел отскочить в сторону, за санки с бочкой.
Черный автомобиль с ревом сделал полукруг и, заскрипев тормозами, остановился в пяти – семи метрах. Из него вышел, почти вывалился коротенький, но угловатый и костлявый гауптштурмфюрер – сам помощник коменданта лагеря, а следом за ним еще несколько человек. В машине еще кто-то остался, белело в глубине чье-то лицо, – Василию даже показалось, что там сидит женщина с распущенными волосами.
– Stinktier! Zeig deine Nummer![4] – заорал помощник коменданта.
– Siebzehntausenddreihundertvierundzwanzig, Неrr Hauptsturmführer[5], – вытягиваясь, отчетливо проговорил Василий.
Раздался собачий лай, к месту происшествия тяжело бежали два охранника, псы на коротких поводках рвались у них из рук. Охранники, разжиревшие, толстые, вытянулись по швам перед начальством, но зады их, обтянутые шинельным сукном, все же выпячивались. Гауптштурмфюрер, тряся от гнева щеками, что-то орал, грозя отправить обоих на Восточный фронт, стеганул хлыстом по лицу одного, потом другого. И вдруг оба они нагнулись, словно заводные, отстегнули поводки от собачьих ошейников. Василий попятился от ринувшихся на него собак. И тотчас почувствовал, как безжалостные собачьи зубы обожгли икру на левой ноге. Второй пес с ходу прыгнул на грудь, Василия словно бревном ткнуло, он упал…
Потом Василий и остервенело ревущие псы катались по утоптанному снегу, от ватного пальто летели клочья, под бока, спину и плечи ему словно сыпались крупные раскаленные угли. Василий чувствовал, как пахнет собственная его кровь, понимал, что озверевшие от этого запаха псы, если их не оттащат, заедят его насмерть. Он прикрывал руками лицо и горло, и делал это скорее инстинктивно, потому что в голове все сильнее звенела страшная, предательски соблазняющая мысль: «Пущай разом перекусят горло, и все… и все… Ведь это просто какая-то секунда…» И все-таки прикрывал до тех пор, пока левая голая ладонь не оказалась в горячей собачьей пасти. Василий еще почувствовал, как острые собачьи зубы вроде откусили пальцы, – и тут сознание разом потухло…
Очнулся он в вонючем лагерном лазарете через трое суток, долго глядел в грязную, облупившуюся штукатурку потолка, пытаясь сообразить, где он и что с ним произошло.
– В счастливой ты рубашке, видно, родился, – сказал ему пожилой костлявый лазаретный санитар. – В машине той какая-то потаскушка ихняя еще была. Она и заверещала: хватит, мол, ее мутит от запаха крови. Они и оттащили псов, а то бы…
– Ты, папаша, русский, значит… Где в плен попал? – спросил Василий.
– Кака те разница, где попал? Допросчик! – хмуро откликнулся санитар. – Спасибо скажи твоему старосте блока. Он тя, поляк долговязый, сюда на свой страх велел своим привести. Помощник коменданта приказал никакой тебе помощи не давать. Русы, грит, живучи, зарастет, как на собаке. Не заросло бы… Узнает если, несдобровать поляку… Ну, раз очнулся, скажу, чтоб в барак тебя счас. Поляка тоже надо пожалеть. Ничего, там доклемаешься. Я буду ночами ходить… Так ничего, мяса фунта с три оборвали с тебя собаки. Мы кое-чего, какие лохмотья висели, прилепили тебе назад их. Отметины, само собой, на всю жизнь останутся на память. Ну а палец, конечное дело, уж не отрастет… Безымянный-то пальчик отъела тебе собачонка.
…Переступая с ноги на ногу, глядя на чугунные ворота с надписью: «Право оно или нет – это мое отечество», на псов с вываленными горячими языками, Василий почувствовал вдруг, как заныла изжеванная собаками левая кисть руки. Именно за эту руку он был и прикован к Назарову. Василий потер ее правой ладонью, сжал в кулак, поднес к глазам и долго его рассматривал, будто видел впервые. Двух фаланг на безымянном пальце не хватало, обрубок не сгибался и торчал, как сучок, кверху.
Рядом тяжко вздохнул Назаров. Василий глянул на него – капитан стоял, уронив голову, тупо глядел вниз, отрешенный от всего. Не один Назаров стоял в такой позе, но обвисшие и скорбные щеки Назарова вызвали почему-то не жалость, а досаду, и впервые вдруг где-то в глубине шевельнулось раздражение на этого человека, его бывшего командира. Кружилин перевел взгляд на Губарева – тот стоял сбоку, спрятав в рукава полосатой куртки посиневшие ладони, как-то странно выпятив губы, точно хотел свистнуть. Почувствовав на себе взгляд Василия, наклонился к нему и не менее странно произнес полушепотом:
– Вот послушай, Вась…
И начал вполголоса декламировать:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
– Как? – спросил он, кончив декламировать.
– Что?
– Стихи-то? – И Губарев поглядел строго и ожидающе.
– Хорошо. Я их с детства знаю.
– Это очень хорошо. Это «Ночная песня странника» Гёте, величайшего поэта Германии.
– Гёте? Это, по-моему, стихи Лермонтова.
– Лермонтов их перевел только, Вася. Гениально перевел…
С того места, где стояли Василий, Губарев и Назаров, была видна верхушка красной черепичной крыши длинного, видимо одноэтажного, здания, высоко над крышей поднималась квадратная кирпичная труба, стянутая в нескольких местах, через ровные промежутки, железными ремнями. Труба чуть дымила, и люди в полосатых одеждах знали, что это за крыша и что за труба, ибо крематории во всех немецких лагерях почти одинаковы. Чуть дальше виднелось еще несколько таких же труб.
– А я защитил диссертацию по творчеству Гёте, – все так же негромко сказал Губарев, глядя на эту трубу. Потом чуть повернулся направо, долго смотрел поверх каких-то построек на синеватые склоны невысокой горы, густо заросшей деревьями.
И вдруг глаза его набрякли, в свете тусклого дня в них блеснули слезы.
– Валь?! – качнулся к нему Кружилин. – Чего ты?
– Ничего, ничего, – прошептал Губарев. – Я всю жизнь мечтал побывать в Тюрингии… в Веймаре… – Голос его прерывался, заглох совсем, будто горло заткнуло пробкой. Он сделал глоток, проглотил эту пробку. – В городе, где жил великий Гёте…
Василий не понимал, что происходит с Губаревым, не знал, что сказать.
– Ничего… Задавят наши фашистов – и побываешь.
– Уже, уже… – сдавленно прошептал Губарев. – Только что был там, несколько часов назад. Я узнал это место. По репродукциям, по фильмам… Это вот… – Губарев кивнул в сторону. – Это гора Эттерсберг. Она вся заросла дубами и буком. Гёте здесь и написал эти стихи в 1780 году, на стене охотничьего домика, в горах, карандашом… Мы знаешь где? Мы знаешь где? В концлагере Бухенвальд. Бухенвальд – это значит буковый лес…
Василий как-то сразу даже и не мог осознать, что же такое говорит ему Губарев, а потом для этого уже не было времени. По колонне пленных прошло движение, возник было говорок и увял, точно придавленный чем-то. Василий поверх голов увидел, как медленно распахиваются массивные ворота под вышкой – словно челюсть чугунная разверзлась лениво и нехотя.
Автоматчики, которые конвоировали колонну до Бухенвальда, стали по сторонам, все так же держа оружие на изготовку, откуда-то появились эсэсовцы с карабинами и резиновыми дубинками, подняли крик, галдеж, хлопнул где-то сбоку выстрел. Колонна, грохоча по булыжнику деревянными башмаками, потекла в открытые чугунные ворота, сперва медленно, потом все быстрее. Но эсэсовцы орали свое: «Шнель, шнель!», колотили крайних прикладами и дубинками. Каждый заключенный, чтобы избежать ударов, пытался забиться в середину колонны, побыстрее втиснуться в ворота. Люди давили друг друга, некоторые падали, их топтали бегущие сзади. Еще донеслось сбоку два или три выстрела, треснула негромко, заглушенная грохотом башмаков, автоматная очередь.
– Сволочи! – выкрикнул Василий, плечо в плечо бежавший с Губаревым и Назаровым.
– Тише ты! – обернулся к нему на ходу Губарев, кивнул на цепь: – Услышат – и сразу пуля!
У самого жерла ворот Василия, Назарова и Губарева стиснули так, что у всех захрустели кости, и они уже не сами вбежали туда, тупая и неостановимая сила протолкнула их внутрь лагеря, и первое, что Василий увидел, была виселица. Она стояла одиноко и зловеще на пустынном плацу чуть слева, неподалеку от ворот, несильный ветер раскачивал пустую петлю. Василий не удивился, увидев виселицу, – они были почти в каждом лагере. Василий знал, что веревочную петлю на этой виселице, как и на всех других в немецких лагерях, давно не надо намыливать – от частого использования веревка насквозь пропиталась человеческим жиром, залоснилась, была гладкой и скользкой, как налимье тело. Он только подумал, что если их погонят сейчас направо, к крематорию, то это могут быть их последние шаги на земле.
Их погнали направо. Василий, чувствуя тупую боль в сердце, только беспомощно оглянулся на Губарева, затем поглядел на Назарова. Тот бежал, глядя, как всегда, в землю, а Губарев повернул к Кружилину худое, окрашенное предсмертным, землистым цветом лицо.
– Кажись, все, Вася, – мотнул он головой в сторону крематория и болезненно дернул сухими губами.
– Не-ет! – с неожиданным самому себе упрямством и злостью на кого-то закричал что было сил Василий. – Я счастливый, понятно-о?!
Крик его потонул все в том же грохоте деревянных башмаков по камням.
* * *
Поликарп Матвеевич Кружилин наскоро закрыл заседание бюро райкома, отпустил всех, кроме парторга ЦК ВКП(б) на заводе Савчука, председателя райисполкома Хохлова, встал из-за своего стола, шагнул к дивану, на котором вот уже минут пять лежал неподвижно Федор Федорович Нечаев. На ходу он взял ближайший стул, поставил возле дивана, сел. Глаза директора завода были прикрыты, веки чуть подрагивали, большой лоб в крупных каплях пота.
– Извините, Поликарп Матвеевич, – слабым голосом, произнес Нечаев, не открывая глаз. – Вы извините меня.
– Сейчас придет врач, Федор Федорович.
– Это вы напрасно… Не надо врача. Я себя знаю, ничего страшного.
После аварии на заводе Нечаев чуть ли не полгода лежал в больнице, сперва в Шантаре, потом в Новосибирске, никто уже не надеялся, что он выкарабкается из могилы. Но он сумел встать на ноги, был назначен вместо погибшего Антона Савельева директором завода. Внешне он выглядел более или менее сносно, и первое время никто не догадывался, что его частенько скручивают и валят с ног приступы удушья и что его секретарша Вера Инютина, где-то в середине еще прошлого года уволившаяся из райкома и поступившая на завод, иногда по целым часам возилась с ним в кабинете. Она поила директора какой-то микстурой, всегда стоявшей в ящике его стола, клала холод на голову, иногда по его просьбе массировала худую, жиденькую грудь со страшными шрамами от ожогов.
Нечаев строго-настрого запретил ей сообщать кому бы то ни было, даже собственной жене, о его болезни.
Но в марте нынешнего года Нечаев, никому ничего не объясняя, освободился от своей слишком уж заботливой секретарши, перевел ее в систему заводского ОРСа, а на место Веры взял Наташу Миронову. Новая секретарша при первом же головокружении у Нечаева подняла на ноги весь райком партии, партком завода и весь заводской медпункт.
– Не смей! – приподнялся он было с дивана, когда Наташа у него в кабинете кинулась к телефону. – Холодное полотенце лучше на голову дай… Обратно в столовую прогоню!
– Это дело ваше! – резко проговорила Наташа. – Я не сама к вам в секретари напросилась…
Нечаев тогда потерял сознание, а когда очнулся, в кабинете находились Кружилин, Савчук, несколько врачей.
Это был первый случай, когда он потерял сознание. А затем приступы следовали один за другим; иногда его схватывало прямо где-нибудь в цехе, прибегали из заводского медпункта врач с санитарами, уносили оттуда на носилках замертво.
– Надо капитально подлечиться, Федор Федорович, – заявил в конце концов Кружилин, видя, что дело может кончиться плохо.
– Да? А завод?
– Что ж завод?.. Дело идет о вашей жизни или смерти.
– Нет, я здоров. Это – так…
Кружилин посоветовался по телефону с Субботиным, тот немедленно отреагировал на тревожные слова секретаря райкома, прислал из Новосибирска старичка профессора, известное на всю страну светило медицинской науки, в клинике которого Нечаев лежал после пожара.
– Денег девать некуда вам с Субботиным, так хоть на путешествие этого профессора истратить, – дернул только Нечаев своей куцей бородкой. – Он и без того знает, что я здоров.







