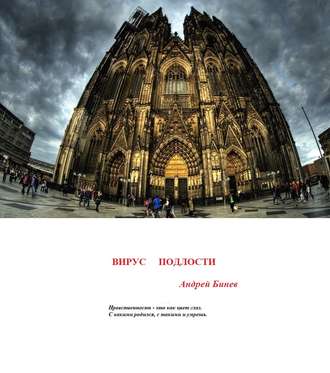
Андрей Бинев
Вирус подлости
«Гамлет:
А, флейты! Дайте мне одну на пробу. Отойдите в сторону. Что это вы все вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то сети?»
«Нравственность – как цвет глаз. С какими родился – с такими и умрешь. Это не столько нравственное, сколько клиническое замечание».
Профессор Зураб Кекелидзе,психиатр
Часть первая
Пойми меня правильно
Нет в этой истории ничего такого, что могло бы удивить, если просто пересказать ее как короткий основательный сюжет. Время было такое, люди, отношения, страхи, надежды – всё было именно таким! Другим и быть, казалось бы, не могло.
Однако же, если вглядеться и вслушаться в то, что и составляет основу сюжета, то найдешь в нем столько поражающих сопутствующих факторов, что ненароком вспомнишь, например, об опасности, которую таит в себе ядерная бомба – не только разрушительная ударная волна, не только болезненно «очевидная» вспышка, сжигающая вмиг роговицу глаза, но и масса других смертельных «неудобств», которые догонят любой выживший организм через десятки лет.
А сам сюжет таков: в конечный советский период, во второй половине восьмидесятых годов, журналист крупнейшего государственного агентства, имевшего право даже делать ответственные политические заявления от имени того же государства, подвергся преследованию со стороны мстительного КГБ. Работая за границей, а именно – будучи на постоянной репортерской службе в Австрии, он в конце концов сбежал из-под наблюдения чекистов с помощью одной из служб американской разведки. Уже позже чекисты потребовали от него как можно скорее вернуться в СССР, шантажируя судьбой первой жены и ребенка, живших в Москве. Вторая его семья – тоже жена и тоже ребенок сбежали с ним.
Выбор, казалось бы, очень простой – с одной стороны, свобода в Западной Европе со своей второй семьей или же, с другой стороны, тюрьма в СССР, зато свобода и даже сама жизнь для первой, и без того обделенной судьбой, семьи.
Да вот только не так тривиален этот выбор, как кажется. Даже, напротив! Он очень и очень непрост! Более того, он – чудовищно трагичен! Потому что сюда втравлены все человеческие чувства, многие человеческие подлости и некоторые человеческие иллюзии.
Сословные тайны
Андрей Евгеньевич и Лариса Алексеевна Саранские, супруги с немалым стажем совместной борьбы с житейскими бедами, ехали на посольской машине по окраине Кёльна. Узкие улочки всегда заканчивались небольшим перекрестком со светофором. Огонечки на светофорах перескакивали быстро с одного цвета на другой, и машины не застаивались. Торопиться не следовало, потому что остановка почти никакого времени не отнимала.
Андрей Евгеньевич, мелкий, сухощавый мужчина лет за сорок, считался счастливчиком: ему всегда везло, за что бы он ни брался. Началось всё с детства – родился в семье, в которой все взрослые мужчины вступили в большевистскую партию в январе двадцать четвертого года, трагическим ленинским набором, и тут же пошли в гору, все одновременно. При этом происхождение у семьи было, вроде бы, не пролетарским и не крестьянским, и к интеллигенции, и к мещанству, а также и к дворянству никакого отношения не имели. Не были и аристократами, августейшая кровь в их жилах не текла. Не состояли в родстве и с иностранцами. Никто не мог до конца разобраться, откуда на эту землю пришел род Саранских и к какому сословию относился. В документах, правда, везде писали – «трудовое крестьянство», а иной раз даже – «пролетарии». Однако же Андрей Евгеньевич знал твердо, кто они и откуда родом.
Это поведал ему отец, писавший везде в анкетах: «происходим из мордовского крестьянства, в роду – крепостные».
– Мы, сынок, из «жеребячьего» сословия, из священников…, то есть из попов. Вот, кто мы есть такие!
– Батя! – хлопал глазами в подростковом возрасте Андрей Евгеньевич, – Да как же! Ну, хоть бы эти…люмпены, что ли, были! А то – попы! Стыд-то какой!
– Дурак ты, ей-богу! – негодовал отец, – Да мы в Саранске первыми людьми были! Оттуда и фамилия наша. На самом деле, первоначально, мы – Корягины, крепостные помещика Аркадия Баблинского. Рассказывают, гадкий был человечишка! Судили его при батюшке Александре Втором за какую-то мерзость. Не то украл чего-то, не то даже сразбойничал! Тогда у него все его крестьянские души в казну конфисковали, Корягиных, конечно, туда же перевели, а оттуда уж дали всем вольные. Вот нас и определили, как грамотных, в писари, а прадеда твоего даже командировали учиться в семинарию и фамилию новую дали. Саранские! Благородно!
– А чего ж и ты, и дед пишете – «крестьяне», а то и «пролетарии»! – возмущался несмышленый еще подросток Андрей Саранский.
– А от того, сын, что власть сменилась, и священники стали не нужны. Твой дед только два года с кадилом-то почадил в церквах, в семинарии маленько поучился, как его батюшка, а тут и революция подоспела. Ну, бросил он это жеребячье дело, как тогда говаривали, записался в милицию, потом – еще год в ЧК, а после уж и в партию вступил, в двадцать четвертом. «Освобожденным» секретарем даже был, на текстильном производстве, где маманю мою, бабку твою, на складе, на тряпках-то и уговорил. Опять учился, работал, …рос, понимаешь…над собой и над людьми. Он еще в семнадцатом писать начал в анкетах-то, что мы из крепостных, врагами народа замордованные… Не врал…, и про замордованных не врал, потому как он, может, имел в виду совсем не то…
– А что! – глуповато раскрывал рот Андрей, страдавший, сколько себя помнил, хроническим насморком.
– А то, сопливый, что из Мордвы мы! Вот и есть замордованные! – отец громко, раскатисто хохотал.
Сам же он служил в центральном профсоюзе, в административном отделе. Занимался учетом профсоюзных членов какой-то важной промышленности, вел картотеку, копию которой отправлял сначала в ОГПУ, потом в НКВД, а перед самой пенсией, за год до нее, – в КГБ. Умер он прямо на службе, за столом, от мгновенного сердечного удара, не скопировав очередной список «обновленных» членов профсоюза. Для чего в органах государственной безопасности требовались эти «члены», Евгений Саранский, отец Андрея Евгеньевича, не знал, но даже не удивлялся требованиям, а вел себя исключительно дисциплинированно и исполнительно.
Рыцарь серого плаща и машинописной строки
Андрей Евгеньевич ни по стопам деда, ни по стопам отца не пошел – он не служил на текстильном производстве и податливых бабешек на тряпичные склады не затаскивал, не делал и копий списков профсоюзных членов для чекистов. К тому времени, правда, они этим анахронизмом интересоваться перестали, а ему, Андрею Евгеньевичу, это было не интересно, мелко это было!
Он сам пошел в ЧК. Пришел после армии (а служил бензозаправщиком на военном аэродроме), и прямо – в райотдел КГБ. Так, мол, и так. Желаю быть полезным!
Его попросили подождать, а пока поработать где-нибудь, или, на крайний случай, поступить куда-нибудь на учебу – хоть в техникум, хоть даже в институт, а еще лучше – в университет. Нелишне будет сказать, что в армии Андрей Саранский вступил в коммунистическую партию. Год он сначала проходил в кандидатах, а перед самой демобилизацией получил заветный партийный билет.
Из КГБ не звали. Андрей Евгеньевич сначала ждал, потом сильно расстраивался, что о нем забыли и даже заболел депрессией – так ему было обидно. Но депрессия постепенно отошла, остался лишь горький ее осадок. За это время он устроился работать в автобусный парк водителем, а к началу следующего года поступил в автодорожный техникум.
Вот тогда его и призвали в КГБ. Он и не знал уже, радоваться ли ему или горевать, потому что впереди маячила карьера в автобусном парке, и по партийной линии, и по административной, а тут – КГБ.
Чекисты настоятельно посоветовали поменять место учебы – уж больно узким обещало стать избранное им место. Дали свою рекомендацию, выбили партийную характеристику в парке, и нежданно-негаданно поступил Андрей Евгеньевич Саранский на журналистский факультет московского университета. Днем учился как студент, а по вечерам занимался в специальной, секретной школе как слушатель. По ночам зубрил и то, и другое. Почти не спал, уставал как ишак! По его же выражению.
Университет, тем не менее, окончил с довольно приличными оценками, так же, как и ту вторую, «вечернюю» школу.
«Профилирующим» языком, как говорилось в лингвистических учебных заведениях, был немецкий. Его он еще в средней школе зубрил и кое-как даже читал адаптированные книжки. А по окончании своих высших учебных учреждений он уже очень неплохо болтал по-немецки и даже более или менее внятно изъяснялся по-английски.
Карьера Андрея Евгеньевича развивалась без страстных всплесков, но и без депрессивных впадин. Сначала он работал на «внутренних линиях», то есть, как говорили в его секретном ведомстве, нарабатывал стаж и опыт. В обязанности Саранского входило сопровождение по стране то в качестве переводчика, то от имени какой-нибудь газеты, вроде «Карельского рабочего» или «Латвийского морехода» иностранных гостей, выезжая с ними в качестве специального корреспондента. Ему приходилось сначала «вычислять» вражеского разведчика или контрразведчика, спрятавшегося внутри западногерманской делегации, а потом, после получения соответствующих заданий, включаться в его разработку. …Если, конечно, до этого дошло бы дело!
Выявление врагов было делом настолько трудным, а они сами – настолько глубоко конспирировались, что за всё время «внутренней» службы Андрею Саранскому не удалось распознать ни одного из них, и даже обоснованно кого-нибудь заподозрить. Но работы все равно хватало – нужно было находить слабые стороны у принимающей, советской, стороны, которые могли бы гипотетически поспособствовать проникновению вражеского агента. Это была, своего рода, профилактическая деятельность, которая до такой степени запугивала разного рода председателей, директоров, секретарей и прочих советских деятелей, что они готовы были на всё, лишь бы отбиться от подозрительного, проникновенного взгляда Андрея Евгеньевича Саранского. Из некоторых командировок Андрей Евгеньевич приезжал с щедрыми подарками, а бывали случае, когда подарки (например, даже кухонная мебель или тончайший фарфор, а раз как-то женская шуба и персидский ковер ручной работы) приходили к нему домой уже оплаченные и оформленные, как безобидные образцы.
Когда Андрей Евгеньевич женился на Ларисе Алексеевне, его теща, уже очень немолодая вдова, облизывая полные губы, ворчала:
– Одни образцы в доме! Хоть образа выноси!
Однако же все в доме были довольны. В те-то времена, когда ничто более или менее «приличное» людям в СССР доступно не было, любой подарок, любое приобретение необыкновенно ценилось! Это был период менового счастья – деньги, в руках у тех, кому они не предназначались в соответствии с государственной доктриной, могли лишь принести несчастье, увлечь в беду, а вот предметы обихода и, тем более, комфорта играли, своего рода, компенсационную роль. Гражданин – государству свои услуги, свою преданность, а оно ему, в обмен, частицу овеществленного «мещанского счастья», прямо со специального склада-распределителя или даже непосредственно из-за кордона, в дозволенных случаях. Контроль за таким, «меновым» счастьем, осуществлялся исключительно строго, потому что социализм – это вообще, по авторитетному мнению, идейного классика, контроль. Так что, Саранские жили в соответствии со временем и с его «железобетонными» правилами, утвержденными раз и навсегда на одной шестой земной тверди.
Вскоре у молодой пары родилась двойня – две очаровательные девочки, так похожие друг на друга, что Андрей Евгеньевич с умилением говорил, что сделал их под копирку. Жена хмурилась, морщила носик, сердилась, а он шутливо грозил ей пальцем и в присутствии потешавшихся гостей властно отрезал:
– В другой раз, милая, потребую штучной работы. Но пока отдыхай. В качестве тренировки, на первых порах, сойдет и эта…, сочковая…!
У жены закипали горячие слезы на глазах, потому что даже кормление младенцев ей давалось с великим трудом – молока не хватало; они же истощали ее полностью, вытягивая всю до капельки, и обессиленная молодая мама горько страдала от того, что детки голодны и что она не в силах помочь им. Саранский бегал по утрам в «молочную кухню» и таскал за пазухой домой, грея их своим тщедушным телом, пузырьки с молоком. И всё равно шутил, балагурил, посмеивался над собой и женой. Он слыл человеком с юмором, пусть и несколько резким, царапающим, но все же добросердечным, способным безжалостно повернуться острием к самому себе. А это в русской среде редкое качество. Оно, скорее, типично для еврейского остроумия.
– Шутишь, как еврей! – однажды, расхохотавшись над какой-то подобной шуткой, утирая радостные, веселые слезы, прыснул ему в лицо один из секретных начальников, полный, лысоватый мужчина, известный в их узкой профессиональной среде как законченный антисемит.
Саранский осекся, густо покраснел, жена от испуга раскрыла рот и с немым упреком, качая головой, с отчаянием посмотрела на него. С тех пор Андрей Евгеньевич, что называется, прикусил язык и навсегда сменил тон в компанейском общении – никаких «шуток юмора», никакого ерничанья! «Каждому овощу свой фрукт» – говаривал он, позволяя теперь себе лишь эту, избитую, шутку, которой, как ни старайся, ни политики, ни национальной идентификации никак не пришьешь.
Рождение детей, однако, не позволило Саранским еще долго выезжать за границу вместе. Ездил лишь один Андрей Евгеньевич, да и то, краткосрочно. В посольствах, в консульствах, в торговых представительствах его также побаивались, как и во «внутренних командировках», так как он слыл большим мастером по ревизии «контрразведывательного обеспечения», и все недостатки видел сразу. Из-за границы Андрей Евгеньевич привозил бутылки со спиртным в огромном количестве, дорогой табак и сигары (исключительно для подарков), джинсы, кофточки, три «двухкассетника», радиолу, проигрыватель, два телевизора, а позже только-только появившиеся видеомагнитофоны (и себе, и всему своему начальству). То были времена, когда подобная техника ценилась чуть ли ни как квартира или машина. Во всяком случае, обстановка в доме без этих звучных, блестящих предметов считалась неполноценной, недостойной социального статуса владельца. Обладание же ими свидетельствовало о принадлежности к особой касте людей, к которым власть относилась если уж не доверительно, то, во всяком случае, терпимо. Не терпеливо, а терпимо, что составляло принцип подбора ее кадрового резерва.
Терпеливо же относились лишь к тем, кого выстраивали (тайно или явно) в очередь к следователю государственной безопасности. Подождите, мол, дойдет и до вас очередь! И тут обнаружение в доме того самого «менового счастья», то есть предметов роскоши, могло вполне быть включено в обвинительное заключение при передаче дела в «народный суд». Одно и то же могло играть и позитивную, и отрицательную роль. В этом была и остается до сих пор универсальность русского государственного устройства, его гибкость внутри собственной жесткой формы. Усвоивший это и следующий этим неписанным, традиционным правилам защищен уже наполовину от пресса сверху и топи снизу. Вторая же половина защиты носит исключительно персональный характер, то есть анкетный. Тут уж с чем родился, под какой звездой расцвела твоя жизнь когда-то, с тем и уйдешь. Наверное, поэтому Саранские так серьезно относились к вопросу о происхождении фамилии, и поэтому они так вдохновенно врали о том времени, которое последовало за освобождением от крепостной зависимости. По всей видимости там, где следовало, знали об этом, но ведь «малая компрометирующая» информация позволяет использовать субъекта на малых должностях, а «крупная компрометирующая» информация – даже на крупных, стратегических.
Малые семейные грехи у Саранских в крупные так и не переросли (масштаб оказался не тот!), поэтому и вся дальнейшая карьера Андрея Евгеньевича прошла под знаком умеренности.
Фантомы классовых боев
…Девочки Саранских немного подросли (совершенно параллельно, нисколько не отличаясь друг от друга, ни в малейшей степени!) и их, наконец, удалось оставить с бабушкой и ее одинокой младшей сестрой в Москве. Саранские получили направление в Вену, в советское посольство. Андрей Евгеньевич был назначен на негромкую должность «пресс-атташе», которая всегда была зарезервирована за его секретной службы.
Однако же легка беда начала! Его сразу устроили (для «оперативного прикрытия», как выразился один из важных начальников) собственным корреспондентом газеты в Австрии со сложным, непонятным для иностранного уха названием «Индустриальная жизнь Советского Урала» (“The Soviet Ural’s Industrial Life”) и слал оттуда пространные очерки о том, как «загнивает западная индустрия», как ветшает жизнь «рядового рабочего» и обогащаются за счет его голодающих детишек жадные австрийские милитаристы и капиталисты. Доставалось и ближайшим западным немцам, и итальянцам, и французам и, конечно, американцам, насаждавшим здесь свой «гнилой образ жизни». Эту свою «захватническую» деятельность он называл «творческим аншлюсом». У читателя же создавалось впечатление, что журналист и дипломат Андрей Евгеньевич Саранский находится на фронтовой черте, среди жестоких, циничных врагов и нищенствующих, лишенных настоящего и будущего, пролетарских австрийских друзей.
Читатели «Индустриальной жизни Советского Урала», жестоко битые камнепадом статей своего бойкого и смелого автора, уже несколько иначе относились к тому, что сами не могут дожить со своими мелкими зарплатами даже до середины месяца, что нет никакой возможности устроить детей в детский сад или в ясли, что очередной, долгожданный отпуск опять придется провести дома, в душном, заводском городишке, потому что нет ни средств, ни возможностей уехать даже по какой-нибудь дешевой профсоюзной путевке на юг к морю. Они уже по-другому смотрели на то, что пиво в ларьке продается не чаще двух раз в неделю, а то, что продается, скорее отходный продукт пивоваренной промышленности, чем ее законченное изделие; иначе, с большей симпатией, они теперь относились к единственному виду предлагаемой им водки, от которой воняло так же, как от солярки, заправляемой в их грязном цеху в какой-то дымный, вибрирующий, звенящий промышленный агрегат; им уже было неудобно сетовать на куски бумаги в «крахмальной» колбасе, за которой они сами, их жены, матери, сестры и тещи выстаивали в областном центре или в столице в многочасовые серые, злые очереди; их уже не возмущала непролазная грязь от строящегося уже десятый год цеха прямо на их ежедневном пути к заводским воротам; уже не так остро беспокоили едкие запахи от развалившейся, деревянной общественной уборной на одной из окраинных городских площадей – уборная та возвышалась над кучей собственной обледенелой жижи, ползущей из-под нее наподобие остывающей плазмы, …просто некому всё это было убирать и чистить; не так уже теперь сердила бесконечная череда «черных» суббот и воскресений, когда приходилось «ударным трудом», а точнее – безумным сатанинским авралом настигать то, что, казалось бы, недосягаемо ушло в будущее на серых, скучных бумагах, озаглавленных тогда «социалистическими обязательствами». Только ли это! А бесконечные, пожизненные очереди за кучей металлолома, называемого продуктом советской автомобильной промышленности, с последующей потерей этого добра, которому была отдана чуть ли не вся жизнь, в прожорливой империи советской коррозии – от прямого своего значения до всех возможных его интерпретаций! И прочее, прочее, прочее… Сейчас многие всё это подзабыли, придавленные нынешней нуждой, но тогда то была сама жизнь в провинции, а не редко и в крупных индустриальных городах. Преодолеть это было невозможно. Спасала лишь недалекая мысль, что где-то, за рубежами, наверное, бывает и хуже или даже просто плохо. Поэтому вместо продуктов и услуг предлагали иностранные «зрелища» на марких страницах советской прессы.
Словом, публикации Саранского из вертепа разврата, нищеты и депрессии в самом сердце старушки Европы воспитывали куда больше, чем навязчивое бахвальство о взятии новых высот советской промышленностью ее передовым трудовым отрядом, пролетариями, и об одолении тайных и явных врагов системы не менее передовым, но, в отличие от первого, вооруженным до крепких зубов боевым отрядом тогдашней коммунистической партии – суровыми чекистами. Хотя в сочетании всё это давало удивительно высокий результат – «народ безмолвствовал», а власть крепла. С тех пор мало что изменилось, разве что ко всему добавились каменные плиты кредитов и самодовольное богатство несменяемой власти «новых» хозяев со старыми анкетами. Однако же вернемся в те времена.
Почти спонтанно в уральском промышленном городе возникло движение помощи «голодающим Австрии». Его «застрельщицей» стала эмоциональная, чувствительная до горячих, яростных слез пионервожатая Надя из одной из средних общеобразовательных школ в секретном уральском городе. Она собирала на пионерские «линейки» младшие классы и, и потрясая кулачками, играя желваками на своих еще детских, розовых скулах, требовала прекратить издевательства над голодными австрийскими детками. Столбеневшие от неожиданного открытия для себя мерзостных жестокостей, возможных ещё, оказывается, в «хваленой Западной Европе», шестиклассники и семиклассники как один вскидывали к сизому, тучному небу сжатые кулачки солидарности. Надя объявила сбор материальных пожертвований «нищим детям альпийских предгорий от щедрых детей уральских предгорий». В школу, сначала в одну, потому еще в три, четыре, пять поволокли старую школьную форму, иногда даже нестиранную, нечищеную, обувь, ставшую маленькой или уж совсем, окончательно изодравшуюся, потертые, битые молью шерстяные и байковые одеяла, растерзанные, похудевшие матрасы с радужными, въевшимися разводами, старые кургузые курточки, пальто с облезлыми воротниками, севшие от пота цигейковые шапки. Изумленные детской щедростью учителя по настоятельной, с тяжелыми намеками, просьбе Нади и быстро образовавшихся в каждой из школ «революционных комитетов» занялись тщательным отбором жертвенных вещей. Горы рвани и мусора и скромные кучки более или менее приличных подарков лежали в спортивных залах уже всех семи городских общеобразовательных школ. Был объявлен конкурс – всё на весы. «Некондиционные» и «ценные» подарки взвешивались отдельно друг от друга. Объявлялись две номинации – по общему и по «полезному» весу. Долго спорили, какая из номинаций в большей степени свидетельствует о пролетарской, большевистской зрелости коллектива. Пришли к выводу, что вторая, но потом, увидев, что трепет состязания резко идет на убыль, объявили, что первая. Так и метались от одного к другому, а Надя ездила по спортивным залам и придирчиво, с брезгливым лицом татарки-старьевщицы двумя пальцами извлекала из кучки ценных подарков какой-нибудь предмет, вертела перед носом, внюхивалась, всматривалась, примерялась и потом, тяжело вздохнув и покачивая темной своей головой, постреливая чуть раскосыми карими глазами, говорила:
– Ну, ну! Ну, ну! Да хоть бы и это! Чего с вас возьмешь! Жмот на жмоте, жмотом погоняет!
Однажды даже сказала:
– Жида на жиде, жидом погоняет!
Но тут же осеклась, возбужденно покрутила головой и поправилась:
– Это я так…, образно, так сказать. К тому, что австрийских детей угнетают не только свои доморощенные мироеды-капиталисты, но и сионисты… А вообще, мы за интернационал, у нас нет и не может быть никакого национального расизма и прочего там…разного…, империалистического подхода… Так что…, будем считать – «жмот на жмоте», и никак иначе!
Испуганно переглянувшиеся было двое учительниц (завуч и «англичанка»), с облегчением выдохнули. Они происходили как раз из тех семей, которых всегда, во всем времена на российских землях подозревали в агрессивном сионизме. Дело в том, что их «сионистские» родители вывезли из-за нацистской оккупации Украины свои семьи на Урал, и поскольку возвращаться после войны в «расстрельные», растерзанные местечки было до жути страшно и больно, остались здесь, в местах эвакуации.
Пионервожатая Надя всего этого в подробностях не знала, но каким-то свойственным ей политическим чутьем уловила, что путаница между «жмотом» и «жидом» пока что преждевременна, не было, так сказать, сигнала сверху еще. Вот и поправилась.
Закончилось общественное движение с подарками угнетенным австрийским детям также быстро и решительно, как и началось. Рассортированные ценные предметы были зашиты в старые одеяла и в назначенный час приволочены специально выделенными для этого старшими школьниками в центральное почтовое отделение города. Служащие отказались принимать посылки, так как, во-первых, их вес и габариты превышали технические возможности почты, во-вторых, любое отправление за рубеж, особенно, в этом городке, должно было согласовываться в компетентных организациях, и, наконец, в-третьих, (что официально было названо единственной причиной) адрес «Австрия, Вена, голодающим детям» был несколько неточен. Всё это могли вернуть назад из-за «выбытия адресата», как сказала начальница почты.
– Что значит, выбытия! – возмутилась Надя и густо покраснела, – не доживут, что ли? От голода, так сказать…!
– А это нам не известно, девушка! – строго поджала губы многоопытная главная почтальонша.
Она обернулась, чтобы убедиться, что ее никто из посторонних не услышит, и властно зашипела в Надино красное как кумач ухо:
– А разрешение у вас имеется?
– Какое разрешение! – также, свистящим шепотом, недоуменно спросила Надя.
– А вот выясните, какое, – уже громко, с нотами безусловной победы, даже откинувшись назад и выпятив вперед высокую свою грудь, провозгласила окончательный приговор важная почтальонша – И после приходите!
Выяснять сообразительная Надя ничего не стала. Общественники-старшеклассники молча отволокли тюки в старый, полуразрушенный пакгауз в железнодорожном тупике и там брезгливо сбросили. Потом все это куда-то исчезло – говорят, кое-что видели на блошиных рынках в Зауралье, а два заметных пальто (черные, сшитые из путейных шинелей, с красными воротниками) носили, меняясь, голодающие поближе, чем альпийские – из городского детского дома, в котором росли как упрямые сорняки дети осужденных и те, что родились, уже в тюрьмах и зонах.
Так что, Саранский, не ведая того, всколыхнул терпеливо дремавшую на далеком Урале долгие годы классовую солидарность с австрийским пролетариатом. Обнаружилось, что сделать это очень нетрудно, потому что зерна, падающие на подготовленную почву, всегда дадут буйный всход. Однако же в те времена этого еще не требовалось так, как в последующие: в приближающихся веке и тысячелетии. Толпы единомышленников, готовых содрать с себя последнюю рубаху по одному лишь тревожному вскрику из уст вожатых, независимо от года своего рождения, настороже. «Будь готов – всегда готов!»
Движение вовремя прервали областные партийные органы, испугавшись «мирового» скандала с Австрией, и «сигнализировали» в Москву о чрезмерной активности журналиста-международника Андрея Саранского. Ведь кто-то же должен был его остановить, пока не поздно!
Возможно, сейчас всё это выглядит комично, даже по-своему безобидно – мол, недалекий, чудаковатый человечек устроил жалкое, душистое шоу не то по глупости, не то во имя очередной идейной победы над спесивым сытым врагом. Лихо, вроде бы, начал, и никак, бедняга, не остановится!
Но в действительности же это было обыкновенным явлением в общественной, журналистской практике тех времен. Организаторы таких шоу ни на секунду не верили в реальность организуемого ими же самим действа, а те, кто позволял им выкручивать из своих податливых, гибких пальцев фиги, направленные в лица «системных противников», нисколько не заботились о правдивости «картинок» и о том, кто является их потребителями в насквозь «невыездной» стране. Это был истинный фронт, на котором действовали идеологические диверсанты, пользующиеся всеми методами тайной войны: от примитивных до самых сложных, запутанных комбинаций.
Именно тогда в СССР появилось движение в защиту чернокожей американской «революционерки» Анжелы Дэвис – с гривой вьющихся мелким бесом волос, быстроглазой, изящной как рослая пантера. В это же время материализовался в главном телевизионном эфире СССР ученый голодранец, астрофизик, страдающий последней стадией ожирения, доктор Хайдер. Он объявил голодовку американским властям, усевшись толстенным задом на хрупкой скамеечке перед Белым Домом в Вашингтоне. 218 дней насмешливый, циничный советский телезритель наблюдал за бородатой, почему-то казавшейся сытой физиономией пожилого американца Чарльза Лейтифа Хайдера, требовавшего от престарелого президента США Рональда Рейгана прекратить атомные испытания и закрыть какие-то ядерные склады в Нью-Мексике. Он также страдал за экологию «окружающей среды», утомляя ее в то же время запахами своего немытого, большого стареющего тела. Дисциплинированные советские журналисты, с камерами, магнитофонами, фотоаппаратами и записными книжками дневали и ночевали рядом со сташестнадцати килограммовым астрофизиком, закутанным в холод и в зной в теплые пледы, одетым в несколько шерстяных свитеров и в неизменную вязаную шапочку. Создавалось впечатление, что астрофизиком ставится какой-то рисковый эксперимент по выживаемости одной человеческой особи в ледяном космосе идеологических войн. Михаил Горбачев, сострадая «мужественному американскому ученому», даже приказал отчеканить медаль в его честь, а в то же время циничная группа «Ноль» сочинила по окончании безрезультатной во всех отношениях (он даже не похудел!) семимесячной голодовки тучного революционера веселую песенку «Доктор Хайдер снова начал есть»: «И в этот трудный час за каждого из нас – доктор Хайдер, доктор Хайдер, доктор Хайдер снова начал есть!»
Тогда же по Пятому авеню в Нью-Йорке демонстративно бродил сухожилый, насмешливый «учитель физкультуры» Джозеф Маури, которого разыскал один бойкий советский журналист, решив «щелкнуть по носу зарвавшихся янки». Этого журналиста в США местные спецслужбы прозвали «черным полковником», будучи уверенными в его связях с КГБ. Однако же за влияние на Маури почти сразу начали биться два мастодонта советской идеологической журналистики, поссорившись навсегда друг с другом. КГБ, идя на поводу у одного из них, оплатило фильм «Человек с Пятого авеню», в котором «бездомный» Маури наивно интересовался у веселых униформенных швейцаров, может ли он, если не купить, то хотя бы снять жилье на этой улице миллионеров за несколько тысяч долларов в месяц. Телезритель, по творческой задумке авторов, должен был с болью в сердце воспринять этот трогательный эпизод из жизни американского бездомного и с благодарностью к своей собственной, щедрой власти обозреть холодные стены собственной окраинной, жалкой, нищей пятиэтажки.







