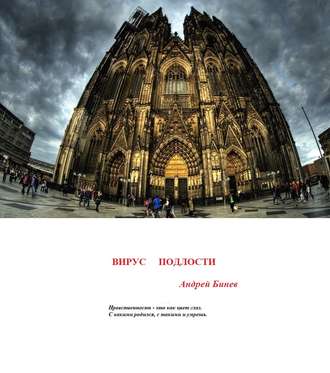
Андрей Бинев
Вирус подлости
Вадим Алексеевич принял решение еще до того, как переступил порог детской, в которой Таня укладывала дочь и что-то уютное и ласковое шептала ей на ухо.
Когда он вернулся к Саранскому, его лицо было совершенно спокойно, бледность ушла, только чуть ярче, чем обычно, сверкали глаза.
– Я давно уже чувствовал за собой хвост, – вдруг печально сознался он, – И взгляды. Куда ни приду, везде какие-то мрачные типы…, Полевой тоже… Смотрит, смотрит… Я сначала думал, мне показалось, что за мной топают… Паранойя наша, шпиономания, знаешь ли… А тут, неделю назад, прихожу домой, а из подъезда мне навстречу два каких-то типа заполошенных…, мелькнули, «косяка» на меня бросили и растворились… Морды знакомые до боли…! Захожу в квартиру…, моих-то не было…, я им как раз двухдневную экскурсию устроил в Альпы…, и вижу, был кто-то. Вещи нет так лежат, и запах будто какой-то чужой… Я струхнул, конечно. К послу. Так, мол, и так, а он глазами хлопает. Не знаю, мол, ничего. Обратись, говорит, к Полевому. Я к нему и поперся как последний идиот. Он сейчас слышит, гад? Пусть слушает! …Пялится на меня серыми своими зенками и несет чего-то: австрийцы, НАТО, американцы… Держи, мол, брат, ухо востро! Я ему про наши две родные рожи внизу, а он – обознался ты! Они, мол, умеют под нас подделываться, даже, говорит, гримироваться! А теперь, я вижу, под нас никто подделаться не сумеет! Мы – уникальны!
Постышев посмотрел почему-то в окно, потом на потолок, словно опять искал там микрофоны, и сказал уже тверже:
– Мне тут командировка выпала в Париж, так Полевой зарубил ее, потом еще, потом также с Лондоном, с Бонном. Но я по наивности еще надеялся, меня просто готовят к ротации, на смену… Домой то есть, а, видимо, они давно уже задумали содрать с меня шкуру. Не с меня, так с кого-нибудь другого! Тебе спасибо!
– Не за что! – усмехнулся Саранский, – Вы решили с Таней что-нибудь?
– Решили, – кивнул Постышев и протянул Саранскому скомканную бумагу.
Андрей Евгеньевич мельком взглянул на нее и прочитал написанное незнакомым, но каким-то очень ожидаемым почерком – «Спасибо! Будьте вы прокляты!»
Саранский покраснел и, отведя глаза, сунул, стараясь не шелестеть, бумагу во внутренний карман пиджака.
– Так что же вы решили? – спросил он мрачно.
– Я еду к Ротенбергу, добиваюсь встречи, прошу помощи, потом возвращаюсь за Таней и Маришкой, и мы, собрав необходимые вещи, едем на нашей служебной машине в американскую миссию. Именно об этом я буду просить Вольфганга. О политическом убежище.
– Молодец! – выдохнул Саранский, – Так и надо! Действуй! У тебя нет другого выбора.
Он многозначительно подмигнул Постышеву и сразу пошел к выходу. Его дебют окончен. Теперь посмотрим, как свой дебют разыграет Постышев.
Три имени – один человек
…Нога сломана не была. Сильный удар, ушиб, огромный, до колена, синяк и содрана кожа на щиколотке до крови.
Доктор Арнольд и фрау Лямпе аккуратно и споро обрабатывали рану, бинтовали ногу, доктор что-то рассказывал, нахваливал собственное, семейное, пиво, выбалтывал свои пивоваренные тайны, выделяя, прежде всего, «мягкую», чистейшую воду, как основу пива, и особый, прямо таки, какой-то секретный солод.
– Доктор Арнольд…, – невежливо прервал врача Постышев, на которого немного одуряюще уже начало действовать болеутоляющее лекарство и непринужденная болтовня врача, – А почему вы един в трех именах? Почти, как в трех лицах?
– Для рекламы! – весело расхохотался доктор Арнольд, не переставая заботливо и умело обрабатывать посиневшую и распухшую ниже колена постышевскую ногу, – Все мои предки были врачами и все были трижды Арнольдами. К нам шли пациенты, чтобы даже просто взглянуть на таких знаменитостей и подставить им свои болячки. Нас избирали в магистрат, чтобы соседи думали о городе, как о необыкновенном гнезде трех Арнольдов. Даже однажды улицу…тут поблизости…так и назвали, но во время британской бомбежки в конце войны от нее осталась лишь одна табличка и та покореженная и пробитая сразу в трех «арнольдах» осколками. А вообще – все лишь реклама! Но и правда, в конце-то концов. Я же действительно герр Арнольд Арнольд Арнольд. Вот и вы тут! А что бы вы сделали, если бы вам пришлось выбирать между каким-нибудь примитивным Кристианом Шмидтом и Арнольдом Арнольдом Арнольдом? Кому бы вы в конце концов подставили под нос свою посиневшую конечность?
– Вам, герр Арнольд Арнольд Арнольд, – убежденно ответил Постышев.
– То-то же!
Он усмехнулся, фамильярно похлопал Постышева ладошкой по щеке и подмигнул:
– Всё, герр Постышев. Вы, кажется, так представились?
– Именно. Вадим Постышев. Эмигрант.
– Вы хотите сказать, что у вас нет денег оплатить мне счет? – осуждающе покачал головой герр Арнольд.
– Ничего я не хочу сказать! Просто назвал свой социальный статус. Это как профессия. И только! А заплатит вам герр Саранский, который сбил меня на своей машине.
– Надо же было найти во всем Кёльне русского, чтобы именно его сбить на своем автомобиле! – рассмеялся герр Арнольд.
– Да еще старого заклятого…приятеля! – закончил за него Постышев и стал медленно сползать с операционного стола, на котором его и разложили во время перевязки. Фрау Лямпе вцепилась ему в предплечье, играя роль тормозного механизма. Ей это удалось, потому что Постышев даже не почувствовал, как его больная нога ступила на кафельную плитку пола.
– Вы знаете, …я вам вот что расскажу, доктор, – сказал он Арнольду, который оценивая собственное искусство, ревностно рассматривал пациента со стороны. Доктор даже осторожно покачивал головой, будто упрямо пытался разглядеть недостатки своей работы, но, удовлетворенный, с облегчением вздохнул и, наконец, просветленными глазами уставился на Постышева. – После нашей жуткой, абсурднейшей гражданской войны, году, кажется, в двадцать втором прошлого столетия, в Тбилиси единственный на весь город автомобиль сбил насмерть единственного на весь город велосипедиста. Кто сидел за рулем автомобиля, не знаю, но велосипедистом был некий господин Симон Тер-Петросян по кличке «Камо» – боевик, подпольщик, убийца, грабитель банков и поездов, большевик, а после переворота – чекист. Умел когда-то убедительно симулировать сумасшествие, даже – невосприимчивость к боли! Говорят, он к тому же был эйдетиком, но даже это его не спасло! Нужно было, чтобы единственный автомобиль сбил единственного велосипедиста, и это случилось! Роковая судьба или подстроенная встреча! Как хотите, доктор…!
– У него были сильные враги? – поднял бровь доктор Арнольд и с новым, почти радостным интересом в светлых, небесно-голубых глазах замер перед пациентом.
– У него были сильные друзья! – криво усмехнулся Постышев, – Они потом и стали сильными врагами. Это как в любви – к ненависти всего лишь один шаг! Банальность, но о нее спотыкаются многие, и ломают себе шею… Однако тут всё было куда прагматичней! Господин Камо слишком хорошо знал, кто планировал «эксы»…
– Что планировал?
– «Эксы», то есть «экспроприацию». Грабежи! Например, ограбление тбилисского банка в тысяча девятьсот седьмом году. Многие из тех, кто угробил пятьдесят человек на том деле и взял крупную сумму пятисотрублевых кредиток, потом стали руководить Россией, герр Арнольд. Вот единственный автомобиль и переехал единственного велосипедиста.
– Что вы хотите этим сказать, герр Постышев? Что герр Саранский намеренно содрал вам кожу на щиколотке? – доктор с нескрываемыми издевательскими нотками в голосе рассмеялся, – Вы что вместе грабили банки?
– Я лишь хочу напомнить, дорогой доктор, что никогда не следует удивляться тому, что на первый взгляд кажется случайным. А авантюрную историю господина Камо я вам рассказал только для того, чтобы вы понимали русские дела не так, как они видны со стороны… Впрочем, вам это и необязательно! Бинтуйте ноги, головы, варите пиво, жарьте колбаски, тушите свой чудесный айсбайн, а мы уж как-нибудь сами…
– Терпеть не могу колбаски и никогда не ем айсбайн! – неожиданно мрачно прервал доктор и будто даже с обидой отошел от пациента в сторону, потом обернулся и наставительно, строго добавил, – В колбасном жире и в свиной ножке слишком много холестерина. Убийственно много! Сам не употребляю и другим не рекомендую… Это как единственный автомобиль наезжает на единственного велосипедиста. Никаких шансов!
Хромая, Постышев вышел в приемную и огляделся. В угловом кресле сидела Лариса Алексеевна, а рядом с ней, держась за ее плечо, будто готовился к фотографированию в старый альбом, стоял Андрей Евгеньевич. Постышев усмехнулся и громко потянул носом. Замершие, как на картинке, с чуть желтоватыми усталыми лицами, Саранские ожили и задвигались.
– Ну! – с волнением воскликнул Андрей Евгеньевич.
– Что, ну! Не сумел ты меня угробить и на этот раз, Андрюша! – ядовито проскрипел Постышев.
Следом за ним в двери показалась голова фрау Лямпе.
– Герр Саранский! – строго сказала она, – герр Арнольд ждет вас у себя в кабинете. Только не задерживайте доктора, прошу вас. У него еще визит к одному тяжелому больному. Там, правда, все уже совершенно бесполезно, но долг – есть долг.
В кабинете Арнольда пахло кожей и пивом, будто кожаную мебель этим пивом мыли.
Доктор Арнольд Арнольд Арнольд потребовал гонорар такого размера, что казалось, будто три пациента пришли на прием сразу к трем врачам. Саранский попробовал было несмело заметить это, но получил в ответ лишь рассеянный, задумчивый взгляд и кружку темного, терпкого пива.
– Я за рулем…, – нехотя стал отказываться Андрей Евгеньевич, но доктор осуждающе покачал головой, и Саранский впился в пенный обод кружки, измазав густой пеной верхнюю губу и щеки аж до висков. Он оторвался от кружки с мучительным выдохом, будто вынырнул из морской пучины, и закатил глаза так, как это бывает только у пораженных кессонной болезнью – от резкой смены давления и медленного закипания крови в жилах.
Деньги, отнятые у него опытной рукой «экспроприатора-хирурга», были уже надежно размещены в сейфе в одной из тумб массивного стола, и на Саранского смотрели теперь уже внимательные, изучающие глаза.
– Я распорядился не звонить в полицию, – сказал доктор милостиво, – Это стоит дороже, чем просто перевязать ногу.
– Но там была полиция! – несмело возразил Саранский, – Однако герр Постышев отказался от их услуг.
– Это его дело! А это, – он похлопал ладонью по тумбе со спрятанной в ней сейфом, – наше.
Он поднялся, давая понять, что дополнительной кружки семейного пива не будет. Саранский растерянно закивал и попятился к двери.
Все трое, Саранские и Постышев, садились в машину с разбитой фарой и каждый по этому поводу сокрушенно покачал головой.
– Ты, как всегда, обошелся мне дороже, чем я планировал! – печально посмотрел на Постышева Андрей Евгеньевич, оглянувшись назад, когда дверцы дружно захлопнулись.
– А уж как ты мне обходишься, Андрюша! Это кончится когда-нибудь, черт побери, или нет?!
– Куда тебя отвезти?
– Домой.
– Ты живешь здесь, в Кёльне? – он сделал паузу и вдруг, сообразив что-то, о чем еще не успел подумать раньше, добавил несмело, – И…Таня…с Верочкой?
– А как же! Ты езжай в центр, я тебе подскажу, где остановиться. Держи курс на кафедральный собор, это в двух шагах от него.
– Мда! Как говорится, красиво жить не запретишь! – Саранский отвернулся к рулю, двигатель тихо заурчал.
– Да уж! Теперь не запретишь! – двусмысленно ответил Постышев.
Венский дебют Постышева
…Свой дебют тогда в Вене Вадим Постышев разыграл блестяще. Он вышел из дома, в котором была его квартира, как и уговаривались с Саранским, через так называемое черное крыльцо, хотя никаких таких «черных» выходов и входов в этих местах испокон веков не существовало. Вторая дверь, во двор, была предназначена жителям всех квартир на случай пожара или при необходимости внести в дом какую-нибудь крупную поклажу; либо спуститься по этой лестнице еще ниже – в подвал, где раньше хранился уголь для топки печей в квартирах, а теперь складировалась всякая ненужная домашняя утварь.
Во дворе топтались два суровых типа, в серых плащах и в темных костюмах. Как только они увидели, что дверь приоткрылась, сразу нырнули в автомобиль с небольшой цветной наклейкой на лобовом стекле, свидетельствующей о том, что этот автомобиль выдается какой-то компанией лишь для аренды.
Вадим Постышев заметил суету штатских, но немедленно отвернулся в сторону и заспешил к освещенной улице. Краем глаза он все же увидел, как те двое выстроились за ним в короткую шеренгу, почти в затылок друг к другу, и сделал над собой волевое усилие, давшееся ему с большим трудом, чтобы не побежать.
Однако он вспомнил о признании Саранского в том, что весь их разговор прослушивался, а значит, он должен был вести себя как можно естественней, поддерживая версию о том, что знает о наблюдении и теперь даже старается его обнаружить. Он уже смелее «огрызнулся», завертел во все стороны головой и немедленно заметил, что один из тех двоих, что идет впереди второго, остановился и сделал какой-то знак тому, что идет сзади. Постышев увидел и ту же машину с наклейкой на лобовом стекле. Она медленно ехала вдоль тротуара. Это означало, что преследователей было, по крайней мере, трое – кто-то же должен быть за рулем, а рядом с ним вполне могли устроиться еще один или даже два готовых на всё типа. Впрочем, если его собирались захватить при выходе от американца, то места бы в машине не хватило. Нет, окончательно решил Вадим Постышев, в машине определенно двое – шофер и еще кто-то, потому что после его похищения один из оперативников сядет рядом с водителем, а двое надежно зажмут его сзади.
Все эти наблюдения почему-то успокоили Постышева, и он даже улыбнулся своей проницательности.
Вообще его стала забавлять и даже приятно беспокоить сердце необычная острота ситуации, ее абсурдная и в то же время вполне логичная путаница: они знают о том, что он знает о том, что они знают, а они делают вид, что он не знает о том, что они знают, и он делает вид, что не знает о том, что они знают. Обе стороны только делают вид, что ничего не знают и в то же время знают об этом. Черт побери! На самом же деле никто ничего не знает, хотя думает, что знает всё. Единственный, кто знает о том, что ни они, ни он ничего не знают – Саранский. Но и Саранский не знает о том, что он ничего не знает. Хотя, возможно, все стороны и догадываются о чем-то и на самом деле всё знают, но не знают о том, что всё знают и от этого такой же эффект, как если бы никто ничего не знал. Умен лишь тот, кто скажет себе словами античного гения: «я знаю, что я ничего не знаю». Сократ, великий мыслитель древности, родившийся почти за полтысячелетия до Христа, и сказавший это, по свидетельству другого философа – Платона, имел в виду лишь то, что люди думают, что знают всё, а на самом деле они ничего не знают. И тот, кто знает о том, что ничего не знает, знает больше других. Ровно на сто процентов больше! В два раза! Вот это преимущество! Вот этот как раз знает всё!
Не в этом ли суть работы всех политических разведок, и не в том ли, что кто-то в абсурдной, бесконечной истории о том, что у «попа была собака и он ее любил…» сумеет поставить где-нибудь точку и прервать этот безумный круг? Какой же остроты должен быть ум того, кто это сделает! И какая вселенская ответственность! Ведь по сути это шизофрения, психоз! Детская игра, ставшая взрослым кошмаром вместе с повзрослением упрямых, помешенных детей. Политики, страны, системы забираются на эту карусель и крутятся на ней до рвоты! Все уже бледные, истощенные, усталые, обмоченные и загаженные, а всё крутятся и крутятся! Счастлив тот, кто вовремя спрыгнет с карусели. Главное, не расшибиться! Не сломать себе шею. Но весело же! Весело и легко на душе!
Постышев тихо засмеялся, будто помешанный, и весело, озорно посмотрел себе за спину. Двое человек на улице, встретившись с ним взглядами, встрепенулись, напряглись. Они ничего не поняли в этом взгляде и поэтому не на шутку испугались.
В детстве, в Москве, в старом дворе на Писцовой, в котором всегда жили семьи только военных, мальчишки играли до одури в «казаков-разбойников» или в «ромбы». Игры были похожи, но все же отличались своим устройством. В первой игре мальчишки делились на две враждебные команды. «Разбойники» чертили на асфальте мелом или палкой на грунте стрелки, указывающие направление, в котором они скрылись. «Казаки» гонялись за «разбойниками» и выводили их из игры одного за другим, всего лишь «осалив», то есть дотронувшись до плеча или спины противника. Если же из засады вылетали первыми «разбойники», то, «осалив» «казаков», они выводили их из игры. Тут роли менялись. Выигрывали те, кто оставались в большинстве.
В «ромбах» же заранее писались бумажки с парными номерами, около каждого из которых ставился плюс или минус. Эти бумажки, называемые «ромбами», бросались в воздух, мальчишки расхватывали их и сразу делились на две команды – на «плюсы» и на «минусы». Ценились те игроки, кто был вынослив, силен и способен к длительному и быстрому бегу, потому что «плюсы и минусы» разбегались в разные стороны, а потом разыскивали друг друга. Никто не знал, какой номер у противника и, если ты догонял его и бил ладонью по плечу или по спине, а он поворачивался и с наглой улыбкой показывал тебе больший, чем твой, номер, то ты вынужден был отдавать ему свой «ромб», а он приплюсовывал к собственному номеру отнятый у тебя. Таким образом, постепенно отряды мелели, и оставалось только двое противников. Позволялось однополюсным союзникам объединять свои номера у одного из игроков, сохраняя это в тайне ото всех. Выигрывал тот, у кого наибольший набор номеров и кто сумеет догнать и «осалить» противоположный знак. Это была хитрая и отчаянная игра. «Плюсы» и «минусы» шли на разные ухищрения, на блеф, чтобы запутать противника, загнать его в ловушку, заставить поверить, что у подставленной фигуры маленький номер, а после этого, когда оказывалось, что это и есть лидер с наибольшим номером, отнять все завоеванные «ромбы».
Тут тоже была своя тактика – можно было внутри команды в самом начале игры поменяться номерами. Самому слабому иной раз отдавали наивысший «ромб», чтобы его легко догоняли противники с противоположным знаком и тут же бы отдавали ему свои номера. Но в этой тактике были свои серьезные недостатки, потому что никто не знал, как быстро противоположная сторона сумеет накопить наибольшее число и у кого оно окажется в руках – а если у самого выдержанного и сильного! Тогда от него не уйти, и последний «слабак», будь у него даже высокое число в руках, обречен. Приходилось все время считать, но никто не знал, каков была изначальная цифра, кто пожертвовал лидеру свой «ромб», и поэтому ошибка была вполне вероятной. Тут было задействовано всё – и сила, и ловкость, и хитрость, и ум. Не последнюю роль играло чутье, интуиция. Все эти качества типичны для хорошо подготовленного разведчика. Пик игры приходился на последнюю стадию – когда оставалось лишь двое игроков и точное число никто не знал. Всех путал сговор внутри полюсов.
Вадим был из «слабаков», несмотря на свой высокий рост. Он всегда был худым, тонконогим, длинношеим. Поэтому ему часто доставалось «блефующее» наибольшее число, это и радовало его и пугало.
То, что происходило с Постышевым сейчас, очень напоминало ему нечто среднее между «казаками-разбойниками» и «ромбами»: он «рисовал» стрелки за собой, а «казаки» не знали величину его номера, и вполне могли отдать свои «ромбы» в конечном счете. Но мог отдать свой «ромб» и он, если Саранский был дважды провокатором, и та записка играла роль сговора в однополюсном сообществе «ромбов».
Но это лишь раззадорило Постышева, возмутило его сознание своей опасностью, воспалило его инстинкт самосохранения и давало шанс обернуться из загоняемой в угол жертвы в сильного, острозубого хищника.
Срыв мог быть только в одном, полагал он – если Вольфганг Ротенберг куда-нибудь уехал, и его нет дома. Почему-то Постышев не допускал и мысли, что американский шпион откажет ему в помощи. С этой стороны Постышев опасности не ждал. Дело в том, что Вадим не имел ни малейшего отношения к работе разведки и даже не представлял, что может помешать разведчику отказать в помощи такому человеку как он. Будь Постышев оперативником, он никогда не решился бы на то, что ему насоветовал Саранский, и даже наоборот, сразу бы усомнился в профессионализме Андрея Евгеньевича или, по крайней мере, в его конечной искренности. Объяснялось это просто: любой разведчик, работающий «под прикрытием», в таком обращении к нему со стороны сомнительной фигуры, какую представлял собой Постышев для всех сторон, усмотрел бы, прежде всего, провокацию, или, по крайней мере, стандартный прием оперативной комбинации противника. Это – либо средство внедрения в разведывательную систему, либо попытка проверить разведчика или даже его скомпрометировать. Самым разумным было бы отказать в помощи и понаблюдать, чем всё это кончится.
Но Постышев всего этого не знал и наивно полагал, что Ротенберг немедленно включится в игру на его стороне. Какого же было его разочарование, когда столь удачный его «дебют» вдруг натолкнулся на препятствие, мгновенно выстроенное американцем лишь потому, что у него не было никаких оснований нарушать классические формы защиты.
Знал ли об этом заранее Саранский или нет, теперь уже не скажешь. Скорее всего, он предполагал такое развитие событий, но все же оставлял шанс на усталость, любопытство или просто гуманность Ротенберга.
Ошибся и он, и Постышев. «Дебют», столь блестяще разыгранный в первые мгновения, попал в западню ретроградства.
Среднего роста, с глянцевой, румяной лысиной, сорокалетний мужчина, отперев дверь своей квартиры почти с испугом осмотрел высокого, худого, длинношеего запыхавшегося русского репортера.
– Вольфганг! – тяжело дыша, произнес Постышев, – Впустите, ради всего святого! За мной гонятся!
Ротенберг после секундного колебания и быстрого, мажущего взгляда за спину Постышеву, отступил на шаг.
Вадим ввалился в прихожую и, буквально вырвав из рук американца дверь, с силой захлопнул ее за своей спиной.
– В чем дело! – колебался американец между желанием вспылить и необходимостью быть вежливым в любом случае.
– Меня хотят похитить и отправить в СССР, – выпалил Постышев.
– Кто! – судя по тону этого кроткого слова, американец сразу стал склоняться к первому чувству. Постышев это ощутил и впервые за все это время по-настоящему испугался. Игра в «ромбы» вдруг стала щетиниться незнакомыми правилами, и ему показалось, что очков, зажатых в его потной руке, сейчас может не хватить на окончательную победу.
– Чекисты! – с надеждой в голосе вызвать у Ротенберга возмущение, а не страх, как у него, выстрелил он прямо в лицо американцу.
– Но почему! – голос американца приобретал стальные нотки. Это еще больше напугало Постышева, он густо покраснел, на лбу выступила испарина.
– Они считают меня вашим агентом, – сглотнув слюну, уже тихо, с хрипотцой сказал Вадим.
– Какая чушь! Почему агентом? И почему моим? У меня не может быть агентов. Я такой же журналист и репортер, как и вы, коллега! – окончательно укрепив голос металлом, ответил Ротенберг и блеснул на Постышева ненавидящим взглядом.
– Черт побери, Вольфганг! – воскликнул Постышев, – Вы меня убиваете! И мою семью!
Он быстро прошелся по крошечной прихожей, преследуемый внимательным, холодным взглядом Ротенберга, остановился перед ним и вдруг схватился за голову:
– Боже! Какой я идиот! Это же всё мерзость! Они просто решили использовать меня как провокатора!
– Кто они? – голос прозвучал совершенно бесстрастно, словно с магнитофонной ленты, используемой для изучения иностранного языка в лингафонном кабинете.
– Да чекисты же! И этот…Саранский! – окончательно упав духом, почти прошептал Постышев.
– Уходите! – решительно сказал американец и взялся рукой за замок, – И никогда! Слышите? Никогда не обращайтесь ко мне даже с приветствием! Я не ожидал от вас, мистер Постышев, такой гадости!
Краска схлынула с лица Вадима, и он, опустив голову, повернулся спиной к Вольфгангу. Изогнувшись, тот щелкнул замком и потянул на себя дверь. Ее нижний угол уперся в постышевский башмак. Вадим отдернул ногу, отступил назад, толкнув спиной хозяина квартиры, и, словно готовясь нырнуть в непроглядную пучину, с отчаянием шагнул на лестничную площадку. Дверь за его спиной смачно щелкнула замком и тяжело вздрогнула.
Всё было кончено. Он медленно спускался вниз по лестнице, марш за маршем, потом остановился и, предчувствуя наступающий кошмар, резко перегнулся своей долговязой фигурой через перила. Он не собирался прыгать вниз, а лишь хотел проверить, не там ли ютится засада.
Постышев не успел никого разглядеть, потому что его ноги вдруг оторвались от каменного пола и он ухнул вниз головой в трехпролетную пропасть лестницы. Две серые тени метнулись в сторону в тот момент, когда длинное тело шлепнулось на каменный пол.







