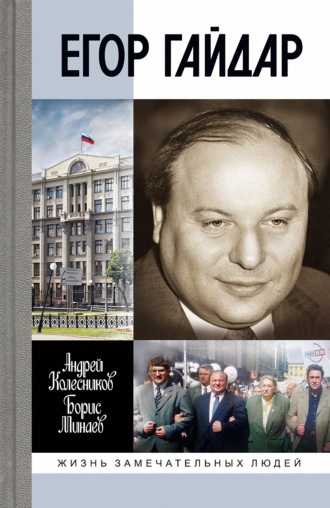
Андрей Колесников
Егор Гайдар
Ну и действительно – откуда у советского студента деньги на новые джинсы, которых и в свободной-то продаже не было?
Егор, в ту пору уже читавший на английском труды по экономике, прекрасно понимал, что те рубли, на которые они жили с Ирой и на которые жили в большинстве своем простые советские граждане, от Чукотки до Калининграда, отнюдь не были единственной советской валютой. Нет, рубль-то был один и тот же. Но валюты были в ходу разные. Потому что это был абсолютно разный рубль, с разным наполнением.
В СССР можно было жить в одной, другой, третьей и четвертой экономической реальности. По выбору.
Реальность первая – вот эта самая реальность официальных зарплат и официальных цен, в которой жили их родители и они сами.
Из «правдинских» гонораров Тимуру удавалось выплачивать взносы за кооператив в Красновидове, содержать личный автомобиль, иногда водить друзей в ресторан, но на этом «жизнь на широкую ногу» в советском варианте и заканчивалась. Да и с ней порой приходилось залезать в долги.
Реальность вторая: «надбавочный» рубль. Рубль, который платили на БАМе, например, или в северных областях СССР (Норильск, Коми, Камчатка, Сахалин), был обеспечен другими товарами – в тех местах ассортимент магазинов был значительно богаче, но главное – там фигурировали совсем другие цифры в зарплатной ведомости: получать 500, 600, 800 рублей в месяц там было нормально, а это в разы больше, чем на остальной территории СССР. То же самое в какой-то мере касалось и сезонных работ (рыболовецкие траулеры, например) и отдельных договорных видов деятельности – таких как стройка объектов соцкультбыта в колхозах и совхозах, оформление библиотек, школ, детских садов, домов культуры, ну и масса других видов деятельности, не до конца подконтрольных советской бухгалтерии. Этим, например, занимались некоторые однокурсники Егора в стройотрядах. Каждый привозил после лета в стройотряде полторы, две тысячи рублей.
Наконец, была третья реальность – «черный», пиратский рубль. Это был в чистом виде продукт черного рынка. Причем рынок этот касался отнюдь не только американских джинсов, тряпья или пластинок, которые привозили из-за границы советские командированные.
Объем товаров и услуг, которые обращались на советском черном рынке, был вообще воистину огромен. Это были практически криминальные деньги, но они ходили по стране в больших объемах, серьезными полновесными потоками. Это были и ширпотреб, и техника, и «левое» топливо, и «левые» стройматериалы, и лес, и продовольствие, и все что угодно.
Ну и наконец, практически узаконенный инвалютный рубль – то, что оставалось гражданам после зарубежных поездок, накопленная абсолютно честным трудом валюта, вывезенная из какой-нибудь Болгарии или Монголии: на эти деньги можно было купить в магазинах «Березка» дефицитный видеомагнитофон, обменять его на что-то еще более дефицитное, а там, глядишь, и до новой машины недалеко. Артисты цирка или балета или моряки торгового флота, которые много ездили (плавали) по миру, умудрялись таким образом даже иностранные автомобили в СССР ввозить. И на этом тоже основывался нелегальный черный рынок в стране.
Наконец, был «льготный», партийный рубль (как называл его впоследствии Ельцин, боровшийся с этими привилегиями): за сущие копейки, имея «допуск» в спецбуфет, спецмагазин и прочие «спецместа», можно было и вкусно поесть, и купить дефицитные продукты, и технику, и одежду, и путевку в шикарный санаторий.
Обо всем этом знал любой взрослый гражданин СССР, особенно если он жил в большом городе, где слухи о подобных вещах распространялись со скоростью света.
И каждый взрослый гражданин делал свой выбор – в какой именно экономической реальности он хочет жить.
Егор Гайдар, как и многие люди его поколения, сделал другой выбор – он решил эту реальность попросту изменить. Да, он хотел жить честно, как нормальный человек, не испытывая угрызений совести, не испытывая страха перед законом, но при этом зарабатывать для семьи прилично – своим трудом, своей головой.
Но тогда это было практически невозможно.
Думая над этим, Егор пришел к простому выводу: эта лживая, фальшивая система ценностей, построенная на обмане, на неравенстве возможностей – рано или поздно рухнет.
…Позднее Ирина Евсеева, однокурсница Егора, вспоминала, как вошла в университетскую аудиторию, где у доски стоял Егор. Никаких сомнений, что у доски стоит именно Егор Гайдар, у нее не возникло. Хотя она его до этого никогда не видела. Но уже самый первый миг дал ей понять, что этот человек – самый незаурядный, самый не похожий на всех, кого она знала раньше, что он обладает абсолютно неординарными способностями.
Они познакомились с Егором в научном кружке. Это был кружок, который организовал для своих студентов будущий научный руководитель Егора и куратор его кандидатской диссертации доцент Кошкин. Темой кружка была «экономика социалистических предприятий».
Но дело тут не в теме и не в кружке. А в том чувстве, которое испытала Ирина Евсеева при первом же взгляде на Егора Гайдара.
«Еще когда он учился или только начинал научную работу, – вспоминает Владимир Мау, нынешний ректор РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы), – мы уже все знали, что он самый яркий в нашем поколении, самый продвинутый, самый умный… Это просто даже не обсуждалось».
То же самое говорил и экономист Михаил Дмитриев:
«Я узнал Гайдара в силу возраста чуть позже других. Если году в 88-м, 89-м, столкновения с Гайдаром (а я, конечно же, уже о нем знал) меня разочаровали – он, как мне казалось, отставал от времени, по-прежнему стоял на позициях медленного перехода к “социализму с человеческим лицом”, то уже через год, примерно в 1990 году, у меня после встречи с ним не было сомнений: Гайдар круче нас всех, он продвинулся в понимании реформ и в их механизме настолько далеко, насколько было возможно, он опережает всех на две головы».
Яков Уринсон, бывший вице-премьер и министр экономики в правительстве Черномырдина, познакомился с Гайдаром в середине 1980-х:
«Тогда я работал в Госплане, в статистическом управлении, и читал западные работы только по эконометрике, экономику знал не очень хорошо; так вот, Гайдар сразу, с ходу дал мне список книг по-английски и по-немецки, которые я должен был прочесть, список меня поразил, так же как и сам Гайдар, он опережал нас всех».
Эта тема – о том, что Гайдар интеллектуально опережал всех своих ровесников и друзей – не раз и не два встречалась нам в ходе этих интервью.
Уже тогда от него ждали многого.
Он еще ничего не сделал – а люди верили, вернее, даже так, они знали – он сделает! Он должен сделать.
Глава третья. Человек книги
Гайдар стал кандидатом наук в 24 года.
Сразу после институтской скамьи он пошел в аспирантуру и начал писать диссертацию.
О том, что это был за сюжет в его жизни, стоит рассказать отдельно. А сейчас мы сразу переносимся к торжественному моменту – банкету после защиты.
Банкет был веселый, продолжался до двух часов ночи. Однако на следующий день научный руководитель Егора Виталий Исаевич Кошкин позвонил домой своему подопечному в девять утра.
Гайдар с молодой женой Ирой жил тогда еще с родителями в квартире у станции метро «Аэропорт». Трубку взяла мама, Ариадна Павловна. Она сообщила Кошкину, что ее сын «уже уехал работать в библиотеку». Кошкин замер, не понимая, верить или нет: а вдруг любящая мама прикрывает сына, спящего без задних ног после праздничных возлияний? Потом сообразил – в семье Гайдаров такое невозможно, и Егор действительно уже едет в библиотеку. Случай этот он запомнил на всю жизнь.
Можно сказать: Гайдар был очень дисциплинированным, ответственным молодым научным сотрудником.
А можно и по-другому: библиотека никогда не была для него «работой». Библиотека была для него вторым домом. Или даже первым. Только здесь, за письменным столом, он чувствовал себя защищенным, востребованным, счастливым.
Близкому соратнику Леониду Гозману он так однажды и сказал: «Леня, видишь ли… ты, как и я, принадлежишь к редкому типу людей, которые чувствуют себя счастливыми только за письменным столом». Со значением сказал. Гозман немного поперхнулся – насчет себя он не был вполне уверен, но виду не подал.
«Вселенная – некоторые называют ее Библиотекой… Я утверждаю, что библиотека беспредельна». Библиотека, по выражению Хорхе Луиса Борхеса, бесконечна, как вселенная. Именно она и была тем местом, где Егор Гайдар не мог потеряться. Она была его убежищем, в котором он ориентировался совершенно свободно и откуда уходил весьма неохотно. Его увлекала бесконечность Библиотеки (с большой буквы), но в то же время его мозг беспрерывно каталогизировал ее.
Здесь – античность, там – восточные цивилизации, тут – марксизм, в той стороне – теории современного экономического роста. Усматривая связи между разными и, казалось бы, далекими углами Библиотеки, можно было строить теории и делать выводы. Не только на основе эмпирических данных и формул, но и на прочной почве самых разнообразных и неожиданных знаний. Знаний о человеческой истории и человеческом поведении.
Так – в блужданиях по бесконечной Библиотеке – и построен фундамент главной книги, opus magnum, которую Егор писал в голове много лет, пересказывал друзьям, надиктовывал сотрудникам, создавая черновики и версии. Она и называется так, что бесконечность присутствует, она где-то рядом: «Долгое время».
Повествование Гайдара свободно скользит по Библиотеке. Переплетаются и сопоставляются примеры из разных периодов истории и разных отраслей знаний, подкрепленные теоретическими выводами из книг начала XX века и свежей литературы, ксероксы которой только что принесли из ИНИОНа.
…Кстати, об ИНИОНЕ. Полное его название – Институт научной информации по общественным наукам при Академии наук (тогда – СССР). Само здание ИНИОНа не случайно считалось памятником архитектуры советского модерна. Оно строилось по уникальному проекту архитекторов Я. Белопольского, Е. Вулых, Л. Мисожникова. «Главное в стране место, где собиралась, систематизировалась и реферировалась литература по общественным наукам, – пишут авторы справочника «Москва: архитектура советского модернизма», – должно было быть идеальной библиотекой с архитектурой на уровне мировых образцов… Читальные залы освещаются верхним светом через круглые световые фонари… Архитекторам удалось сделать полностью стеклянными и внешние стены третьего этажа, и перегородки между залами, тем самым создав визуально единое пространство. Вся мебель в читальных залах была низкой, чтобы ничто не загораживало эффектного зрелища потолка, покрытого рядами круглых люкарн… Созданный на основе библиотеки в 1968 году Институт научной информации по общественным наукам стал не столько центром работы над приближением окончательной победы коммунизма, сколько рассадником вольнодумства. Правда, к свежей зарубежной литературе и к вожделенным “Запискам Тартуского университета” допускали лишь избранных: ИНИОН обслуживал только сотрудников Академии наук, аспирантов и, в отдельных случаях, студентов-дипломников».
Однако внутри ИНИОН был устроен на первый взгляд так же, как любой другой советский НИИ: длинные коридоры, отделы, лестничные пролеты и курилки. Ядром бесконечного запутанного здания была огромная библиотека, в которой работали одновременно сотни, если не тысячи ученых.
Понятие «общественные науки», к счастью, включало в себя самые разные дисциплины – религию, историю, философию, психологию, социологию, эстетику, культурологию, экономику… ИНИОН обладал самым востребованным в СССР научным читальным залом – здесь делали переводы и/или рефераты работ западных ученых, которые полагалось критиковать, но знать. Для этого стояли копировальные машины, ротапринты. Такие ротапринты были в любом уважающем себя НИИ, просто в ИНИОНе их было больше. Ротапринты, так же как потом ксероксы, стояли в отдельных кабинетах, запиравшихся на ключ. Тогда это были огромные сложные махины, напоминавшие настоящие заводские станки. Доступ к ним имели далеко не все сотрудники соответствующих НИИ, а лишь прошедшие проверку «первым» отделом. Система «первых» отделов, если речь шла о всесоюзных организациях и учреждениях, напрямую подчинялась КГБ. Все было строго.
И тем не менее размножение такой вот «полунелегальной» литературы расцвело в Москве 1980-х пышным цветом! Сборники, рефераты, книги с грифом «ДСП» («для служебного пользования»), как правило, имели порядковые номера. Иногда их «служебный» тираж доходил до 200–300 экземпляров. Так вот каждый экземпляр был пронумерован. Но когда умелые (еще и смелые!) люди делали «слепые ксероксы» с какого-нибудь 150-го экземпляра, вместо номера там оставалась черная дыра – номер попросту заклеивали. Сделать нелегальные копии за деньги можно было через посредников, знакомых с работниками копировальных машин.
Но особенно востребованную или опасную литературу размножали иначе: на пишущих машинках или на фотокопиях, вручную. В кругу друзей авторов этих строк таким образом не раз перепечатывали самую разную литературу: стихи, эзотерические трактаты, лекции или, например, стенограммы заседаний кружка Щедровицкого.
Эта была особая система, хорошо известная молодым интеллектуалам Москвы.
Конечно, ничего «подрывного» или «запретного» в этом «ДСП» не было – и тем не менее именно эти ротапринты и ксероксы позволили, например, молодому Гайдару ознакомиться с большим корпусом мировой экономической литературы (и на английском, и на русском языках).
Да, это, конечно, был большой недосмотр советской власти…
Впрочем, в ИНИОНе не только «ксерили» (тайком и легально) и не только читали.
Здание окружали – точнее, были его архитектурными элементами – какие-то уродливые декоративные бетонные сооружения: пандусы, лестницы, арки и небольшие искусственные водоемы. В любое время года здесь стояли группки людей, обсуждая, так сказать, прочитанное, делясь мыслями и суждениями, дымя дешевыми сигаретами болгарского, в основном, производства. «Дискуссионный клуб» ИНИОНа, таким образом, работал от открытия до закрытия. Были и другие удовольствия: проходили так называемые «открытые лекции», записавшись заранее, любой желающий мог прийти, например, на лекцию Сергея Аверинцева, выдающегося русского филолога с мировым именем. Лекции проходили в большой аудитории, в которую приносили из других комнат стулья, в ней помещалось человек 30–40. Иногда сидели и на подоконниках. Поскольку лекции начинались после окончания рабочего дня, в соседних помещениях уже никого не было. В коридорах огромного пустого здания было уже темно и страшно, а здесь горел свет.
Словом, ИНИОН излучал ощущение свободы – свободы мысли, прежде всего. Именно это излучение делало его таким притягательным. Да, это была не просто библиотека…
Но и свою личную среду обитания Гайдар тоже превращал в библиотеку. Летом 1985-го новый петербургский друг, экономист из круга Анатолия Чубайса Сергей Васильев, навестил Егора в Строгине, где он тогда жил с первой женой Ириной и детьми Петей и Машей:
«Его семья была на даче, мы общались практически целый день, ходили купаться на пляж напротив Серебряного Бора. Меня поразил кабинет Егора, по периметру застроенный книжными стеллажами, – эта конструкция была повторена потом во всех его домах».
В последнем домашнем кабинете Гайдара в квартире на Осенней улице авторы этих строк побывали (здесь теперь живет Петр Гайдар со своей семьей) – тоже всё так, как и в Строгине, как описывал Васильев. По всем четырем стенам – до самого потолка – книжные полки. Именно эту, и только эту мебель Егор проектировал сам. Сам рисовал эскизы. Сам говорил с плотником. Сам выбирал чуть ли не материал для полок, устройство стеллажей, стекол, высоту и длину. Это было его личное пространство в квартире – все остальное он предоставлял домашним.
И так было в каждой квартире, в каждом кабинете, на любой даче, на любой работе – его личная среда обитания строилась, исходя из расположения книг. Книги должны были именно окружать его самого и рабочий стол, как бы поддерживать его в центре вселенной.
Какие же это были книги?
Итак, тут – марксизм, тут – античность и восточные цивилизации, тут – теории современного экономического роста.
Не все, что читал тогда Гайдар, было, что называется, «в свободном доступе». Он окончил МГУ в 1978 году. Интересно посмотреть, что тогда считалось наиболее острым «самиздатом», что именно входило в обязательный круг чтения развитого молодого человека.
Начнем, пожалуй, с философии.
В том же 1978 году Мераб Мамардашвили прочел три лекции во ВГИКе, на сценарном факультете. История умалчивает, кто был их инициатором, но надо признать, что акция была по тем временам довольно смелая – Мамардашвили уже был в опале. Тем не менее лекции ему разрешили. Помимо будущих сценаристов, на них попали и те, кто хотя бы приблизительно знал о том, что Мераб Мамардашвили – крупнейший ученый, блестящий знаток западной философии.
Лекций было три: о феноменологии, об античном атомизме, об экзистенциализме.
Темы первой и третьей были, пожалуй, в русле поисков молодых московских интеллектуалов того времени. Гуссерль, Маркузе, Фромм, Адорно, Хайдеггер, Сартр – все они были на слуху, и «слепые ксероксы» их работ передавались из рук в руки так же активно, как Солженицын или другая «антисоветчина», то есть книги Роя Медведева, Льва Копелева, Владимира Войновича и др.
Причина интереса к темам лекций была проста: все эти современные и актуальные философы так или иначе апеллировали к марксизму. Критиковали и «развивали» марксизм, отталкивались от него. Но и вносили в марксизм новое, абсолютно радикальное содержание.
Трудно сказать, интересовала ли Гайдара эта проблематика тогда, в 1978 году, тем более что в случае Мамардашвили это были не тексты, а в лучшем случае магнитофонные записи. Но можно сказать определенно другое – любая критика марксизма его тогда интересовала очень сильно. Гайдар был, можно сказать, из последнего поколения экономистов, которые знали работы Маркса едва ли не наизусть.
Мама у Егора была ученым-историком. Маркса в своих работах ей, как и другим советским ученым, частенько приходилось ритуально цитировать.
Взяв однажды привычным образом с полки зачитанный, знакомый том «Капитала», Ариадна Павловна ахнула. Том был буквально изрисован цветными карандашами.
– Ты что сделал, Егор? – в ужасе и удивлении воскликнула она. – Зачем ты испортил книгу?
– Я ничего не испортил, мама… – сказал сын, войдя в комнату. – Это же наш экземпляр, я просто сделал пометки.
– Какие пометки?
– Синим я выделил фрагменты, с которыми согласен. Красным – с которыми не согласен. Зеленым – над которыми еще надо подумать.
Это случилось еще в седьмом классе.
Итак, Маркс. Затертые тома студенческих лет, знаменитый трехтомник 1970–1974 годов издания, с самым зачитанным первым томом – стояли (и до сих пор стоят) на полке в рабочем кабинете Гайдара в Институте экономической политики. Рядом с «Анти-Дюрингом» Энгельса, с несколькими работами Михаила Туган-Барановского в дореволюционных изданиях и современной литературой о марксизме.
Собственно, с «Капитала» началась научная карьера Егора. Точнее, с задиристого спора о Марксе с преподавателем, который вел спецсеминар.
Молодой доцент Виталий Исаевич Кошкин увидел поднятую руку. Круглолицый юноша вежливо, но твердо заявил, что преподаватель неправильно трактует положение Маркса о соединении науки с производством. Кошкин предложил второкурснику Гайдару встретиться неделю спустя на том же семинаре и сверить точность цитат. Доцент прибежал домой сильно обеспокоенный – не хватало еще опозориться перед студентами! Открыл «Капитал», нашел цитату – и выдохнул: все правильно. Спустя неделю Гайдар нехотя признал свою ошибку, но, исписывая доску формулами, стал доказывать, что «вообще-то Маркс был не прав». Это Кошкина, конечно, тоже несколько поразило.
Преподаватель пригласил Гайдара в студенческий кружок, а затем предложил писать курсовую по кафедре экономики промышленности.
Экономика. Что читал в эти годы молодой Гайдар?
Молодые экономисты тогда читали Мансура Олсона и, в частности, его классическую работу «Логика коллективных действий». Но главное – они читали в английском переводе «Антиравновесие» (1971) и «Экономику дефицита» (1980) венгра Яноша Корнаи. Это в социалистической Венгрии он издавался свободно и продавался в книжных магазинах, а вот в СССР его можно было найти только в виде инионовского ксерокса. «Экономику дефицита» журнал ЦК КПСС «Диалог» решится печатать фрагментами только в 1990 году, когда, мягко говоря, «будет уже поздно».
Собственно, ключевая мысль Яноша Корнаи – и не только в этих двух работах – состояла в том, что экономика дефицита органически присуща социализму и избавиться от нее в рамках социалистической системы нельзя. Можно бороться, но нельзя победить. Можно только перейти к экономике избытка, которая, в свою очередь, органически присуща капитализму. О том, как происходило это знакомство с Корнаи, рассказал ленинградец Сергей Васильев – на своем личном примере: «Его фамилия нам была хорошо известна, в институте мы проходили так называемый метод Корнаи-Липтака, позволявший находить оптимальные решения в задачах линейного программирования с большой размерностью. Тут, однако, выяснилось, что Корнаи не только сильный экономист-математик, но и крупный специалист в экономической теории… Я загорелся идеей найти саму книгу («Антиравновесие». – А. К., Б. М.). Нашел ее через полгода (в 1979 году. – А. К., Б. М.) в библиотеке Ленинградского отделения ЦЭМИ и прочел залпом… А “Экономику дефицита” впервые увидел в ксерокопии на руках у Сергея Коковкина весной 1982 года».
Гайдар учился в первом гуманитарном корпусе МГУ (в год окончания им университета в строй был введен второй гуманитарный, и туда переехал экономфак) – в огромной длинной «кишке», здании из стекла и бетона, тоже памятнике позднего советского модернизма, тоже циклопическом по масштабам, тоже построенном по уникальному проекту – с невероятным количеством аудиторий, кабинетов, лестниц и переходов, только, пожалуй, без архитектурных излишеств и кубических красот ИНИОНа. Отсюда до ИНИОНа, кстати, было рукой подать – от станции метро «Университет» до «Профсоюзной» ходили 130-й автобус, 47-й троллейбус, 26-й трамвай, да можно было и пешком добежать, перейдя Ленинский проспект, минут за тридцать.
Путь, проторенный многими аспирантами и студентами.
…К сожалению, в 2015 году ИНИОН сгорел. Сгорел подчистую, вместе с большинством книг, редких и уникальных. Это была огромная трагедия. Потом институт восстановили, но долгие годы вместо былого архитектурного великолепия зияла черная обугленная яма, обнесенная забором.
И сгорели, прежде всего, не сами эти книги, не уникальное здание, сгорел символ эпохи. Эпохи, когда книга была не просто книгой – а прежде всего жестом сопротивления.
Да, для Гайдара и его ровесников чтение тех или иных книг было именно таким жестом сопротивления. Они читали порой то, что не разрешалось, не приветствовалось или было просто опасным, и читали не только потому, что «запретный плод сладок», а потому, что они истово и планомерно расширяли рамки своего мировоззрения, пытались выстроить новые взаимосвязи в обозримой реальности. Они хотели, в конечном итоге, расширить горизонты возможного.
Это касалось, конечно, не только книг, хранившихся в ИНИОНе, это касалось вообще всех книг.
Сейчас, когда издано практически все, что не издавалось тогда в СССР, и понятия «запрещенная книга» уже не существует (за редчайшими исключениями), стоит разобраться: а почему же именно книга аккумулировала в себе эту энергию сопротивления?
В книге Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» яркие страницы посвящены изучению круга чтения молодежи 1970—1980-х годов. Вот как описывает круг своих интересов одна из посетительниц знаменитого кафе «Сайгон» (кафетерия на углу Невского и Владимирского проспекта, где собирались «неформалы»: художники, музыканты, писатели и другие непризнанные гении, хиппи и панки позднего СССР):
«Мы говорили об эстетике, о Толстом и Пушкине, о Сосноре… Просто много разговаривали. Ходили по городу и разговаривали об архитектурных стилях, о модерне. Гуляли по дворам и лазили по крышам и все время о чем-то говорили… Еще мы разговаривали на всякие безумные историко-философские и религиозные темы. И постоянно спорили… Мы читали “Миросозерцание Достоевского” Бердяева. Нам было важно переписывать от руки со старых редких изданий, со старым алфавитом, орфографией, пунктуацией».
«Мы уже упоминали, – обобщает сказанное профессор Алексей Юрчак, – что участники подобных сред и кружков были увлечены идеями и темами, способствующими созданию особых отношений вненаходимости внутри системы, – античной историей и иностранной литературой, досоветской архитектурой и поэзией Серебряного века, теоретической физикой и ботаникой, археологией и западной рок-музыкой, буддистской философией и православной религией… Вспомним, что постоянные посетители кафе “Сайгон” могли одновременно интересоваться и французской поэзией, и древнеславянским языком, и книгами по классической физике, не интересуясь при этом “политическими” темами… Символы далекой истории и зарубежных культурных контекстов были интересны и важны не только сами по себе, но и потому что они вводили в контекст советской повседневности временные, пространственные и смысловые элементы иного мира».
Да, Гайдар не был завсегдатаем кафе «Сайгон» (хотя многие его ленинградские друзья туда, безусловно, захаживали), он мог не интересоваться ни французской поэзией, ни древнеславянским языком, однако «смысловые элементы иного мира» его интересовали очень сильно, и так же как ленинградская девочка из кафе, он мог бы сказать о круге своих друзей: «мы постоянно спорили», «мы постоянно много разговаривали».
Главное, что отличало молодых людей, которые потом войдут в команду Гайдара и Чубайса, – это попытка преодолеть страх. И первым шагом к этому было самообразование, поиски альтернативного, неортодоксального знания.
Словом, из библиотек они уходили последними, ближе к десяти вечера. Чтения тут хватало, и даже с избытком.
А вот чего им не хватало в студенческие и аспирантские годы конца 1970-х – так это единомышленников.
Можно назвать этот период временем интеллектуальной изоляции, а можно – эпохой создания кружков. Как появлялись, образовывались эти самые кружки в 80-е годы?
Молодые люди, читавшие одни и те же книги, передававшие их друг другу, рано или поздно объединялись в кружок. «Кружок» – это поначалу нечто эфемерное, просто несколько человек. Как правило, это однокурсники, но далеко не всегда. Как правило, очень молодые люди. Как правило, они собирались дома, но и из этого правила были исключения.
Интеллектуальная почва поздней советской эпохи, которую мы до сих пор зовем «брежневщиной», высушенная запретами, цензурой, почти окаменевшая из-за общего духа неверия, тотального редакторского (идеологического) страха, начала понемногу разрыхляться и постепенно прорастать новыми зелеными побегами – благодаря вот этим студенческим, аспирантским, мэнээсовским кружкам.
Входившие в них люди были разными. В чем-то вообще несовместимыми. Порой невозможно было представить себе в одной квартире персонажей со столь разными взглядами и интересами – но иногда благодаря какому-нибудь дню рождения, или общей увлеченностью какой-нибудь одной девушкой, или гостеприимству какого-то московского дома они, эти разные планеты, встречались на одной орбите и находили общие языки.
Как правило, все это еще и сопровождалось «лекциями» и «докладами», то есть подобием академических штудий, только под чай, вино и пирожки.
Можно перечислить несколько московских кружков. Просто чтобы составить общую картинку.
Одним из первых знаменитых московских кружков был так называемый Логический кружок, который основали вчерашние студенты МГУ, знаменитые впоследствии философы М. Мамардашвили, А. Зиновьев, Г. Щедровицкий, Э. Ильенков.
Каждый из них пошел своей дорогой и стал знаменитостью, однако «кружок методологов» продолжал существовать и после того, как они разошлись, – его вождем и идейным вдохновителем долгие годы оставался Георгий Щедровицкий. Причем кружок был уже не один. Методологических кружков только по Москве было несколько.
…Совсем немаленький и довольно важный кружок сложился вокруг последователей Юрия Лотмана и так называемой тартуской семиотической школы – именно там, в Эстонии, нашел себе приют выдающийся русский мыслитель и историк культуры. Его ученики, студенты и аспиранты, регулярно встречались и в Москве, и в Питере, в самых разных домах.
Совершенно другой по направлению мысли философский кружок собирался в доме писателя Юрия Мамлеева. Это были люди, которые заговорили о «конфликте цивилизаций», об особом пути России, о мистике истории. Здесь впервые появились в интеллектуальном контексте молодые философы Александр Дугин и Гейдар Джемаль, писатель Евгений Головин и поэт Игорь Дудинский. Все они заняли крайне антилиберальную, антизападную позицию позднее, в 90-е годы и 2000-е, но тогда все это было «советское интеллектуальное подполье». И все были против советской власти, конечно. Кружок называли «южинским», потому что поначалу он собирался в коммунальной квартире у Мамлеева в Южинском переулке, а потом, после его эмиграции в 1974 году, – уже в других местах и квартирах.
Особый кружок сложился вокруг историка Михаила Гефтера. В него, например, вошел только что вернувшийся из ссылки молодой диссидент Глеб Павловский из Одессы, пострадавший в середине 70-х за свои марксистские прокламации (мы уже говорили, что «творческое», самостоятельное прочтение Маркса в те годы было небезопасно). Здесь разрабатывались новые подходы к историческому мышлению, изучались труды западных историков философии. Сам Павловский среди ярких и опальных московских интеллектуалов того времени называет философа Генриха Батищева, другого философа – Вадима Межуева, футуролога Игоря Забелина, Григория Померанца.
Впрочем, в середине 80-х московские студенты уже не боялись говорить о политике и экономике. Кружок молодых социалистов и анархистов появился на историческом факультете Московского пединститута. В него входили студенты, только что отслужившие в армии, – Исаев, Бабушкин, Шубин, Золотарев. Постепенно он оброс сочувствующими и начал носить гордое имя «Община». По сути дела, это был первый троцкистско-анархический кружок в Москве.






