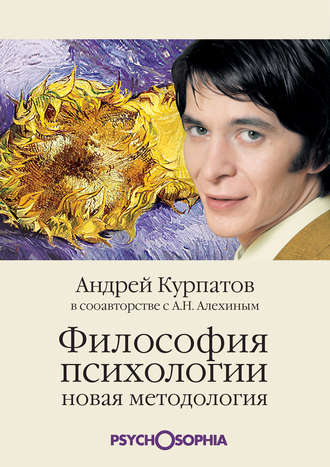
Андрей Курпатов
Философия психологии. Новая методология
Религия
Изначально спонтанно зарождающаяся религия была, естественно, открытой системой, принимая в себя все то новое, с чем сталкивался человек, входящий в пространство создаваемой им культуры. Все находило в его мировоззрении свое место – таковым было язычество, одухотворенное мифом. Свободный и пластичный каркас человеческого мировосприятия не сопротивлялся ничему из своего первичного психологического опыта, ведь, собственно, пока только он и имел место быть. Человек одновременно ощущал себя и центром, и частицей мира. Он был занят своим существованием, удовлетворением своих потребностей и желаний, и его боги были всегда рядом и благосклонно (или не очень) взирали на него с портиков античных зданий.
Миф, обладая поразительной целостностью, мог соединить в себе все и извлечь из этого толк. Мир античного человека не требовал объяснений себя – он требовал созерцания и довольствовался простым описанием.[11] При колоссальном количестве богов и божков античных мифов, отвечающих за различные сектора человеческой деятельности и доступной глазу природы, мы имеем дело с одним и тем же Богом, имя ему – «Миф». Человек этого времени так и поклонялся этому «целостному Богу», всякий раз называя его по-разному. Например, виноградарь благодарил Диониса, который соответствует его «профессиональной» деятельности, однако для древнего грека «конкретный бог» (как, впрочем, и для индуиста, но тут несколько иная ситуация) – это лишь своеобразная эманация одного, единого Бога. Для древнего грека в этом смысле Бог был даже более един, нежели для христианина, – по крайней мере, он ничему не был противопоставлен. Нет ни Ада, ни Сатаны, а тем более греха, как его понимает христианство.
Для древнего грека не существовало таких «различий», как мы их с вами понимаем. И верно, если бы мы спросили его, то он вряд ли смог бы найти сущностные отличия и ограничился бы лишь внешними характеристиками того, чего он никогда в жизни не видел, что в целом делает эту ситуацию забавной. По сути же отличия бы отсутствовали. Возможно, впрочем, что настоящий древний грек и вовсе бы не понял нашего вопроса; ведь это только современный человек, лишенный естественных отношений с миром, способен увидеть различия там, где их изначально не было да и не могло быть. Именно поэтому история и не сохранила, а вероятнее всего, и не имела конфликта на почве «неподеленного» бога – ни религиозных войн, ни внутриконфессиональных. Персы, как известно, ничуть не меньше ценили советы дельфийского Оракула, нежели сами греки.
В этом смысле «забавными» представляются войны католиков с протестантами, православия с католичеством, когда Бог и вовсе один и тот же! В такой ситуации древний грек просто не понял бы воюющих, принял бы их за полоумных. И дело тут не в компромиссе – единство Бога-Мифа очевидно и делить здесь совершенно нечего. А то, что существует такая строгая иерархия значимости, родственные отношения между античными богами – это во многом надуманная и искусственно воссозданная структура, излишне конкретизированная и извращенная нашим «членящим» сознанием. Что бы мы тут ни говорили, как бы ни пытались воспроизвести ощущение единого Бога-Мифа, наше сознание не в состоянии приблизиться к той наивной эпохе, когда разделение не было разделением. Даже тогда, когда мы прикасаемся к документальным фактам той эпохи, мы нашим изощренным аналитическим аппаратом так «форматируем» эту информацию, что понять ее такой, какой она была в оригинале, уже совершенно невозможно.
Сложно предположить, что древний грек, поклоняющийся какому-то богу, который отвечает, например, за вопросы скотоводства, всегда имел при себе мысль, что, мол, «хоть я и поклоняюсь тебе, Аристей, как покровителю пастухов, но я-то помню, что ты вовсе не такой уж божественный, не чета Зевсу, а в лучшем случае только внук его или даже правнук. И хоть я тебе, Аристей, молюсь, тебя почитаю, я-то помню, где твое место…» Аристей, несмотря на «дальнее родство», связующее его с великими божествами, так же велик для почитающего его древнего грека, как и Зевс, поскольку между ними не было того разграничения, как мы думаем.[12] Наконец, если мы говорим об иерархии античных богов, неужели же мы можем думать, что в Древней Греции кто-то специально акцентировал внимание на родственных связях Олимпа, которые в мифологии хронически инцестуозны? Коли так, то все рассуждения Фрейда по поводу табу просто бессмысленны – если это само собой у богов, то о каком табу может идти речь в грешной человеческой жизни?
Понятно, что такая система мировоззрения подобна пластилину и мало к чему была пригодна. Эта религия проистекала из жизни и не могла обеспечить дальнейшего развития социальной системы. Она была результатом познания мира, а не средством его изменения. Поэтому она и не выдержала амбициозности устремлений одних и отказа от ее простоты других. То и другое, как известно, происходило параллельно, а частенько было делом одних и тех же рук. Так, например, император-полководец Марк Аврелий воевал с варварами за свою «античную веру» и одновременно с этим писал стоические книги, которые ставили вопрос о личной ответственности перед некой высшей добродетелью. И все это естественным путем развития вылилось в дальнейшие системные трансформации мировоззрения.
На смену «греческой свободе» уверенно всходила заря «еврейского прагматизма». Так постепенно шел второй этап в развитии религии. Человечество обязано иудаизму действительным созданием единобожия, что укрепляло государственность и структурировало жизнь. Сначала иудеи объявляли Иегову лучшим богом, а потом, обособившись от других племен, назвали Единственным. Сработали два основных рычага: прагматизм и дихотомность. Как писал тот же Эрнест Ренан, «народ, призванный к высшему предназначению, должен представлять из себя полный маленький мир и вмещать в своих недрах противоположные полюсы».[13] Сама форма проявления религиозного культа внешне и не очень разнится: там – храмы богов, здесь – синагоги. Только «там» – мифологичное причастие, таинство. А «здесь» – сухое, не трогающее душу говорение (что потом так будет раздражать Иисуса). Теперь не священнодействуют, не ощущают, а думают. Дохристианский иудаизм переходен по своей исторической сути. Собственно, сам мировоззренческий кризис произойдет позже, пока же сознание к нему только подготавливается.
Что составляет «каркас» религиозной концепции мира и человека, формирующийся на данном этапе?
Во-первых, это Ад и Рай, которые, понятно, не доступны человеку, но «есть» и, соответственно, могут быть «познаны». Ну а раз познаны, значит, и верны, а если верны, то надо одного бояться, другого хотеть; а значит, есть право на перспективу, а если есть право на перспективу, есть самое главное – «смысл жизни», то нечто, что так и не давалось древним грекам.[14] Конечно, не «значит» и не «если», но только в том случае, когда мы смотрим на эту логическую цепочку со стороны. В рамках же самой религиозной системы, заручившись даже критическим взором, увидеть эти допущения не представляется возможным. Жизнь человека конечна, а потому есть и творение мира, и апокалипсис, и чем-то необходимо заполнять пробелы.
Во-вторых, введение категорий «добра» и «зла», реальность отношений которых оказалась вне конкуренции и обеспечивала равновесность системы. Реальность, продиктованная позиционными (хотя это только до поры до времени) боями, образно говоря – «темных» и «светлых» сил, представляется весьма естественной. Тем более, учитывая практику жизни, которая всегда мало кого устраивает и, безусловно, вызывает мысли о лучшем – где-то там, впереди. И тут возникают соответствующие трактовки: «Это все временно, будет лучше. Всем „грешникам“ воздастся, надо чуть-чуть потерпеть, и придет царствие небесное». Здесь же вводятся очередные допущения, основанные на представлениях о загробной жизни: наслаждение – страдание, в зависимости от того, чьи позиции (ангела или же падшего ангела) занимает человек «в миру» (с каким усердием зарабатывает он улучшение будущих «жилищных условий»). Ну и плюс ко всему идеи о том, что справедливость воссияет, потому что она просто обязана это сделать.
В-третьих, определение человека «по образу и подобию» снимает вопрос о сущности человека. Впрочем, именно эта проекция впоследствии и породила цепочку: «по образу и подобию» – «богочеловек» – «человеко-бог» – «Я – Бог!» Причем заметим, что последнее может сказать только религиозный, верующий человек, а не нигилист, как это может показаться. Не будь человек религиозным, ему бы и в голову не пришло наименовывать себя Богом, а вот после того как он сделал это, он становится нигилистом, организуя еще один способ веры.
Вот тут-то как раз и обнаруживает себя кризис мировоззрения. Отметим: именно гносеологические допущения, положенные в основание религиозной концепции мира, порожденные дихотомичностью и прагматичностью сознания, определили ее кризис и сроки ее существования. И теперь она либо должна реформироваться, причем кардинально, либо, что называется, уйти со сцены.
Попробуем вычленить основные узлы религиозной концепции второго этапа развития человеческого мировоззрения. Тем более что, как мы увидим дальше, они – эти этапы – инвариантны для различных систем научного знания и реализуют теоремы системного подхода, к анализу которых мы приступим также позже.
Во-первых, было осуществлено «познание» вещей, не имеющих места в чувственном опыте: «Ад» и «Рай», которые определяют смысл и направление человеческой жизни. Фиктивное познание недоступных познанию вещей, зафиксируем это.
Во-вторых, созданы реальность и деятельность, отсутствующие в опыте (мнимая): борьба сил «Света» и «Тьмы», которая движет миром и результат которой – история человечества.
В третьих, это проекция своих знаний человеком в мир, в реальность (творение, изгнание, подобие), что «естественно», потому как – другого не дано.
Надо сказать, что жесткость единобожия, точнее, жесткость установок соответствующей религиозной доктрины относительно системы человека определяет ее практичность. Поскольку чем меньше места для сомнения – тем крепче вера. Но, с другой стороны, сам факт постулированных отношений человека и Бога делает возможным «еретические» толкования этих отношений. А идея выбора веры предполагает нигилизм чем-то вроде подпункта «против всех» в общем списке политических партий.
Таким образом, само христианство, разумеется, не заостряя на этом внимания и, конечно, не собираясь этого делать, самолично дает нам максимально демократические посылки: ведь, по сути, здесь человек становится Богом. До тридцати лет Христос несведущ в своем происхождении и предназначении, преображение, связанное с крещением, открывает ему перспективы, и именно с этого момента и начинается деятельность Иисуса в роли «Бога-сына». Кроме того, Он зачат в утробе смертной женщины, которая в последующем, причем безоговорочно (особенно в православной традиции), получает божественные приоритеты. Он даже имеет смертного отца (!) – Иосифа, ну и, кроме всего прочего, умирает, как и должно человеку, в мучениях и страданиях.
Поэтому нет ничего странного в том, что система человека допускает в христианском мировоззрении различные отхождения, отклонения от доктрины. В том числе и представленную выше цепочку трансформации «человека» в «Бога». В противовес христианству ислам, например, ограничивается земным представлением лишь Пророка, чем обеспечивает непререкаемость авторитета Бога. Аллах в результате не скомпрометирован человеческими слабостями, он оказывается однозначно «над» и непоколебимо стоящим. Ислам, таким образом, помещает самого человека в безусловно подчиненное положение, что на заведомо более длительный срок лишает человека даже «надежды» на крамольные мысли и на нигилистическую независимость. Итак, чем жестче структура отношений внутри религиозных субстанций, чем определеннее место человека.
Тем эффективней работает и то, что можно назвать «религиозной психотерапией», когда кризисные состояния рассматриваются в рамках церковной доктрины. Рассвет подобной религиозной директивной психотерапии приходится, конечно, на соответствующий период. И именно эта ее директивность постепенно разрушает ее же собственную жесткую закрытую систему. Благо все необходимые посылки, как мы только что выяснили, есть в самой доктрине. В религиозном мировоззрении возгорается пламя нигилизма.[15]
Единобожие в конечном итоге привело к жесткому противопоставлению Бога и человека. И с тех пор как точки напряжения были определены, психотерапевтическая ценность религии пошла на убыль. Построение системы на дихотомии привело к флотированию точки обзора (когда происходит смещение точки обзора, но без отказа от нее), возникла необходимость в большом количестве привнесенных идей, что впоследствии и обеспечило разрушение религии;[16] фактически она разрушилась сама.
Отказ от религии поставил перед человеком задачу решить ту массу вопросов, которые решила для себя (и для него, конечно) религия, – это все те же вопросы смысла жизни, «бытия и жизни», смерти (отсутствия бессмертия), морали (которая подчас теряет в такой компании всякий смысл), «правды», «истины» и справедливости, реальности и ценности собственного опыта. Для многих такое испытание оказалось тяжелее, чем можно было представить. Современному человеку чрезвычайно тяжело понять – что страшного в том, что кому-то когда-то пришлось разувериться в Боге? Но мы возьмем на себя смелость утверждать, что в тех условиях (двухвековой и более давности) отказ от Бога значил отказ от всего – абсолютный нигилизм (а не обычный и совершенно безобидный атеизм, столь привычный сегодня), ни с чем не сравнимое разочарование во всем! Да что там «двухвековая давность»! Сергей Есенин – почти наш современник (по крайней мере, мог им быть) – пишет строки, которые отражают глубину этой трагедии:
«Стыдно мне, что в Бога я верил.
Горько мне, что не верю теперь».
Нигилизм отказался от всего религиозного, всего, что было связано с этим, прежним мировоззрением, в том числе и от религиозной модели человека. И бывшие прежде решенными проблемы, проблемы подчас даже не стоявшие, поскольку все было ясно с раннего детства, теперь высветились столь ясно, что не заметить их было уже невозможно. Ни законченность гегелевской диалектики с ее «Абсолютом» и «мировым духом», ни уловки «творческой эволюции» Анри Бергсона с опорой на естествознание, ни что-либо иное не могло справиться со страхом, который, подобно тени, никогда не расставался с нигилизмом, сопровождавшим человека на уровне полусознательном, более эмоциональном, нежели интеллектуальном, – на уровне, где ничто не может «убедить» нас в том, что это лишь «иллюзия» и «дурной сон».[17]
Так завершается второй этап развития религиозного знания. Но сейчас все более и более явственно проявляет себя третий уровень этого развития, который характеризуется терпимостью мировых религий друг к другу, сближением конфессий. Само по себе религиозное знание становится менее строгим, и наблюдается тенденция к сближению ранее бесконечно далеких друг от друга, даже противопоставленных направлений – Востока и Запада. И если «западники» несут на эту встречу интеллектуально-мировоззренческие системы, способные дать наполнение социальной жизни, то религия Востока обогащает Запад духовной практикой, то есть фактически обращает нас к индивидуальной жизни. Здесь появляются серьезные перспективы.[18] На Востоке у человека точка обзора стоит там, где ей положено быть, – в человеке, и это обеспечивает ему системность мировоззрения. Запад же перещеголял Восток по содержательному наполнению – и здесь ничем не придется жертвовать. Так что теперь в принципе ничто не мешает их соединению, переходу на принципиально новый уровень развития религиозного взгляда человека на мир.
Философия
Если религия до некой поры справлялась с психотерапевтическими функциями – через исповедь, то философия была проповедником и своей проповедью открывала новые направления движения. Если религия шла в мировоззрение через религиозное чувство и на нем основывалась, то философия шла из потребности человека в осмыслении действительности и именно такое место отвела себе в мировоззрении человечества.
Сейчас наша задача вовсе не в том, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-либо философскую систему, – отнюдь. Нам бы хотелось просто показать философскую ось в мировоззрении как таковом. И конечно, мы не претендуем на изложение всех, тем более новейших, философских течений и тонких полемик. Мы попытаемся лишь усмотреть некие тенденции, которые привели философию к нынешнему ее состоянию, поскольку если и научен исторический метод, то сфера его употребления как раз где-то здесь – в области развития самой философии. Причем будем понимать здесь под философией прежде всего процесс развития философской мысли и только потом – философские методы познания.
Если подвергнуть философскую мысль весьма грубой систематизации, то, на наш взгляд, правомерно выделить два фундаментальных направления. Первое посвящено исследованию процесса познания, это первый вопрос Канта: «Что я могу знать?» Второе раскрывает особенности индивидуальных мировоззренческих установок разных мыслителей, и тут все три оставшиеся вопроса от Иммануила Канта: «Что мне надлежит делать?», «На что я смею надеяться?» и «Что такое человек?»
Надо отметить, что последнее из этих двух направлений ныне наименее популярно, причем по ряду причин. Во-первых, современные темпы жизни и способы обмена информацией – чем короче, тем лучше – никак не способствуют длительному процессу кристаллизации философских систем, а тем более их представлению: целиком и томами.[19] С другой стороны, создано уже достаточное количество «принципиальных» мировоззренческих моделей в философии, чтобы в общем-то удовлетворить любой, даже самый изощренный и взыскательный вкус. Так что более-менее актуальными остаются пока только гносеология и ее современные разновидности.
Что ж все-таки относительно мировоззрения? Очевидно, что это скорее психологический вопрос, нежели философский. Робот не нуждается в мировоззрении, и, вероятно, глупо рассматривать систему закономерностей, обеспечивающих его работу, как аналог мировоззрения. Скорее, это аналог условно-рефлекторных дуг, где нет места индивидуальности и сомнению. Впрочем, может быть, мировоззрение – это чудачество, неужели не бессмысленно создавать целые системы «принципов», затрудняющих естественное течение жизни, и все ради того, чтобы почувствовать себя уверенным? Что это за патологическое желание чувствовать себя уверенным, свойственное человеку? Откуда неуверенность и что это за странный комплекс неполноценности? Зачем мировоззрение? Невозможно обосновать необходимость мировоззрения и с собственно социальных, социологических позиций, поскольку это было бы равноценно попытке вывести необходимость Вселенной из нужд Homo Sapiens. Со странной настойчивостью мировоззрение проявляет себя как имманентно присущий индивидуальному человеку атрибут.
Философия, как и религия, начиналась с целостности. Целостным было мировоззрение античного человека, и целостность эта универсальна, там еще нет места для «главного вопроса философии», нет места ни для идеализма, ни для материализма. Постфактум мы, конечно, можем выделить «предвестников» материализма и идеализма в структуре античной философии, но это только постфактум. Мировоззрение же этих философов целостно и непротиворечиво. Идеализм Платона – это мир сущностей, которые наполняют бытие, обнимают его, а его так называемое «идеальное государство» не предполагало развития. Целостность и единство во всем. А вот уже неоплатонизм готовит кризис, за которым откроется новый уровень мировоззрения.
Так что буря разыгралась. Мировоззренческий хаос развала великой империи, период весьма непростого становления новой религии. Время безвременности. И философское мировоззрение, склонив голову, последовало за религией – простой и незатейливый идеализм шел с человеком рука об руку вплоть до второй половины нового тысячелетия. Именно к этому времени назрело «вольнодумство», причем в самом идеализме – о Боге стали «рассуждать». Ренессанс дал новый толчок науке, та обзавелась материализмом, и под давлением этой силы двери философского мировоззрения распахнулись. И возникло два полюса – материального и идеального, они поравнялись силами, поставили свои «следственные эксперименты».
Так обозначилось начало третьего периода в процессе развития философии. Борьба и настойчивое противоборство этих мировоззренческих систем, где представители каждой были уверены в своей правоте, но, кроме этой уверенности, ничего не могли предложить. Все это естественным образом привело к простой смене предмета изучения – она вновь вернулась к человеку, с чего по сути и началась. Вернулась и принялась за осмысление психологического опыта – экзистенциализм, феноменология, философская антропология и антропософия; список можно продолжать. Говорить о том, что произошла смена этапа, преждевременно – на вопрос «о человеке» ответить так и не удалось, хотя было сделано многое. Однако не изменилось отношение к человеку – точка обзора все еще блуждает в тщетных поисках своего места.
Что-то толкает человека думать о вечных вопросах бытия, и это не бесплодное мудрствование – это жажда (недаром современная нам философия – впрочем, с этого она и начиналась – подчеркивает, что являет собой духовно-практическую форму освоения бытия). Философия же, рожденная без этой жажды, – мертвая система тщеславия, которой далеко до того, чтобы быть истинным мировоззрением человека. Мировоззрение – это живой организм, а не закрытая интеллектуализированная система, это производное нашего индивидуального отношения к жизни.
И мировоззрение – это не только вопросы: зачем бытие? достоверно ли мое бытие? Это еще и – почему я так поступил? чего я хочу? люблю ли я? Истинное мировоззрение – это внутренняя жизнь каждого человека. Но она подчас скрыта от нас же самих плотным покровом убеждений, привнесенных верований и проч., и проч. Мы не ратуем здесь за принятие кем-либо каких-либо философских концепций, а пытаемся подвести читателя к мысли о том, что философия появилась на свет не по чей-то нелепой прихоти, не просто так – «философия ради философии». Нет, это естественный процесс выражения сущности самого человека, и он никоим образом не может быть от него оторван.
Рассуждая о материальном и идеальном, философы позабыли о своем истинном предмете, устремившись в мир иллюзий. Философия – это далеко не праздная любовь человека к мудрости, рожденная по жизненным показаниям. В философии, как и в религии, человек ищет психологической помощи, и она должна, просто обязана обеспечить эту помощь, но до тех пор пока она не определится с приоритетами и точкой обзора, возможность такого ее воздействия практически скрыта.
Что произошло с философией? Почему она напоминает сейчас некоего полуживого, с трудом реанимированного субъекта без всяких надежд на будущность? Философия, если смотреть на нее целиком, все больше превращалась в софистику. Она достаточно четко определилась со своими «вопросами», бодро на них ответила (самым разным образом) и остановилась, оставив за нами право удовольствоваться симпатичными для нас вариантами ответов. Она словно бы выбрала весь спектр возможных тем и дала максимально возможный перечень ответов. Количество «доказательств» бытия Бога давно сравнялось с количеством «опровержений» оного. А что такое доказательство философской идеи или концепта?.. Если бы критерием доказательности умозаключения являлось убеждение, то ни один из философов ни разу даже бы не упомянул само слово «доказательство». А с другой стороны, что есть «доказательство», не обладающее силой убеждения? Возможно ли вообще что-либо «доказать», если это «доказательство» не убеждает? В итоге «доказательность», блуждавшая по кругу, оказалась запертой в этом круге вопросом Людвига Витгенштейна о «достоверности».
В целом философская полемика мировоззренческого толка лишена какого-либо серьезного смысла. И если изначальной сущностью философии была некая психологическая помощь человеку (с этого, собственно, и начиналась философия, будучи диалогом, развивающим представления человека о мире и о самом себе), то впоследствии эта функция, к сожалению, была ею утрачена. Экзистенциализм дошел до крайности в осмыслении человеческого начала и его положении в бытии, а дальше – остановка. И сейчас абсолютно закономерен экспорт философского знания в психологическое. От философии должно остаться то лучшее, что было в ней сделано, – в вопросе о человеке и для человека, но главное – это лучшее должно стать действительным подспорьем, инструментом, психотерапевтическим средством, помогающим и развивающим каждого из нас.
Впрочем, кроме мировоззренческой части в философии есть, как мы говорили выше, и гносеологическая. И теперь мы переходим к схематичному анализу этого второго направления – философии познания.
Теряя время от времени предмет своего рассмотрения – человека, – философия тем не менее постоянно, но несколько косвенным образом к нему возвращалась, имея целью раскрыть вопросы познавательного процесса. А как это сделать, если не оговорить особенности собственно познающего? Кажется, что никак. Но на самом деле мало кто давал себе труд хотя бы оговорить эти «особенности». Они, как правило, просто постулировались и всегда были самым большим и чуть ли не злонамеренным допущением любой гносеологической модели.
Без четкого определения самого познающего (его возможностей, тех систем опосредования информации, которыми он пользуется, и проч.) ни один гносеологический вопрос не может быть решен удовлетворительно. И здесь философия уподобилась религии, утонув в своей классической раздвоенности. Но если религия занялась решением вопроса об отношениях Бога и человека, не определившись прежде с тем, что такое Бог, а что – человек, чем и обеспечила свое будущее фиаско, то философия потерялась в противопоставлении субъекта и объекта, не удосужившись прежде определиться с тем, что же такое «субъект» и что представляет собой «объект». И это несмотря на то, что «субъект-объектные» отношения всегда были главным вопросом гносеологии. Безапелляционность рассуждений о том, как нам является мир – в «представлении», или дан в «ощущении», или таким, какой он есть, то есть как бы «объективно», – на самом деле восхищает. При этом, например, физик Альберт Эйнштейн не считал лишним при создании своих теорий начать решение математических головоломок с обращения к «особенностям» познающего,[20] то есть заняться гносеологическими вопросами, с чем, как это следует из данного примера, философия не справилась.
Проблема, видимо, в том, что сам путь, избранный философией в деле определения «субъект-объектных» отношений, был неверным. Пытаясь найти собственную тень, не определив источника света, можно рассчитывать только на удачу.
Эмпиризм Давида Юма требовал признания активного начала «объекта», по мнению философа, фактически действовавшего на «субъекта». По причине особенностей такого подхода сам «субъект», к сожалению, совершенно затерялся. Блестяще занимаясь «человеческой природой», Юм позабыл посмотреть на самого человека.[21]
Иммануил Кант предоставил «объекту» своеобразное право неприкосновенности – трансцендентной непознаваемости. Но «субъекту» при такой расстановке сил перепало также недостаточно – система представлений, мир иллюзий, совершенно новая трактовка платоновского мира идей без экстраполяции вовне. Кант предложил говорить о представлениях, знаках, но не о сущностях… Пессимистичность этого этапа в полной мере перенял впоследствии Артур Шопенгауэр.
Следующим эпохальным этапом для гносеологии стали труды Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Допуская тождественность познания и самопознания, философ полагал возможным абсолютное «поглощение» «субъектом» «объекта» через интеллектуальность. Это феноменальное допущение способно восхитить даже не посвященного в вопросы достоверности. Впрочем, он был настоящим кумиром своего времени и, видимо, мог себе это позволить.
Теоретические построения Гегеля интересны. Завораживает мысль о единстве «объекта» и «субъекта», завораживает определение Бога через «самосознание» и идея возможности быть Богом, «рассуждая». Но неустанно всплывает вопрос о достоверности. Язык играет злую шутку: определив понятие «объекта» через его функцию как «объект изучения»,[22] он породил языковую игру. Но неужели же не очевидно различие между простым «объектом» – внешним, относительно субъекта – и «объектом», где «объектом изучения» является сам «субъект»? Неужели не очевидна разница между познанием и самопознанием? Если она не очевидна, то нет разницы между ролью психоаналитика и должностью его анализанта. Но, на самом деле она есть, и более чем существенная! С другой стороны, Гегель любит говорить: «В-себе-бытие». К чему же это относится в означенной выше паре «объектов изучения»? Создается странное ощущение, что, займись мы изучением достоверности гегельянской гносеологии, мы бы не нашли ничего нового в сравнении с Кантом. А все его попытки подмены «объекта» «субъектом» – не более чем допущение, окутанное магическими словами «абсолют», «свобода», «истина» и «примирение». Гегелю хотелось бы, наверное, верить. Но нельзя.
«Противоположность» – еще одно столь любимое Гегелем слово. Но что такое «противоположность», если не две крайние стороны одного качества, делающие это качество заметным? Соединяя же противоположности, мы словно ластиком удаляем данную ось, ось, на которой локализует себя наш объект, и ничего больше. Гегелевская абсолютная диалектика могла бы существовать только в системе ньютоновских абсолютных времени и пространства, которые, как мы теперь знаем, иллюзорны. Гегель – статика, такова и его гносеология.
Гносеологические вопросы неразрешимы из «субъект-объектных отношений». Об этом говорит и любимый многими «исторический метод», это совершенно очевидно и при системном методологическом рассмотрении. Да это и слишком просто, чтобы быть правдой.
Но существующая ныне методологическая конструкция философии в патовой ситуации. Эта проблема не решаема имеющимися у нее сейчас средствами.
Пришло время, и вторая ветвь философии – гносеологическая – отказалась от разрушительной для себя дихотомии «субъекта» и «объекта». И вплотную подошла к новому этапу в своем развитии, «по умолчанию» нивелировав «объект», обозначив сферу своего интереса в человеке.







