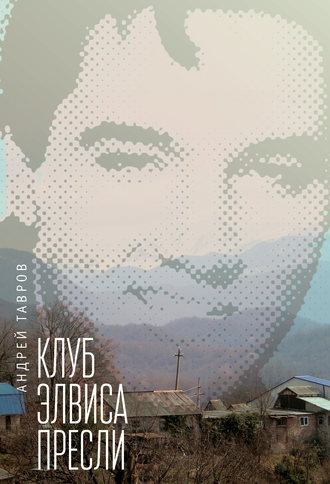
Андрей Тавров
Клуб Элвиса Пресли
Викки, зеленому зимородку
1
Совсем не обязательно, когда море синее, когда зеленое тоже. А еще раннее утро, и туман над морем, а оно, как зеркало, плоское, млечное, а Витя-саксофонист идет с удочкой на пляж, где пока еще не продают кофе, а пахнет водорослями, а сквозь ячейки железной сетки, опоясывающей теннисную площадку на спуске к морю, летит сюда стук одинокого теннисного мяча.
На пляже пусто, галька еще холодная, слышно, как плеснет волночка и умрет, а с буны видно дно с черными мочалками водорослей и асбестом песка, на камнях сидят маленькие крабы. Витю потряхивает. Он боится, что снова увидит Гама. Гам – это страшный человек, весь в белых бородавках и жирных волосах, который хочет Витю убить и появляется всегда неожиданно, то на остановке автобуса, то в туалете, а иногда на пляже. Выходит он, обычно, как будто из стекла и опять туда входит, а Витя от этого сидит на асфальте, его тошнит и ведет нехорошо к земле, но потом он всегда встает, потому что музыка. Жена его выгнала и теперь он живет у дочери, которая его не выгоняет. Витя поднимается со ступеньки и отряхивает джинсы.
Из чего это делают море по таким утрам, разве что только из молочного с зеленым стекла, а воздух, точно, делают на Луне или еще где, но, наверное, такой воздух делают еще и здесь, на пляжах у железной дороги, где он с особенным лунным отливом, и Витя идет к буне, но на нее не выходит, потому что спускается вниз, садится на гальку, прислоняется спиной к бетонным блокам с той стороны, где тень, и закрывает глаза. Удочку он поставил рядом, и она высится над ним, как древко без флага, а если бы был флаг, то был бы белым, как сигнал о сдаче.
Лучше всего быть молниеносной летучей мыслью, которая, как кусок отломанного антрацита, носится куда хочет по зеленеющему небу, а в это время зажигаются окна, и он подумал, что не мыслью, а мышью и еще что это одно и то же, потому что если не мысль о Вите, то Вити не будет тоже. Мысль о мыши делает ее антрацитной, парящей и свободной там, куда Витя может дотянуться только пока играет в ресторане или на концерте, свингуя и потопывая ногой в кроссовке, а инструмент звенит и свисает на нем, тяготя и хорошея, как выбившаяся из-за ремня незаправленная рубаха, и вознося туда, куда ногами не дойти.
Он чувствует холод воды, и, кажется, хорошо бы разуться и забрести в нее по колено, наверное, сразу же станет легче. Сквозь прикрытые веки вспыхивают колкие зайчики неправильной формы, пляшущие на волнах, которые теперь живут внутри Витиных глаз, а он думает, что на олимпийской стройке на Поляне исчезло 20 таджиков, а потом выяснилось, что их утопили в жидком растворе, и теперь, чтобы их достать, надо бетон взрывать, и все равно навряд ли он поддастся – кто же будет взрывать зацементированный котлован, а раньше на Поляне было хорошо, речка звенела, как хрусталь, и ястребы кружились в глубине небес, как справедливость и предел прозрачности.
А вот туман над морем и стал еще гуще, взамен того чтобы уйти, а наверху из кафе раздался звук движения, и Витя, оставив снасти, встал и пошел по лестнице наверх, туда, где звякнуло.
Огромный черный грохот рвет тишину в куски – это грохочет поезд на Сухуми, раскачивая ходом и ветром зеленые верхушки кипарисов, в одной из которых Витя когда-то убил воробья, а потом ночью плакал, а за стеной сарайчика какой-то курортник скрипел раскладушкой, а девчонка постанывала, а теперь кипарис качает верхушкой без воробья, или, может, с каким другим воробьем, и Вите от этого свободно и пусто.
Он подходит к буфету, заказывает сто пятьдесят водки и несет пляшущий белый стаканчик за столик под тентом, а на пляже стоит туман, то гуще, то прозрачней, как будто плывешь куда-то, а не сидишь за столиком, солнце больше совсем не проглядывает, да оно и лучше без солнца, он запрокидывает голову и, дернув кадыком по смуглой морщинистой шее, вливает в себя водку и застывает.
Он хотел бы видеть еще кого-то. Да, хоть одного человека, потому что там, в буфете, не человек, а так, сгущение. Никого нет, и он сидит, ожидая, что будет, а потом понимает, что ничего особенного не будет, и тогда встает и снова идет к буне.
А на буне сквозь туман высится над водой, словно шаря собою в воздухе, гигант в линялой розовой майке и с подводным ружьем – спуск звенит, гарпун уходит в воду, а через миг вспыхивает жидким серебром огромная кефаль, бьющаяся, как пружина, вынутая из моря, и великан, плавающий в туманном молоке то головой, то линялым сиреневым торсом, вытягивает ее на буну, нанизывает на кукан и с треском заряжает свой самострел. Идет дальше по буне, мористее, в глубину, всматриваясь в воду, ведет концом ружья и снова стреляет в рыбу, вынимая ее из моря, влаги, тумана, черного грохота, воробья и Витиного сердца – серебряной огромной гирей. Витя лезет в карман за сигаретами, в голове постепенно оживает то ли Дюк Э., то ли Джон К. – сладкая верная тема на клавишах и басе, – закуривает и идет здороваться. Голова у него кучерявая, немытая, походка приблизительная. На волнах качается чайка, и что она есть, что ее нет – одно и то же.
2
Имена – продолжение вещей, говорит Аристотель, поэтому музыка вещи не продолжает, а словно бы образует. В горах время стоит над кладбищем в сини и лазурите весеннего неба, оно струится над гигантской чашей меж горных склонов, внутри которой амфитеатр могил, вырытых и засыпанных в разные годы.
Если читать все, что там написано, то станешь земляным человеком, а не стеклянным ангелом, как хотел. Может, и сомнительно, чтобы музыка образовала и кладбище, но музыкантов, которые здесь лежат и живут, образовала именно она.
Она образовала почти что все, но это мало кто замечает, потому что для того, чтобы не слышать вовсе, не надо умирать и чтобы забивались уши землей, и наоборот – если слух открылся для прекрасных мелодий – в джазе ли завернутых или поющих в старинных фугах – то и могила тебя не удержит, потому что она тебе не хозяйка.
К кладбищу от остановки ведет асфальтовая дорога, взятая в ряд кипарисов, в жару и в ослепление солнца. В самом начале на почетном месте – гигантский мавзолей с изображением усопшего во весь рост в мраморе рядом с мраморным же BMW. Здесь, видимо, упокоились те, кто разбогател на выстрелах и быстро умер, а деньги у родственников остались. А в небе, лазурите и синеве, блестит, как иголка на солнце, самолет, и, кажется, он всегда там стоит и блестит, но это разные самолеты – один летит в Адлер, а другой, например, в Сингапур.
Чтобы въехать в дом к Николаю-музыканту, надо обогнуть кладбище поверху, откуда справа внизу виден город, а слева новая дорога, пробитая в горах, шоссе в объезд города – над ним сизая пелена выхлопов, от которой все время хочется убежать на побережье, а видом это шоссе – пустыня смерти с железными жуками внизу.
От дороги, в песке и асфальтовых выбоинах, надо свернуть налево и тут поставить машину почти что вертикально – носом вверх, чтобы, тужась и подергиваясь, она въехала в узкий крутой переулочек, и снова нырнула вниз. А там Николай вылезает из машины и отворяет железные ворота, локти почти прижаты к бокам, так здесь узко, и лает собака. Он заезжает внутрь, в крошечный дворик и глушит мотор.
Зато дальше как будто настоящая вилла на озере Рица – гудит кондиционер, прохлада, три этажа и студия звукозаписи.
Да, студия. Да! О, зачем, зачем мы не наслаждаемся теперь же тайной жизнью студии, в которой разбросаны поблескивающие части саксофонов, мерцают и бегают туда-сюда огоньки усилителей, на полу валяются в перекрученных проводах штанги микрофонов, а на столике пепельница, коньяк и в вазочке лед. Зачем мы принимаем это как должное, вместо того чтобы взять и остаться тут, хотя бы ненадолго, взять и пережить всю эту музыку, запах табака, блуждающие мелодии и сквозняк из двери не как всегда, а только так, как и следует, – всегда заново.
Да, всю эту пыль, да. Воздух, музыку, лихорадочный и знобящий объем свободы, не привязанной ни к чему, как вид из окна вагона! Скажи мне, богиня жизни с узким деревянным ножом в пятке и латунной дудочкой в сердце, скажи! И я поверю.
Тут же огрызок яблока, а в динамике тихо толчется Кол-трейн. Николай достает из холодильника бутылку вина и ставит на стол.
Если особенно не вглядываться, то чудовищные наросты на его ногах и руках не видны, а если вглядываться, то это словно в нем пробиваются, перепутав, изнутри лосиные рога, но выходят к свободе сдавленно и не как у лося, а через локти, запястья и колени.
Николай – человек белый лось, но он устал переживать и сидеть на диетах. Роза его любит и такого, а когда он играет на фортепьяно, то нет больше человека-лося, а есть белый одинокий лось, что сам по себе плывет в небе вместе с облаками через край горизонта, и многие плачут под его музыку, и сейчас они готовят с Витей новую программу.
Витя должен вот-вот зайти, а Николай поднимается на террасу, широкую и раздольную, и подходит к ограждению. Далеко видны сизые горы с белыми шапками, лазурит вверху раскаляется, над дорогой-пустыней с бегущими, сверкая стеклами, жуками висит сизая пелена, а под террасой, в овраге крутятся четыре огромных вентилятора на крыше тепловой станции. Лопасти выкрашены в оранжевый цвет, и лучше на них долго не смотреть, потому что закружится голова.
Раньше на этом месте стоял домик, а в нем жил человек, который ел стекло. Николай сам видел несколько раз, когда был маленьким. Он тогда думал, что человек будет сам стеклянным, а может, тот и стал, Николай не знает, но потом дом исчез, вырыли котлован, залили бетоном и построили тепловую станцию.
Звенит звонок, это пришел Витя. Николай наливает ему холодного вина, потому что другу надо помочь, а иначе и говорить не о чем, и хотя Витя и сам знает, что помрет от выпивки, но что ж тут поделаешь. Помочь все равно ведь надо. Пока же он живет, и слава богу.
– Инструмент где? – говорит Витя невнятно. – Нинка опять не пускала, – добавляет он, проглатывая холодное ркацители.
Он лезет в карман, но передумывает и берет сигареты со столика.
– А помнишь Гориллу? Вот же пацан две октавы брал, ежли б не спился, наверное, в Америку бы уехал. Я сейчас его сеструху видал, шла к нему на могилу.
– Ничего он не спился.
– Нажрался и прыгнул с солярия головой на камень. Как это не спился?
– Ладно, – говорит Николай, – на, держи!
Он протягивает Вите жар-птицу, золотой саксофон, инструмент из штата Нью-Йорк, и у Вити открывается рот, глаза жмурятся и сияют, а по лбу бегают золотые отсветы.
– Вот же, черт! – говорит Витя – Вот же, черт, а!
Потом они играют в плотном воздухе, постепенно входя в раж и воодушевляя пространство и время, и еще друг друга, словно все опять начинается заново, а ласточки визжат и цокают за окном, а ноги отбивают ритм и от этого становятся сильнее и моложе, а изумрудный фантомас музыки шастает по всему дому.
Вечером, когда воздух придвигается и темнеет, они спускаются к черной «Волге», кладут сумки на заднее сиденье, и Николай долго прогревает мотор. Потом, пятясь, начинает выбираться из ворот, целясь багажником в вечереющее небо, в салоне жарища. Перевалив гребень и грохнув чем-то на заднем сиденье, они едут по кромке кладбища, похожего на амфитеатр с мертвыми и живыми, город внизу зажигает первые огни, видно, как пирс выбежал в темное море тонкой сизой полоской с красной точкой маяка на конце, а впереди тащится, мотая прицепом, КрАЗ, поднимая пыль – ни обойти его, ни объехать. Витя уже не всегда понимает, кто мертвый, а кто живой, но Николай понимает и объясняет Вите, но он не особо любит говорить на эту тему, потому что он еще не придурел и не спился.
– Слышь, – говорит Витя, – а я Серегу на пляже повстречал. Сначала не узнал. Идет и лупит кефаль прямо с буны. Штук семь набил.
Он знал, что кефаль птица херувимов и сказал это тогда Сереге, а Николаю не стал.
3
Птицы херувимов бывают разные, и среди них есть иногда и люди. Человек птица херувим излучает черный свет, который кажется незаметным или едва заметным, как будто от него чем-то пахнет или он какой-то странно притягательный. В общем, видно, что он всегда готов умереть и что для него это не имеет большого значения.
Скорее всего, он похож на плоскую и черную камбалу, человек херувим, и если на него смотреть с одной точки, то он будет огромен во весь почти пляж, как сейчас распластался на его гальке Савва Цырюльников, потому что он любит ту женщину, которая бьется под ним, словно самка дельфина, полная детенышей, белого живота и сияния и еще стона на Ы, и всего птичьего, дельфиньего. Но она все время куда-то ускользает от Саввы, и не наводится на ту ослепительную точку, от которой мир исчезает, как исчезает он в фокусе линзы, потому что в этот момент вспыхивает, и так же точно хочет вспыхнуть Савва, чтобы открылась ему вся вселенная от края и до края. Со всеми, он хочет, чтобы открылась она ему смыслами, лошадьми на улицах, рыбами в океанских глубинах, где затонули атомные субмарины, и звездами из тех, которые увидишь разве что в темную августовскую ночь, когда все лишние, словно фосфорные яблоки, падают они с неба, размазываясь по нему и светясь, а остальные остаются в глубине, чтобы ярче выговорить эту глубину, и ту глубину, которая за этой, и еще следующую, совсем уже ни на что не похожую, ну, разве что цветом отдаленно напоминающую оранжевый апельсин.
И в такой миг Савва становится сам всеми звездами и сияниями, и наконец-то вспоминает, кто он есть, потому что в остальные дни и периоды времени он этого не помнит из-за сильной травмы, полученной на ринге, от которой он шесть лет назад чуть было не помер, но в последний момент удержался и стал жить, но уже без памяти о себе.
И когда он видел красивую женщину, то всегда думал, что, может быть, именно она его память, и не отступался до тех пор, пока она не соглашалась пойти с ним на пляж или в гости к другу, и тогда он становился человеком херувимом и пластался, как камбала, накрывая ее со всех точек сразу своим телом ладонью, словно пляшущую по зеркальному столику монетку, чтоб не выпрыгнула.
Тогда он становился с ней разными вещами – например, с этой Медеей, с которой он сейчас гнался за ускользающей точкой познания, сначала они были: он – парнем в выцветших джинсах, а – она девушкой в шортах с рваными краями и выбившимися нитками, а потом они стали как две бабочки, которые в Китае обозначают супружескую пару в ранний период жизни, легкие, пестрые, без веса и забот. А потом она стала длинными ногами без шортов на песке и гальке, а он словно астронавт в невесомости, поднялся над ними и стал медленно кувыркаться, завороженный их белой длиной и могущественной силой, вокруг которой рожали львицы и кружились звезды, а у него делалось тепло в животе, а глаза начинали застилаться туманом, который скрывал весь пляж и все деревья у железной дороги для того, чтобы видны были только эти смуглые ноги с белой чайкой на бедрах, там, где они не загорали.
А потом, когда он снова стал камбалой, она превратилась в большие и маленькие прозрачные яблоки, больше похожие на медуз, которых зеленая волна несет куда-то в море, а они, тихо шевелясь, что-то хотят сказать, но не могут. И испугавшись, что она вся разойдется по пляжу, Савва сказал ей: Медея. И она ответила ему: Да.
– Ты та самая, замри, – сказал ей Савва. – Мы зачнем с тобой не детей или там лохматых зверят, а новый мир, в котором ты будешь не только длинноногой, но и вещей Кассандрой бабочкой, и на работу тебе ходить не придется, и подкладываться под начальство тоже будет больше не надо. – Ы, – отвечает Медея Савве и смеется, проталкивая серебряный смех сквозь Ы и жемчужные зубы.
– Сейчас, – говорит Савва, – ты только не уплывай в медузах, а соберись обратно, и мы с тобой начнем быть людьми и богами.
И теперь он гонится за своей точкой, расположенной в животе и затылке у женщин одновременно, чтобы настигнуть ее и сгореть в ней всем беспамятством и косностью жизни. Он ссаживает себе коленки, елозит по гальке локтями, загнутыми пальцами ног и губами, в зубах у него обкатанная волнами добела сухая щепка, которую выбросило на берег море, а он ртом подобрал, не заметил, и сейчас грызет, как пес или там лев, сладкую кость врага, и сухая слюна течет на белую грудь. Замри, говорит Савва, а она не слышит, словно яблоко кусает в задумчивости, и вот ей стало уже и пять лет, сидит она в платьице на ветке алычи, ничего не видит, коленка сбита, плечики худые, а потом и сорок лет – сильная, с большой, никогда не расшнуровывающейся грудью, в длинном сером пиджаке, а вот и богиня Геката она, про которую ему говорил Профессор, со страшным взором и собачей вонючей пастью, с текущим из нее розовым маслом, а вот и стали они тем, кем он хотел – стеклянным водным велосипедом.
Не только режет море этот велосипед, когда на нем сидят, вращая педали и лопасти, с которых летит вода, мужчина с девушкой, но и способен превратить их в себя. И это тот миг любви, о котором повествует тантра, и наши девушки и мужчины никогда до него не добираются из-за слишком большой своей материальной плотности, лени и пьянки. А Савва добирается, и теперь он и она – уже не Савва и Медея, а одно – безымянный, похожий на бронтозавра стеклянный велосипед с плоскими лопастями, заваленный немного набок под бледнеющими звездами далекой вселенной.
И уже умолкло все, и даже волн не слышно, а только тихо крутятся стеклянные лопасти, и с них скатываются, блестя, как ртуть, капли, и проступает сквозь стекло ржавчина двух гулких понтонов, похожих на огромные гробы с плещущей внутри ржавой водой, и непонятно, зачем кто-то их втащил с моря на пляж и завалил набок.
Но, с другой стороны, если сейчас вглядываться в пляж, то не увидишь на нем ни народа, ни топчанов, ни цементных стенок с надписями, что мы были здесь из Воронежа, потому что все сейчас странно стало – непривычно стало все в этот один на всех остановившийся миг, и только слышно, как где-то в овраге скребется и рождается новая улитка, закручиваясь в раковинку, и вдалеке в небе плывет звезда.
А потом звонит телефон, и Савва лезет за ним, шаря слепыми руками по всем карманам сброшенных на гальку джинсов, находит и говорит, приставив его к щеке кверху ногами, еду профессор. Поймаю какую-нибудь тачку, через час буду обязательно. А потом сразу встает на ноги, помогает одеться Медее, берет ее за локоть, и они идут на шоссе, словно обменявшись ногами – он на высоких длинных, а она, прихрамывая, словно бы на кривоватых, боксерских.
4
Потом, когда он уже поговорил с Николаем-музыкантом и сказал, что Клуб соберется на заседание сегодня вечером и чтоб они с Виктором приезжали, Эрик вернулся к столу с ноутбуком, в книжках и тетрадках, поцарапанному и с незакрывающейся левой дверцей, сел за него и открыл толстый том. Том был из библиотеки, в которой Эрик работал – глянцевый, желтый, в супере, с изображением свирепой японской куклы на обложке.
Эрик пытался сосредоточиться, но сделать этого не мог, потому что это как деревяшка, которая никак не может стать водой, и если твердый лед, например, может стать водой и расплавиться в воду – в сильную и гибкую мысль, способную омыть изнутри теплом, то деревяшка только плавает в мозгу, тычась в него изнутри и выступая наружу в ландшафт каким-нибудь нелепым обгрызенным краем, и все.
После того, как пропала Офелия, он словно перестал ориентироваться и внутри комнаты, которая была куб, и внутри большого куба, которым был этот горный поселок с чайными плантациями и телескопической вышкой, продолжающийся в мир своим расширением. Но если раньше понятно было, как куб комнаты, в которую был встроен мягкий шар мыслей Эрика, его светящийся разум, – как этот куб со светящимся шаром встраивался в большой куб мира с горами, плантациями и далеким морем, мерцающим между двух склонов гор, то теперь все разладилось и все три объема Эрика плавали отдельно, не стыкуясь и не выстраиваясь по Полярной звезде, и не могли найти своего места. От этого у него временами кружилась голова, и его мутило, словно он прокатился в болтанку от Сочи до Сухуми на прогулочном катере послушать орган, сработанный немцами в 60-е годы, а вместо этого пошел в туалет, и его там долго тошнило.
Он временами мог даже забыть про простые вещи, например, зачем ему книга про японских кукол, вот и сейчас – взял и забыл, только средний куб (комнаты) зажегся гранью, это заходящее солнце метнуло золотой луч в зеркало на комоде, и то отозвалось теплым облачным сиянием, как растворенное в воде облако марганца, и вот в этом розовом облаке снова вспомнил – посылка.
Она лежала на диване наполовину распотрошенная, а рядом переливался драгоценной тканью в вензелях и ало-золотом шитье костюмчик карлика. Но на самом деле не был этот костюмчик костюмчиком карлика, потому что он был одеждой куклы, которая приехала сюда, в комнату Эрика, из Японии, прислала его Наталия – давняя подруга, с которой он при трагических обстоятельствах два года назад расстался навсегда в Москве и даже попробовал застрелиться, но дальше уточнения цен на оружие дело не двинулось, и он до сих пор удивлялся и не мог понять – почему. То есть на диване лежала японская кукла, которую прислала именно Наталия и именно ему, и тоже непонятно, зачем.
Да-да, Офелии не было видно уже неделю, когда ее стали разыскивать, он думал, что она сорвалась, уехала, но теперь он знал, что дело плохо, что с девочкой могло случиться что-то, может быть, даже непоправимое, но что все равно еще можно каким-то образом поправить.
Иногда он думал, что она – в горах. То есть он даже знал наверняка, что она не в другом городе, а в горах – сначала он думал, что она там одна – прелестная, загадочная, лопочущая, как обморочная птица соловей, то на армянском языке, то на греческом, а то на английском, но теперь душа Эрика прозревала в горной дали Офелию не одинокую, а словно бы какие-то фигуры с ней были рядом – большие, недобрые и как бы ржавые.
У Офелии душа была – папуаски. Она могла читать наизусть по-английски Шекспира и не знать имени автора, ухо у нее было проколото в пяти местах, а ниже пупка была татуировка, изображающая в два цвета какого-то затаенного мужика из религии гаитянского черного населения, вуду.
Кто-то говорил ему, что ее прабабка была турецкой княжной, а сама Офелия могла придти к нему ночью с зажженной керосиновой лампой и наушником в ухе, поставить керосинку на его стол (и это пока он спал) и всю ночь сидеть и глядеть, переживая и бормоча, на пляшущее желтым и красным пламя за тусклой слюдой. Керосинку она забыла, и на следующую ночь он зажег ее и сам сидел до утра, разглядывая пляшущий и потрескивающий огонек в фиолетово шарахающихся сумерках, переживая и бормоча, не заметив, как пролетела ночь, и с тех пор они стали с Офелией возлюбленными, но она этого еще не знала.
Японская уродина лежала у него на диване, посверкивая парчой, и вот что было особенно неприятно – ноги ее и руки вовсе не были продолжением ее основного тела, туловища, а существовали отдельно, как если в краба выстрелить трехпалым гарпуном из подводного ружья, и от этого он иногда разваливается на части. Да и туловища не было – а была под парчой пустота. А отдельное прелестное фарфоровое личико тоже лежало на диване само по себе, и только оно одно было ясной частью красоты и природы, как например луна над горами.
Когда Эрик открыл посылку и расправил куклу на диване, то замер от ее внутренней пустоты и разъятости настолько, что пустота вошла в его собственный живот и там стала расправляться, пытаясь отодвинуть ноги Эрика дальше от его туловища, чем они были на самом деле. После этого он пошел в библиотеку со свечой, потому что свет в поселке внезапно вырубили, нашел там желтую книжку про японский театр Нингё Дзёрури и принес домой. Но читать он ее не стал, а зачем-то зажег керосинку на письменном столе и всю ночь просидел, глядя в огонь, переживая и бормоча, а утром так и заснул головой на столе.
В книжке он увидел, почему кукла разъята. Потому что на кукольной сцене ее вели сразу три человека, согласованных в своих движения чудесной, сверхъестественной для Эрика силой – один вел левую руку, другой ноги, а главный кукловод – отвечал за мимику, и жесты правой руки. А чтоб не видно было, что кукла внутри вся поврозь, – сверху переливалось парчовое платье, и вот еще что понял Эрик, вот что еще. – Все это громоздкое кукольно-человеческое сооружение, весь этот составленный из живых человеческих частей и мертвых кукольных органов монстр, плавающий в совместном усилии трех человек в черных трико с глухо задраенными лицами, – живо-мертвый урод, раскачивающийся туда сюда над сценой и купающийся в звуках музыки и марсианской речи рассказчика, вдувающего со стоном в фарфоровые губки куклы живое слово, – именно в эти минуты своего существования утрачивал свою разъятость и обретал каменную слитность, которая собирала трех кукольников и пять разных частей куклы – в одно лицо.
Эрик хотел выразиться как-то по-другому, что не в лицо, а в единство или даже в собравшееся существо, что ли, но вышло – в одно лицо. А вот уж на что это лицо похоже, на картошку, что ли, или на лопочущую бессмысленные речи пропавшую Офелию, он решить не мог. Ему достаточно было известия, что в поселок приехал Офелиин дядя, профессор, встревоженный пропажей племянницы, и что сегодня, еще перед заседанием Клуба, к нему нужно будет зайти и познакомиться.






