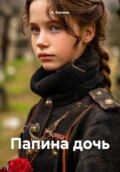А. Калина
Ефросинья
Дед Егор встал с скамейки, приглашая на неё сесть Глашу, а сам, пошуршав в карманах, стал сворачивать козью ножку и запыхтел. Глафира послушно села рядом с Клавдией и посмотрев на её мозолистые руки, глубоко вздохнула.
– Здоровье наше как у коровы, – начала насмешливо баба Клаша, – пока вокруг зелено, еще живем, а нет – так брюхо поджимаем. Сама-то ты не больно-то и румяна. Не больна ли?
– Нет, не больна. Баба Клаша…– Глаша вдруг замолчала и отвернулась.
– Ну чего, милая? – с тревогой спросила Клавдия, взяв ладонь молодой женщины в свои руки, как будто пытаясь их отогреть – Спросить меня чего хочешь? Да ты спрашивай.
От этих слов и от рук старушки стало Глаше как то спокойнее, и она решилась:
– Баб Клаш, на постой хочу к вам напроситься. Не одна я, с Ванечкой. Мне паек дают на работе, я вам приносить буду.
Клавдия внимательно посмотрела на Глашу, но та продолжила:
– Мать обратно к мужу гонит, а я обратно не вернусь. Не могу так жить, не заслужила.
Дед Егор закряхтел и смачно плюнул себе под ноги табаком:
– Вот как повернулось,– он подошел к козе, погладил её по загривку – Решай, мать. Вон, какие дела.
Баба Клаша смотрела на руки Глаши и думала. Ни раз она уже спасала живые души в своей худой избенке, сколько народу тут перебывало и посчитать сложно. То сироты у неё жили, то беженка беременная, а то и беглый прятался в её подполе. Глашу, ей было жаль, знала, что никто ей больше не поможет. Сама когда то была изгоем для своей семьи. Убежала Клаша в юности от богатого жениха к бедному Егорше, не простили до сих пор её за это.
Клавдия еще подумала, потом стукнула ладонью по своим коленям и сказала:
– Ай, Глаша, приходите к нам. Все веселее вместе. Переживем твою беду.
Глафира от счастья вскочила с места, потом кинулась на колени и стала целовать руки Клашы. Та засмущалась, стало убирать их:
– Ну чего ты, чего ты. Нашла за что благодарить.
Глаша вскочила с места:
– Я за Ванечкой схожу.
– Иди, родная, иди.
Глаша не шла домой, а летела. Так ей хотелось быстрее начать новую жизнь. А дома, сидя за столом, перебирали крупу Тамара с матерью. Когда Глаша вбежала взволнованная в избу, они одновременно оторвались от дела, посмотрели на неё. Видя, что Глафира начала собирать сына и вещи, Степанида поинтересовалась у неё:
– К мужу, наконец-то, собралась?
Глафира не останавливаясь от сборов, ответила:
– Никогда не вернусь, только если за детьми. У бабы Клашы жить буду. Больше вас не объедим.
Степанида схватилась за сердце:
– Ой, что ты делаешь! Да как у тебя язык не отсох!– она встала из-за стола – А ну не смей уходить! Я тебя за волосы к мужу отведу! Хватит! Опозорила!– Степанида быстро подошла к дочери, стала отнимать из её рук узелок с вещами – А ну отдай! Отдай! Отдай, говорю!
Глафира отпустила узелок и мать вместе с ним повалилась на пол. Лежа на полу, она заохала и стала проклинать дочь.
– Держи моё добро, мама. Ты себя никогда не жалела и нас не жалеешь! – кричала Глаша с выпученными от гнева глазами,– Я за себя решать больше не дам! Сама хлебнула горя и нас хлебать заставляешь!? Я сама себе хозяйка! Нет ни у тебя, ни у Ефима власти надо мной!
Ошеломленная Тамара подбежала к матери, попыталась её поднять, но та отбивалась от её рук и продолжала кричать проклятия. Из глаз Томы брызнули от обиды и страха слезы:
– Мама, мамочка, вставай…,– уговаривала её дочь.
– Нет у тебя дома!– кричала Степанида, не обращая на неё никакого внимания – Нет у тебя матери! Нет у тебя детей! Уходи и не появляйся! Курица неблагодарная! Срамница бесовская! Не будет тебе счастья! Уйди с глаз моих, корова! Грешница! Срамница! Неблагодарная дура! На мать руку подняла! Проклинаю-ю-ю!
Глаша посмотрела на мать сверху вниз, потом схватила плачущего Ваню на руки и вышла из дома. Степанида, отмахиваясь от рук Томы, перевернулась на четвереньки, подползла к образам и громко стала молиться. В таком положение её застал сын, который вбежал в дом, не понимая, что тут твориться. Илья подбежал к матери, пытался её уговорить встать с колен, гладил её по голове, чтобы успокоить, но та, рыдая, не останавливаясь, молилась, размашисто крестясь и одновременно отбиваясь от детей. Илья сдался, сел рядом на табурет, сделанный, когда то его отцом и произнес:
– Сумасшедший дом, какой то. Уйти от вас хочется.
Мать резко остановилась, молча, посмотрела на сына обезумившими глазами и закричала:
– Уходите! Все уходите! Бросайте меня! Ну, уходите же!
Тамара не выдержала, зарыдала еще громче, а Илья, встав с табурета, пошел к выходу. У двери он вдруг встал и, не повернув головы, сообщил:
– За дровами только и обратно.
Как только дверь за ним закрылась, Степанида, встала с колен, пересела на табурет, где только что сидел её сын. Она посмотрела на свою рыдающую дочь и произнесла:
– Не реви. Развела море. Не тебя побросали дети. Ничего, и вас такое ждет, попомните тогда мои слова.
Глава 3.
В избенке бабы Клашы хоть и было темно, за то ароматно пахло свежеиспеченными лепешками и сушенными полевыми травами, от этого небольшое пространство казалось каким-то уютным и родным. Глафира с сыном устроили на полатях, где их соседями стали многочисленные шумные тараканы. Они немного её смутили, и это, видимо, заметила баба Клаша.
– Всю зиму избу студили, – оправдывалась Клавдия – а они все равно не издохли. Ты их не бойся, они у нас не кусачие. Только шумные больно, так это дело привычки.
У Клавдии и Егора своих детей не было, жили они в избе одни. Рожала Клаша в своё время пять раз, да все дети и до трех лет не доживали, умирали от болезни, все чаще от поноса. Хозяйство у Черновых было бедное: одна коза, пять куриц да небольшой огородик позади дома. Зимой вся животина жила в избе, а с весны и худой сарай становился им домом. Спасались скудными заработками деда Егора: то на пристани, то на лесозаготовках, то просто батраком работал у какого-нибудь богатого крестьянина. Не смотря на бедность и вечную нужду, семья Черновых никогда никому не отказывала в ночлеге и помогала всем, кто обращался к ним. В их доме не было ни драк ни ругани, они не делили между собой ничего, да и что, было делить? От этого многие их соседи, а особенно Клавдию, не любили. Все у Черновых было не так, как в других семьях и бед таких не было, как у других. К тому же Клаша не распускала слухи и других не осуждала, а это было самым любимым делом местных женщин, обделенных счастьем и не обделенных по жизни горем и страданиями.
В их избе Глаша чувствовала себя спокойно. Она, держа сына на коленях, рассматривала прибитые на старые ссохшихся бревна,забавные картинки из старых журналов да цветастые занавески на окнах. Все в этой избе было чудно, и был тут, как собственный отдельный от всего мир. В это время Клавдия принесла на стол чугунную сковороду с пресными лепешками, лежащие на ней горой.
– Не ела, поди,– ставя на чугунную подставку сковороду, поинтересовалась Клаша – Вот, подкрепись. Молоко у нас вот только козье и то сейчас и кружки не надоить.
Глаша смутилась:
–Не стоит, баб Клаш, мы и с кипятком поедим.
– У меня травы вкусные есть, еще с прошлого года. Обожди, заварю сейчас, – и Клаша быстрым шагом скрылась за занавеской у печки.
Оставшись одна с Ваней, Глашу вдруг одолела грусть и страх. Не так она хотела. Перед глазами все еще стоял крик матери, её проклятия. Ей было жаль её, что от этого даже сердце сильно защемило и хотелось вскочить тут же с места и бежать обратно, просить прощения за свой постыдный поступок. Но пути обратного уже не было. Нельзя было сдаваться. Глаша заботливо поцеловала в темечко Ваню, который возился у неё в руках и пытался выбраться на пол. Волосы у Вани были такие же, как и у Ефима темно-русые, и глаза его карие и даже маленькая ямочка на подбородке проступила, как у него. Как он может тогда обвинять её в измене? Неужели так сильно на него повлияла мать? Или он просто её разлюбил и захотел от неё избавиться? Как же от этого больно сжимало грудь и не давало дышать свободно! Как же хотелось кричать от боли в душе!
Из мыслей её выдернул Ваня, который все-таки сполз на пол и весело зашагал по избе, как у себя дома. Дед Егор, который только вошел, видя маленького "хозяина", весело захлопал в ладоши, что привело Ваню в радостный смех. Он стал так же прихлопывать в ладоши, смеяться, повторяя за стариком все движения, этим самым удивляя Глашу. Не был он таким веселым раньше, как сейчас, и поэтому Глафира неожиданно испытала облегчение, ведь это значило, что она все сделала правильно.
От детского смеха в темной избе даже стало светлее. А дед Егор вдобавок взял Ваню за ручки и стал его шутливо подбрасывать вверх. От этого ребенок еще больше развеселился, громче хохоча и повизгивая от удовольствия. Из-за занавески даже выглянула Клаша, посмотреть, что происходит. Она с улыбкой развела руками и произнесла:
– Вот так дитятко! Егорша, да ты и сам не далеко умом от дитё ушел. Ой – ёй, ой, проказники.
Ночью Ваня спал неспокойно на новом месте, да и Глаша глаз не сомкнула. Много мыслей роилось в её голове, много потрясений произошло в жизни, да ко всему прочему шумели неуёмные тараканы, которые так и норовили упасть с потолка на неё и ребенка. Беспокойно было у неё в душе, сердце все исходилось. В памяти всплывал тот самый день, когда познакомилась она с Ефимом. Это произошло на святки в 1914 году, ей тогда было пятнадцать, а ему семнадцать. Город еще гудел в патриотическом запале, гулял и кутил, молодые парни бегали от двора ко двору небольшой толпой в масках и пугали друг друга до икоты, пока девчонки гадали в избах на жениха. В тот день в дом Масловых ворвалась ватага ряженных парней и, танцуя на пороге, пели песни, забавляя всех домочадцев. Один парень вдруг вышел вперед и сняв маску, посмотрел на Глашу своими карими глазами, смутив этим девушку и вогнал её в краску. Ростом был он выше других, лицом узким, нос прямой и ямочкой на подбородке. Красив был и тогда и сейчас. Ефим ушел со всеми к другому дому колядовать, а Глаша так и стояла, глядя в окно, высматривая его, пока вся ватага не исчезла из поля зрения. Пропала тогда Глаша, не могла думать больше не о ком, да и раньше не о ком не думала. Было это с ней впервые. Гадала она на него вместе с Фросей, но никак не могла разобрать в очертаниях воска в воде хоть какую-то фигуру. Расстроилась тогда, плакала все время до наступления нового года. Тогда в январе пришел Ефим с другом Прошей, отпросил у Захара Харитоновича погулять с ним Глафиру. Радости не было тогда пределу, шли они по улице за ручку, молчали и смущались оба. Не знала тогда Глаша о чем надо говорить, и Ефим боялся заговорить первым. А через три дня Ефим пришел с матерью и отцом, который тогда уже болел, да крестную взял с собой свататься. Долго они с Захаром Харитоновичем договаривались, много о невесте допрашивала Аглая Степановна. Не была она рада выбором сына, да против своего мужа, Ерофея Игнатьевича, идти боялась. Был он хоть и болен в тот момент, но кулаком пришибить мог без лишних разговоров. Молчала и Степанида, только улыбаясь в ответ, но в душе она была против ранней свадьбы, да и жених с невестой мало друг друга знали, а на скорую руку разве женятся? Ну, раз молодые решили и никто из них был не против, да и семьи равны в хозяйстве, то ударили по рукам и пропили в тот же день невесту. Свадьбу сыграли весной этого же года 1915, народу было много, да больше женщин, без мужей. Степанида тогда охала, что примета плохая и ругала мужа, что дал согласие на свадьбу, пока война не закончилась. Вокруг все как натянутая струна, приходят похоронки, дети становятся сиротами, жены вдовами, а у Ефима с Глашей была любовь. Он её и на руках носил первый месяц и с поля цветы приносил, помогал ей всякий раз по дому. Уже летом Глаша потяжелела, не ходила, а летала от счастья. Все было хорошо, да болезнь Ерофея Игнатьевича к осени совсем заела, сил не оставила ему, слег он и больше не вставал. Ухаживала за ним все больше Глафира, а свекровь только ворчала и уходила в соседнюю комнату, чтобы не слышать его стоны. Лежал он так до января 1916 года и умер, прося воды, которой так и не мог напиться в свои последние дни. После этого Аглая Степановна выпрямила свои плечи и взяла на себя командование домом и хозяйством, перестала даже в хлев заглядывать. Всю грязную и другую работу делала Глаша, чуть так, не родив в том самом хлеву в феврале месяце своего первенца Петеньку. Сколько выпила у неё крови свекровушка, сколько горя принесла, а тут и Ефим ей стал подражать. Любил словом задеть или при матери место её указать, а бывало и пощечину даст. Но тогда даже после ссоры всегда он просил у неё прощения и Глаша снова, как будто, влюблялась, поэтому и прощала ему. Но не сейчас, не в этот раз. Все стало беспросветно и в душе как будто вьюга воет. Глаша все думала-думала над своей жизнью, пока, ближе к рассвету глаза уже не стали закрываться, да не тут то было: зашумела Клаша у печки да и вставать на работу пора.
Встав с полатей, она тихонечко прошла к ржавому рукомойнику, налила туда воды из ведра и умыла лицо. Стало чуть легче, но голова все равно была тяжелая и глаза по-прежнему закрывались. В это время Клаша достала вчерашнюю сковороду с лепешками и тихо обратилась к Глаше:
– Иди за стол, поешь. Ваня проснется, я его сама потом накормлю.
Глаша покорно прошла к столу, села на скрипучий табурет и не спеша, стала жевать пресную лепёшку. Клаша в это время налила ей вчерашнего травяного чая из чугунка, другой посуды для заварки в её доме не было. Она налила и себе в кружку, села рядом. В такой тишине они, молча, пили чай, закусывая лепёшками, и только вечно возящие тараканы нарушали эту идиллию в избе.
В этот день Фрося так же собиралась на работу в рабочую столовую. Перед тем, как выйти из дома, она посмотрела на кровать, где с вчерашнего дня, не вставая, лежала мать. Фрося вздохнула, понимая, что остаться с ней сегодня не может, кто-то должен приносить харчи, и с тяжелым сердцем вышла на улицу, где дул прохладный весенний ветер. Она шла, закутавшись всё в ту же старую шаль, думая как помочь матери и Глаше, пока прямо из-за угла дома соседней улицы к ней на встречу не вышел Ефим. Он был опухший, небрит и весь помятый, как будто ночь провел на каком-то сеновале. Фрося, видя его, помрачнела, хотела даже свернуть на другую улицу, но Ефим, видимо, предвидя это, резко обратился к ней:
– Фрося, стой же! – он потянул к ней здоровую дрожащую руку, норовясь схватить её за рукав.
Ефросинья, ловко увернувшись от его руки, гневно закричала:
– Не трожь! Я тебе не жена, чтоб лапать!
Ефим, засмущавшись, встал на месте, виновато упустил глаза:
– За Глашей я. Не могу без неё…,– он всхлипнул, а Фрося резко почувствовала кисловатый запах самогонки,– Не могу…Все сердце выжгло…вот тут жгет!– он стукнул себя по груди здоровой рукой.
– Сам дел наворотил, сам и исправляй. Моя сестра перед тобой ни в чем не виновата! Сам с себя спрашивай!– Фрося сделала шаг назад от тошнотворного запаха перегара.
Ефим, шатаясь, сплюнул себе под ноги и, смотря куда-то мимо неё стеклянными глазами, продолжил жаловаться:
– Бросила она нас, детей своих бросила. Меня бросила, дом бросила! А, ну, говори, Фроська, живет она с кем-то? Загуляла? Ух, я её и хахаля измордую!– он сделал шаг в её сторону, показывая кулак, но еле удержавшись на ногах, попытался на месте удержать равновесие, – Измордую!
– Бог с тобой! И не стыдно тебе! Язык бы твой отсох! Уйди лучше ты с дороги, Ефим, а то кричать буду, вся улица сбежится, – пригрозила ему Фрося.
Ефим махнул на неё своей единственной рукой и, пошатываясь, пошел прочь. Фрося еще какое то время смотрела ему вслед, думая, не уговорить ли Глашу помириться с мужем, но как только тот скрылся за углом дома, она отвернулась и пошла дальше.
В это время Тамара, прибежавшая с коровника, стала щебетать как птичка у постели матери, пытаясь ту хоть как то развеселить, но Степанида только отвернулась лицом к стенке и произнесла:
– Уйди, Тома, не зуди ты над ухом. Сил моих нет.
– Мамочка, спина все болит? – ласково спросила Тамара.
– Душа болит, сердце ноет… Ох, как же я устала.
– А ты поешь, мамочка. Вчерашний кулеш еще остался, а Илью я уже накормила, он уже не будет.
– Не надо мне нечего. Оставьте меня в покое…
Тамара еще постояла у кровати матери, но не найдя отклик на свою заботу, вышла во двор, выгрести из птичника помёт.
Оставшись в избе одна, Степанида закрыла глаза. Ей было тошно от того, что она осталась одна со всеми проблемами, что дети её не слушались и не уважали, как это делала она в своё время, что муж оставил её одну в самый трудный момент. Болезнь, несправедливость, вечная нужда – всё это как будто прибило её к земле и не давало дышать полной грудью. " Вот пойти бы и закончить всё это разом": приходили ей в голову мрачные мысли. От голода их семью сейчас спасала только Ефросинья, которая приносила тайком из столовой какие-то объедки, остатки супа или даже если повезет, то и хлеба. Корова молока давала ничтожно мало, а куры почти не неслись, поросенка давно уже закололи. Степанида вдруг вспомнила своё детство. Оно было разным: и сытным и голодным. Перед глазами всплыл образ её, отчего дома, сестер, брата и родителей. Родилась Степанида в деревне в двадцати верстах от этого города в доме простого крестьянина. В семье их было: пять сестер и всего один брат. В хозяйстве тогда было у них три коровы, птицы было с четыре десятка, овец держали, поросят десяток, да и лошадь имели. Не были они первое время безлошадными как многие в Оврагах. Земли да, не хватало, поэтому брали её в аренду и работали на ней от зари до зари. Отец Степаниды хоть и суров был, но на мать и детей никогда руку не подымал, все больше словом учил и делом. Мать Степаниды тоже была женщиной степенной, работящей, любила петь тихонько по вечерам либо за делом. Вот только однажды матери не стало. Это произошло в первый год голода в губернии. В Оврагах тогда урожай хорошо подоспел и многие работали без устали, чтобы продать подороже тем, кому с урожаем не повезло. В один день добиралась мать с поля домой, да попала под сильный ливень. А была уже осень и продрогла она до самых костей. Лежала она потом вся в огне, не узнавая никого, с неделю, да и померла. Отец горевал не долго, из соседней деревни вскоре привез новую жену – мачеху Степаниды. Та быстро ухватилась за хозяйство, да так, что стало оно плавно перетекать в дом её родителей. Очнулся отец Степаниды поздно, когда ничего уже не осталось, а долги выросли, и дома хоть шаром покати. С женой разругался, выгнал, а дочерей стал потихоньку выдавать замуж за таких же бедных крестьян, чтобы освободиться от них и женить вскоре сына. Вдруг повезет, родятся сыновья у невестки? Когда исполнилось Степаниде пятнадцать, поехал отец с её братом в город на базар продать капусту, брюкву и захудалую козу. Рядом торговал с ними Харитон Маслов. Продавал он мед с пасеки своего брата, своим молоком, сметаной да простоквашей. Разговорились они тогда, Харитону уж больно понравилась капуста, хрустящая была и на вид гожа, а соседи в ответ все его товар нахваливали. Уже в конце торговли купил он с десяток у них кочанов, не удержался и все спрашивал, как вырастить смогли такую. Отец Степаниды не растерялся, стал расхваливать дочь, рассказывая, какая она у него хозяйка, как до рассвета не ложиться, пока всю работу не сделает, а уж как готовит, что только ложки стучат. Харитон внимательно его послушал, вспомнил о своем сыне Захаре, которому тогда пошел двадцатый год. Был он у него гулящий, любил выпить и с девками в чужих избах обжиматься. Надо было утихомирить сына, но подобрать невесту ему никак не мог.
– А ты, Харитон Степанович, к нам, в Овраги приезжай, – уговаривал отец Степаниды ласковым голосом,– третий дом с краю, Маловы. Вот увидишь мою дочь, не пожалеешь. Такой, как она, нигде больше нет.
Послушал его тогда Харитон, приехал в только что отстроенную новую избу, а там Захар пьяный отплясывает русскую народную, горланит матерные частушки и мать до слез довел. " Ну и на кого я новый дом с хозяйством оставлю?": подумал с сожалением Харитон и принял тогда решение, что поедет уже завтра в эти Овраги, посмотрит на расхваленную дочь Малова.
Еле доехали на следующий день до этой деревни, застряли два раза колесом в грязи. С собой взял он только родного младшего брата и крестную мать Захара. Деревня была из двух десятков домов, унылая и вгоняющая в скуку, что захотелось развернуться и уехать обратно. Но, усмотрев дом с добротной крышей, который был третий от края, Харитон решил дойти до конца.
Встретили его с неприкрытым восторгом, все тот же отец Степаниды и её брат. Они быстро проводили гостей за стол, достали самогон, а младшие две сестры Степаниды быстро поставили на стол не хитрую закуску, какая в доме была.
– Кто ж из них Степанида?– не терпеливо спросила крестная Захара.
Отец что-то шепнул одной из девиц и та, как ошпаренная, выбежала из дому. Он, смущаясь, ответил:
– Не ожидали вас сегодня, вот и отправили её по грибы.
– Да как же её теперь докричишься?– не унималась крестная.
– А она в лес далеко не ходит, все на одну и ту же полянку. Заблудиться боится.
Прождали, правда, не долго, а все это время отец Степаниды развлекал гостей разговорами о местных и об урожае, наливая в красивые рюмочки самогонки, доставшиеся ему в подарок от дальней родни еще в далекой неженатой молодости. Доставал он эти рюмочки только для важных гостей и по большим праздникам.
Он так увлекся рассказом о местной юродивой Клашке, что не сразу все заметили, что в избу вошла Степанида. Она стояла у порога, оглядывая гостей испуганным взглядом, держа дрожащей рукой полную корзинку грибов.
– А вот и моя дочь-Степанида!
Отец радостно подошел к ней, забрал из рук корзинку с грибами и передал её младшей дочери, а Степаниду повел к гостям на показ. Та, как будто опираясь, шла нехотя, опустив глаза, а Харитон все время на неё смотрел, пытался понять какая она характером.
– Вот она, моя хозяйка. Любуйтесь. Не найти вам более нигде лучше, чем, мою Стешеньку. Весь дом на ней.
Хвалил её отец и как будто даже пританцовывал, а Степанида стояла, не шевелясь, боясь, даже посмотреть на гостей. Тут с ней заговорила крестная Захара. Все спрашивала, вроде улыбалась как лиса. Не помнит она уже, о чем они толковали, так страшно и неловко ей было.
– Молода уж больно, – подытожила крестная,– Не удержит норов Захара. Да и не при царе Горохе живем, чтоб такую юную в жены брать. Времена сейчас другие. Подрасти бы ей.
– А мне на времена все равно,– нарушил, наконец-то, свое молчание Харитон,– У меня хозяйство, лошадь, дом новый отстроил с двумя комнатами. Мне хозяйка нужна крепкая, не избалованная, чтобы не дать все по ветру спустить. Вижу, матери у тебя нет,– обратился он к Степаниде,– Все хозяйство на тебе. Чисто, прибрано, едой дома пахнет. Даже закуска сразу нашлась, хоть нас и не ждали. Справляешься, стало быть. Вот и мне такая для сына нужна. Пойдешь в мой дом? Два раза не упрашиваю.
Степанида стояла молча, только пальцы на руках подергивались от напряжения. Не могла она вымолвить и слова, пока отец легонько не толкнул её в спину и не сказал за неё:
– Конечно, она согласна! От радости и язык проглотила! В нашей-то глуши днем с огнем таких женихов не найти!
Крестная снова заулыбалась как лиса и, прищурив глаза, спросила:
– Конечно, и приданное у вас есть?
– Ну, уж голую замуж не выдадим! – и, побежав к сундуку у печи, рывком открыв его, стал показывать, что в нём.
Крестная подошла к сундуку, покачала головой:
– Негоже так девку выдавать. Подкопить бы приданного.
Но тут снова вмешался Харитон:
– Бросьте! Я не за приданным приехал, а за невестой для моего сына! Ты, Степанида, конечно, его не видела, но точно могу сказать: на лицо он гож, силой не обделен, хозяйство все моё ему перейдет. Детей более не имею, кроме его. Ты решай сейчас, согласна или нет, а я и на приданное не посмотрю, свадьбу такую отгрохаю, что вся улица завидовать будет. Все сам оплачу!
Степанида, красная от стыда и холодея от страха, собрала все свои силы, посмотрела прямо на Харитона, потом на отца, который сам был красный как рак, и выдавила из себя ответ:
– Согласна.
От радости её отец чуть не подпрыгнул, а крестная побледнела и села обратно за стол, смотря теперь в пол. Еще два-три часа решали, как и когда пройдет свадьба. Решили играть зимой и траты, почти, все взял на себя Маслов. Уже по дороге обратно крестная ругалась с Харитоном:
– Ни рожи, ни кожи, ни приданного! Голь перекатная! За что ты с моим так крестником!? У него: и образование, и лицом и телом не обделен! Да погулял бы годочек другой, не разорился бы! Ишь, барин сыскался! Хозяйство у него! Какое у тебя хозяйство? Три коровы да старая кляча, на которой мы едем? Дом у него новый! А кто его помог построить? Не муж ли мой? Не его ли пасека построила твой дом?
– Ну, хватит, Пелагея! – наконец-то отозвался, все это время молчавший младший брат Харитона,– Наш брат конечно молодец, помогает нам с вашей пасекой. И ты жена мудрая, наставляешь его на путь правильный, пропить хозяйство не даешь. И спасибо, что за крестника так беспокоишься, как мать родная. Но все-таки Харитон прав. В доме ему хозяйка нужна. Ты и сама знаешь, Варвара его сердцем больна, не может уже за всем усмотреть. Сжалься ты, Пелагея, помоги уговорить Захара на женитьбу. Ведь сопьется, грешник, а то и вовсе где утопнет по этому пьяному делу.
Пелагея, красная от злости, ничего не ответила, но все-таки, войдя в дом Харитона, как лиса стала упрашивать Захара на свадьбу. Тот кричал, топал ногами, размахивал руками:
– Из дому уйду! Не заставите! Уберите, крестная, руки! Не удержите!– он кричал, ругался, убирал руки крестной, которая пыталась его успокоить, – Вы мне не хозяева! Я лучше на Матрене Пелагиной женюсь! Да, вот пойду к ней прям сейчас! Или лучше на вдовой Евдокии Самохиной! Вот уж крученая баба, вот с ней я поживу!
Крестная и мать Захара заохали, вспоминая этих женщин и все слухи о них, а Харитон, уставший от поездки и от этих криков, подошел вплотную к сыну и размаху ударил его по лицу. Тот от неожиданности повалился на пол, держась за правую скулу, смотрел на отца остервенелым взглядом. Мать сразу в рев, закрывшись платком, крестная застыла на месте, открыв, было рот, но так и ничего не сказала.
– Устал я от тебя, – заговорил Харитон.– Учил я тебя, учил. Столько в тебя сил вложил, и на фабрику к себе устроил. Чем ты нам с матерью отплатил? Гуляешь с беспутными девками, деньги пропиваешь, в долги залез. Мать хоть пожалей, сердце у неё больное! Крестную постыдись, она как за сына родного о тебе беспокоиться! Устал я за тобой все грехи твои заметать, людям в глаза смотреть стыдно. Хватит с меня! Женишься на той, которую я тебе нашел! Не уродлива, не больна, хозяйственна. Чего тебе еще нужно? А девиц своих забудь, не будет не одной шалавы в этом доме! А не захочешь, так по миру иди, и наследства тебя лишу, раздам все племянникам. Ты решай, Захар, решай, ведь у тебя хозяев нет. Мы с матерью тебе ведь не советчики. Так?
Захар ничего тогда не ответил. Бунтовал еще месяц, пил беспробудно, но все-таки на свадьбу его уговорили. Женили его со Степанидой зимой, поселили молодых в отдельной комнате. Помогала она Варваре и та полюбила её как родную дочь. В доме всегда было чисто, убрано и пахло едой и хлебом. Степанида как будто не уставала, день и ночь занималась хозяйством, пыталась улыбаться и не перечила мужу, который даже не скрывал своего раздражения и при случае мог её даже ударить. Как не боролся с этим Харитон, но никак не мог он повлиять на сына. А Степанида все терпела, её так учили, так учили и её мать. Даже после рождения двоих подряд детей, Захар мягче не стал, а когда она забеременела третьим, то однажды придя домой пьяным с очередной гулянки, выволок её за косу во двор и бил ногами, пока Харитон не вырвал её из его рук. В тот же день Степанида скинула мальчика и как она выкарабкалась после этого и вспоминать не хотелось.
Однажды не стало Варвары. Она просто не проснулась. После похорон стало и плохо Харитону, так он любил свою жену. Прожил он еще год после её смерти, выходя на улицу, опираясь на палку. Далеко не ходил, все больше, молча, сидел на лавке у дома. Не стало Харитона и Захар, немного присмирев, стал меньше пить, больше заниматься хозяйством. Степанида даже стала радоваться порою жизни, пока не случилась беда с их старшим сыном Иваном. Давно она подозревала, что связался он с нехорошими людьми, чуяло её сердце беду. Пыталась через мужа повлиять на сына, но тот её не слушал. Когда к ним домой заявилась полиция, она потеряла сознание, а когда сообщили, что её старший сын умер в камере, она, молча, кричала от душевной боли, сил уже просто не было. Что-то разорвалось как будто внутри её, ей хотелось кричать и бить по щекам мужа " Ведь я предупреждала! Я ведь просила тебя!": только уже было поздно. А когда муж дал добро на свадьбу Глафиры? Было это за год до трагедии с Иваном. Как она молила богу по ночам, чтобы этого не случилось, но повлиять на мужа она не смогла. Всю свадьбу она вытирала слезы, понимая, что у дочери жизнь будет не лучше чем её. Зачем же она сейчас идет против её свободы? Может Глаша права, сама нахлебалась сполна и другим этого же желает? Что же ей делать? Как правильно поступить? Никто не учил её как без мужа жить, но ведь все еще живет, не умерли от голода.
Самым большим предательством Степанида считала тот день, когда Захар записался добровольцем в красную армию. Ушел от семьи, от проблем, оставив их одних все это решать. Не знала, хотела ли она, чтобы он вернулся. Все же больше хотела, хотела посмотреть ему прямо в глаза!
Степанида перевернулась на другой бок, оглядела избу. Она, казалось, мало чем изменилась с того дня, как стала тут жить. Сколько тут пережитого было, сколько горя и радости, а все больше все-таки горя. Она смахнула с глаз слезу, привстала на локтях и прислушалась к тишине. Потом, не торопясь, встала с кровати, подошла к окну и посмотрела на улицу, которое освещало яркое весеннее солнце.
– Скоро пасха,– вслух сказала Степанида и слабо улыбнулась этому.
А ведь она была еще не старуха, ей всего сорок лет. В волосах конечно уже серебрились редкие седые волосы, и тело как будто рассыпалось на куски. Но она была все-таки еще не старуха.
От мыслей её резко оборвала влетевшая с ведром, Тамара. Увидев мать, вставшую с постели, она не удержала радости на лице: