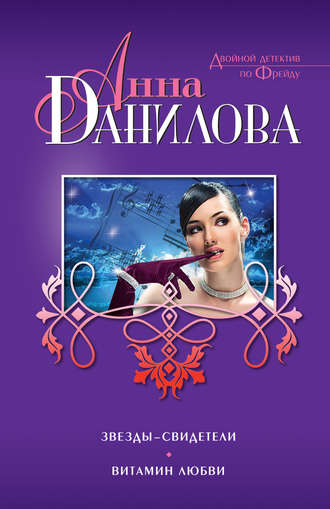
Анна Данилова
Звезды-свидетели. Витамин любви (сборник)
– Господи, – прошептал он, прижимая к груди лопату, – как хорошо, что меня никто не видит и не слышит и никто не догадывается о тех муках, которые я испытываю…
Он даже перекрестился в сердцах. И вернулся в дом. В кухне пахло кофе, и этот запах показался ему совсем не таким, каким он бывал, когда он сам варил кофе. К тому же он не мог вспомнить, когда ему вообще кто-то готовил кофе или тем более завтрак.
Нина как раз в ту минуту, когда он появился на кухне, начинала жарить гренки. Макала ломтики булки в яично-молочную смесь и укладывала их на сковородку с раскаленным маслом.
– А у тебя неплохо получается, – сказал он, снял куртку и решительным шагом направился в гостиную, где его поджидал рояль. Он сел за него, словно обреченный до конца жизни сидеть перед этой оскаленной зубастой пастью, провел пальцами по зубам-клавишам, вздохнул. Подумал, что должен же быть в мире какой-то порядок. Что раз Нина жарит гренки, то он должен сидеть за роялем и сочинять музыку.
Хотя… Стоп! А что ему конкретно сочинять, если он даже еще не освежил в памяти повесть Бунина?
Но за рояль-то он уже сел. А потому принялся наигрывать попурри из собственных сочинений. Сначала тихо, осторожно, словно пробуя на вкус звуки, потом – все более страстно прикасаясь к клавишам.
Герману казалось, что он играет уже долго, но и остановиться он не мог. Он словно хотел оправдаться перед самим собой за вынужденное бесплодие, доказывая, что еще недавно он мог придумывать красивые мелодии, и это были его собственные, им производимые звуки, значит, он может, может сочинять хорошую музыку, просто надо немного подождать, когда в душе созреет определенное настроение…
– Как красиво… – услышал он совсем рядом, повернул голову и обмер, увидев рядом с собой Нину. Она смотрела на него с искренним, как ему показалось, восхищением. – Какие чудесные мелодии! Прямо до мурашек…
И вдруг она, подняв плечи, вновь, как ночью, закрыла лицо руками. И что-то трагическое было в ее силуэте, во всем ее облике, в этом скрытом нежными ладонями лице.
Герман взял аккорд левой рукой, затем дважды повторил его, и правая рука его, словно независимо от него, тоже взяла несколько нот, затем мизинец достал высокую пронзительную ноту, облагородив фрагмент начала мелодии. Совершенно невероятное сочетание звуков! Он повторил тему, немного развил ее и почувствовал, как к голове его приливает кровь, как ему становится трудно дышать. Что это, свежий воздух? Запах кофе? Вид плачущей девушки-убийцы?
Молниеносным движением руки он схватил карандаш, набросал воспроизведенную им мелодию и неожиданно почувствовал щемящую боль в груди. Он даже застонал и тотчас застыдился нахлынувших на него чувств.
Что-то произошло в воздухе, приоткрылось что-то невероятно высокое, космическое, впустив в душу Германа ожерелье из драгоценных звуков… Мелодию!
Мелодия была богатая, способная развиваться и разветвляться, переливаясь всеми оттенками минора, к тому же – он откуда-то это знал – запоминающаяся сразу же.
Он не знал, сколько прошло времени с тех пор, как он извлек из рояля первые звуки, но, очнувшись, понял, что Нина так и стоит рядом с ним, и плечи ее подрагивают. Нетрудно было догадаться, что до нее, до этой давно повзрослевшей девочки, только сейчас начал доходить весь ужас того, что она сотворила. И что если поначалу ее обуревал страх перед тюрьмой, ее холодом и вонью, не говоря уже о леденящем ворохе неизбежных унижений, то сейчас, вполне возможно, она начинает испытывать страх другого рода – ужас от того факта, что она убила двоих людей. Лишила их жизни. Хладнокровно.
Легкое покалывание в кончиках пальцев свидетельствовало о том, что кровь его забурлила с новой силой и что эта новая сила наполнила не только сосуды, но и его душу. Он знал это свое состояние – какого-то необычайного обновления и радости, это предвкушение интересной большой работы. Мелодия, «скелет» которой он порывистым почерком набросал на нотной бумаге, продолжала жить в нем, разбухая и развиваясь, словно разливалась густейшими кровеносными сосудами побочных тем. Он уже слышал их, они уже жили в нем…
– Ну же, хватит, возьми себя в руки! – Какой же он сейчас был добрый! – Нина, давай позавтракаем, а потом уж вместе решим, как следует поступить, чтобы тебя не вычислили.
– Да, да, хорошо, – она отняла ладони от мокрого лица и покорно последовала за ним на кухню.
На столе он увидел тарелку с гренками и понял, что, оказывается, страшно проголодался.
– Выглядит очень аппетитно!
– Хорошо, что ты не считаешь калории, как некоторые. И вообще, ты нормальный, адекватный. Не то что Роман!
– Роман? – Герман посмотрел на нее с видом человека, которому показалось, что он ослышался. – Ты сказала – Роман?
– Ну да! Его зовут Роман.
– И кто же у нас Роман?
– Расслабься. Ешь гренки. – Она подбодрила его взглядом. – С ним-то все хорошо. Другое дело, что он остался теперь без квартиры. Но это уж его проблемы. И почему я должна делиться с ним своей собственной жилплощадью?!
– Ты лучше скажи – как мне реагировать на все то, что ты мне только что сказала? Не обращать внимания или расспросить из вежливости? – Он вдруг (неожиданно для себя) принял решение вообще не обращать на нее внимания – до тех пор, пока ему не покажется, что время ее пребывания в его доме подошло к концу. Он еще и сам не знал, как он об этом узнает, но после всего произошедшего с ним у рояля у него появилась некая внутренняя уверенность: пока что он все делает правильно. Что же будет потом, никто же не знает.
– У тебя не получится совсем уж не обращать внимания, ты же должен знать, кто с тобой живет.
– Не со мной, а у меня, – поправил он ее, откусывая с хрустом кусочек поджаренного хлеба. – Но ты права. Я даже не знаю полностью твоего имени. Нина… А фамилия?
– Нина Вощинина, могу показать тебе паспорт.
– Покажи, – не растерялся он, решив не играть в данном случае в вежливость. Раз он оказал ей приют, то вправе заглянуть и в паспорт девушки-убийцы. Так, на всякий случай.
Нина кивнула, вышла из кухни и вернулась с паспортом.
Да, она на самом деле Нина Яковлевна Вощинина, двадцати пяти лет от роду, проживает в Москве на Трубной улице. С пропиской, таким образом, все в порядке. Вот только она не замужем! Во всяком случае, штамп регистрации брака отсутствует.
– Так ты не замужем была за своим Вадимом? Официально?
– Замужем, – со вздохом ответила она, уселась напротив Германа со скучающим видом. – Просто паспорт потеряла, мне сделали новый, а штамп – зачем он мне? Лишняя суета.
– А квартира чья? Вадима? Или твоя?
– Наша общая, теперь она будет полностью моя, и я ни за что больше не свяжусь с мужчиной и уж тем более никогда не выйду замуж! Хочется покоя и свободы.
– А кто ты по образованию? Какая у тебя профессия?
– Я работала в школе, психологом. До недавнего времени.
– Как это?
– Когда все это произошло, я просто не вышла на работу. Я же рассказывала!
– После того, как убила…
– Как убила свою мачеху.
Герман нахмурил брови:
– Нина, хватит валять дурака и разыгрывать меня! О какой мачехе ты говоришь?
– О своей мачехе, которую я убила позавчера.
– Ты в своем уме?!
– С мозгами у меня все в порядке, а вот Ритка просто помешалась на почве любви и ревности!
– Ритка?.. – У него уже голова шла кругом.
– Все очень просто. Мама моя умерла, давно, и отец женился на молодой женщине, Маргарите. Обычная история, ты не находишь? Не хочу рассказывать тебе, как я переживала. Я чуть с ума не сошла от горя! Но самым ужасным было то, что я тогда была прописана в бабушкиной квартире, то есть на этой самой Трубной улице. Словом, после смерти моего отца в нашей квартире продолжала жить Маргарита, хотя по завещанию папина квартира принадлежит тоже мне, как и квартира на Трубной. Дело в том, что эта квартира, на Цветном бульваре, в свое время досталась моей маме от ее родителей, и Маргарита не имеет к ней никакого отношения. Однако не выселять же ее оттуда!
– Так ты жила на Цветном или на Трубной?
– Не поверишь, но я жила сразу в двух квартирах. Когда у меня отношения с Вадимом разлаживались, я шла ночевать к Маргарите, на Цветной бульвар. Она тогда еще не встретила Романа и вела себя тихо, как мышка, и вообще мы с ней ладили. Но я понимала, что долго так продолжаться не может, Маргарита – еще молодая женщина, она рано или поздно найдет себе кого-нибудь и, как я надеялась, переедет к своему новому мужу. Но все случилось совсем не так, как я хотела или планировала.
– Она привела своего приятеля в вашу квартиру? – усмехнулся Герман, не испытывая ровно никакого интереса к квартирным проблемам Нины. Правда, в голове его занозой засела фраза Нины, что позавчера она якобы убила свою мачеху.
– Именно. Она познакомилась с Романом, неким проходимцем, переехала к нему в однокомнатную квартиру в спальном районе, а сама стала сдавать мою каким-то людям! За две тысячи долларов в месяц!
– И даже с тобой не посоветовалась?
– Нет, она просто поставила меня перед фактом. К тому же она подарила этому своему Роману некоторые ценные вещи, принадлежавшие моему отцу, – коллекцию старинных часов, марок. И самое главное, она сильно изменилась, понимаешь? Сначала она была такой мышкой, как я уже сказала, со мной вежливо разговаривала, встречала меня с милой улыбкой, когда я приходила к ней, вернее – к себе домой! А тут вдруг… Откуда в ней появились эти ужимки, эта дерзость, грубость! Она сказала, что эта квартира теперь принадлежит им и все такое прочее.
– Все, спасибо за завтрак, гренки были очень вкусными. А теперь, Нина, извини, но мне не до твоих семейных проблем. Мне надо работать. И еще: совет. Хватит изводить меня своими сочинениями о каких-то убийствах. То ты мужа и его друга убила, то мачеху! Я понимаю, меня можно было разыграть один раз, к тому же ты показала мне пистолет, но теперь… Ты рассказываешь мне какие-то бредовые истории о своих многочисленных квартирах в центре Москвы, о мачехе… Ты в один день убила и мужа с его дружком, и мачеху? Вот просто так взяла и убила?
– Нет, не в один день, конечно. Мужа и его друга я убила позже.
– По-моему, ты не в себе!
– Подожди. Твой рояль от тебя никуда не денется. Я просто хотела сказать, что если меня схватят, то ты ничего не знаешь!
– Да я и так ничего не знаю. Но тебе, я думаю, нужна помощь психиатра.
– Ты просто не знаешь: они собирались убить меня! Я случайно подслушала их разговор. А хочешь, я покажу тебе пузырек с ядом, который Ритка дала Роману, чтобы он пригласил меня в кондитерскую и подлил яд в мой кофе?
Через пару минут на столе уже стояла склянка с темноватой жидкостью.
– Понятия не имею, как называется этот яд.
Герман затосковал. Он косился на Нину и понимал, что смотрит на нее уже не так, как прежде, что образ этой красивой девушки отравлен ее психическим нездоровьем. А это значит, что ей требуется помощь, но только не такая, какой она от него ждет, а совершенно другая. Ей нужен хороший доктор.
– Скажи, Нина, ты случайно не состоишь на учете у психиатра?
– Нет. Пока еще нет. Но я столько уже дел натворила, что, может, вскоре мне эта помощь – в смысле, психиатра – и потребуется.
Так захотелось позвонить Рубину и обо всем рассказать, что он стал глазами искать телефон. Сейчас, когда у него родилась мелодия и когда он так хотел работать, надо же было этой Нине придумать историю об убийстве своей мачехи!
– Ладно, забудь все, о чем я рассказала. Сейчас я приберусь в кухне и пойду в свою комнату, не стану тебе мешать.
Нет? Каково! Пойду в «свою» комнату!
Но Герман и это проглотил. Он сидел за столом, допивая кофе, и думал о том, что надо срочно что-то предпринять, пока его самого здесь не пристрелили.
– Нина! – крикнул он неожиданно громко, так, что сам испугался своего голоса.
– Да? Ты почему кричишь? Я же здесь, стою рядом с тобой, посуду мою. Не пугай меня!
– Ты должна отдать мне свой пистолет и эту бутылочку… с ядом. Уж извини, подруга, но после всех твоих рассказов у меня мороз идет по коже. Вижу, что тебе убить человека – ничего не стоит. А вдруг ты и меня тоже захочешь кокнуть? Мало того, что я приютил тебя, так еще ты изводишь меня своими фантазиями! Признайся, ты про мачеху все придумала?
– Нет, не придумала, – ответила она серьезным тоном.
– Допустим, что ты убила и мачеху. За то, что она посмела сдать твою квартиру. И ты полагаешь, что это серьезный мотив для убийства и что я к этому нормально отнесусь?
– Я не знаю, как именно ты к этому отнесешься, но я сказала тебе правду.
– А ты не могла, скажем, промолчать, вместо того чтобы нервировать меня своими идиотскими признаниями?
– Могла, наверное. Но у меня очень неспокойно на душе, я переживаю, а поскольку мы с тобой живем вместе, с кем я еще поделюсь такими вещами, как не с тобой?
– Понятно. Значит, так… Давай договоримся. Если тебе действительно нужно от кого-то спрятаться и я позволил тебе пожить у меня, то ты должна уважать меня, мои чувства и мой покой. Поэтому, если тебе и в следующий раз понадобится поделиться со мною своими впечатлениями об очередном совершенном тобою убийстве или тем более попытаться объяснить мне мотивы этих преступлений, я прошу тебя: избавь меня от этого! Мне надо работать, я тебе уже говорил.
– Хорошо-хорошо, я все поняла. Извини.
Она удалилась в «свою» спальню, а Герман, вконец расстроенный, взял телефон и вышел на крыльцо. Он даже не заметил холода, просто стоял, дышал свежим морозным воздухом и смотрел, как падает снег. Он даже и не падал, а летел – косо, густо, покрывая толстым слоем пространство вокруг дома, над которым трудилась все утро Нина. Удивительная девушка, с которой ему предстоит расстаться в самое ближайшее время. Не девушка, а какой-то дурман, наваждение!
Сумка, набитая деньгами. Оружие. Яд. Что со всем этим делать?
Стояла такая глубокая тишина, что Герману показалось, будто где-то там, наверху, медленно, со стоном дышит уставшее от холода и снега небо. И если в другие времена этого небесного дыхания не слышно из-за пения птиц, шелеста листвы, звуков музыки, которая постоянно звучит в его доме, то сейчас, когда дом, казалось, уснул, а листва давно осыпалась и превратилась в слой промерзшего тлена, Герман, задрав голову, слышал, казалось, звуки самого́ воздуха…
Он оглянулся и взглянул на телефон. Что ему стоит набрать номер Рубина? Он так хорошо себе это представил, что словно и в самом деле услышал голос своего продюсера, его восклицание: ты что, старик, спятил? А потом, с нежным матерком, эмоционально, Лева страстно обрисовал бы Герману всю опасность пребывания в его доме незнакомой и явно сумасшедшей девушки. И оказался бы прав. Предположим, Герман согласился бы с ним и попросил бы Леву приехать сюда и увезти из его дома Нину. Что последует за этим? Рубин явится, скорее всего, не один, а прихватит своих друзей – фээсбэшников. И все частным образом, очень тихо, как-то разрешится. Нину увезут и, скорее всего, упекут в психушку. Это будет не так болезненно для Германа, если он точно уверится в том, что она на самом деле ненормальна. А если она здорова и убила всех этих людей, исходя из каких-то своих личных мотивов, о которых он, в сущности, ничего и не знает? Может, она вполне адекватна и совершила эти преступления потому, что у нее все наболело, накипело… Это у него самого, у Германа, жизнь идет более или менее упорядоченно, спокойно, он живет в полном комфорте и позволяет себе и такую роскошь, как одиночество и добровольное затворничество. То есть у него есть деньги, любимая работа и возможность жить так, как ему хочется. И никто не отнимает у него жилье, не покушается на его честь и достоинство. Больше того, у него вообще все замечательно (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!), ему время от времени заказывают музыку к фильмам, он – уважаемый человек, у него много друзей… Можно продолжить этот перечень, только какой в том смысл? К тому же у него есть Рубин, человек, который всегда придет на помощь, умный и преданный, на которого всегда можно положиться.
Он снова сунул телефон в карман куртки. Снег уже ложился на землю крупными хлопьями, ему даже захотелось позвать Нину и обратить ее внимание на то, какими пышными слоями он устилает аккуратные дорожки, расчищенные утром.
Но – не позвал. Посчитал, что он и так делает для нее слишком многое, чтобы еще и общаться с ней запросто, словно между ними нет этой ее… странности, которая все портит.
А что, если взять и расспросить ее обо всем хорошенько? Поступить по-людски, выяснить, каким человеком была ее мачеха. И даже если Нина ее не убивала, а только представила себе, что убила ее, – дать ей возможность высказаться, излить душу. Может, она именно для того и приехала сюда, вернее, выбрала его в качестве своего друга, чтобы поговорить по душам, узнать наконец, мнение человека постороннего, получить как бы взгляд со стороны на все эти обстоятельства?.. Безусловно, она жила среди каких-то людей, ее окружали друзья, приятели, родственники, соседи и просто знакомые, хорошо знавшие ее мачеху, мужа и друга мужа. И всем им казалось, что Нина находится с ними в хороших отношениях, и никто даже предположить не мог, насколько мерзко собирался поступить Вадим со своей женой и с какой легкостью ее мачеха распорядилась ее квартирой. Но – все равно! Почему она выбрала для задушевных бесед именно его, совершенно незнакомого человека? Зачем ей было вычислять его? Какой во всем этом смысл?
Он вдруг почувствовал, как напряглось его горло, точнее, голосовые связки: он тихо выводил мелодию, но не ту, что родилась у него утром, а другую, полную боли и отчаяния. Голос тянул эту нежную и вместе с тем трудную для исполнения тему, а в голове его словно зазвучал оркестр. И такая оригинальная аранжировка, словно он где-то ее подслушал, у кого-то из великих. Но нет: это была ЕГО мелодия, и она отражала чувства и переживания девушки, которая сейчас лежала скорчившись (он будто видел ее) на кровати, поджав ноги и обхватив руками колени – раздавленная сознанием того, что она убила трех человек. Возможно, призраки этих убитых обступили ее кровать, смотрели на нее своими прозрачными глазами и звали ее к себе.
Музыка перестала звучать в его голове. Он стряхнул с куртки снег и вернулся в дом с чувством выполненного долга. Да, именно долга. Он же должен был – самому себе – великое множество новых, свежих мелодий, идей! Две уже родились. Оставалось еще несколько сотен.
Он улыбнулся, радуясь тому, что силы возвращаются к нему.
Быстро прошел в гостиную, сел за рояль и записал мелодию на нотной бумаге. Он был счастлив. А еще – благодарен Нине за то, что она вдохновила его на создание этой музыки. Даже если мелодия не пригодится ему в работе над фильмом, он использует ее когда-нибудь потом, непременно.
Голова была ясной, настроение – очень странным, словно он выпил изрядное количество коньяку и теперь находился в предчувствии некоего невероятного счастья.
Хотя чему радоваться-то?!
Подбросив в камин поленья, он уселся в глубокое кресло, укрылся пледом и раскрыл томик Бунина.
«В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.
Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару.
Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко… Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним…»
Так много сразу всего на него нахлынуло! Какие-то юношеские впечатления от московской весны, от раннего восприятия Бунина, от сладкого и головокружительного запаха молоденьких девушек, с которыми он целовался вот так же – по весне… Как же давно это было! И как все было чисто, нежно, какой восторг он испытывал от само́й жизни! Ведь он и музыку тогда начал сочинять, и стихи.
Как жаль, что зима еще долго продлится, до весны еще далеко, будут еще морозы, и снега, и метели…
В каком-то порыве, словно это могло спасти его от неминуемых зимних холодов, он подкинул в огонь еще одно полено, оно зашипело, задымилось, уступая, однако, охватившему его жару. Скоро и оно займется пламенем, и в комнате станет еще теплее. Герман взглянул на дверь, ведущую в комнату, где страдала, как он понял недавно, Нина, вздохнул и перелистнул еще одну страницу книги.
6
Он и сам не ожидал от себя такого – на третьей странице его сморил сон. Отложив книгу, он устроился на диване, укрылся пледом и заснул. Ему снился Цветной бульвар, пустынный и заснеженный, где по аллее брела женщина в черном, и он знал откуда-то, что это – мачеха Нины, и он бежал за ней, чтобы расспросить ее: как же могло такое случиться, что она забрала не принадлежащую ей квартиру, ведь так поступать нельзя, это – грех по отношению к сироте. Но женщина все убыстряла темп, она шагала, не оглядываясь, потом побежала, и в какой-то миг он понял, что она уже бежит по воздуху, и вот – она летит, машет руками, как крыльями.
Он запыхался, преследуя ее, устал и остановился, чтобы перевести дух, и в этот момент где-то поблизости кто-то отворил окно, и в воздухе запахло чем-то вкусным, и запах этот был не ресторанный, какой мог возникнуть на Цветном бульваре, где располагается множество подобных заведений, а домашний, и он еще подумал, что кому-то повезло жить в этом красивом и спокойном (во сне) месте, он даже представил себе женщину, стоящую у плиты и помешивающую ложкой суп в кастрюльке…
Он открыл глаза и понял, что так вкусно пахнет в его доме. И что давно уже здесь ничем столь аппетитным не пахло. И еще одно странное чувство охватило его, когда он подумал вдруг, что когда-то, до него, здесь жил другой человек, построивший этот дом. Его друг, Дима, тоже, вероятно, мечтавший о том, чтобы здесь жила женщина. И он думал, что со временем у него образуется семья, появятся дети, все они станут собираться за круглым столом и Димина жена будет разливать по тарелкам борщ. Такая простенькая картинка, о которой втайне мечтают большинство нормальных мужчин. Но мечте этой не суждено было сбыться.
И почему он вспомнил сейчас о Диме?
– Нина? – позвал он ее, чтобы очередной раз удостовериться: она – не призрак, а живая женщина и именно она приготовила что-то вкусное, чей аромат распространяется по всему дому.
Потом он понял, что она, вероятно, его не слышит, потому что из кухни доносились звуки работающего телевизора. Он и сам всегда включал телевизор, готовя еду или просто находясь в кухне. Телевизор – это фон, это звуки внешней, далекой жизни, которую он оставил, чтобы пожить в тишине. Вот такой парадокс.
Судя по тому, что полено, которое он недавно подложил в камин, еще полыхало, проспал он не так уж и долго. Он подбросил в огонь еще пару толстых крепких поленьев и, размявшись немного, отправился в кухню.
Нина, какая-то присмиревшая, тихая, как и ее кроткое имя, поджаривала на сковородке котлеты.
– А… Привет! Я нашла мясорубку и разморозила мясо. Ты котлеты любишь? – Улыбка ее была грустной. Как у человека, который изо всех сил старается не подавать виду, что его мучает печаль или тоска.
– Да, очень люблю.
– Тогда садись обедать. Суп твой доедим, ты не против?
– Нет.
Она ухаживала за ним так, словно была его девушкой. Нежно, разве что не целовала его в макушку. И ему было так приятно, что он заставил себя хотя бы на время обеда забыть о том, насколько эта девушка необычна.
– Ты любишь смотреть телевизор? – спросил он.
– Да, я вообще люблю телевидение, кино, театр. Но в основном – фильмы. Могу часами, сутками валяться на диване перед телевизором, и мне это не надоедает. Вот такая я.
– А друзья у тебя есть?
– Конечно, есть.
– И никто не знает, что ты здесь?
– Нет. Зачем бы я так подставила тебя?
– Но тебя ведь ищут, должно быть.
– Кто-то, может, и ищет, но это не смертельно. Главное, что меня не найдут. Ведь никому в голову не придет искать меня в лесу, в домике композитора Родионова! Тем более что у нас нет общих знакомых, нас никто и никогда не видел вместе. Да и к тебе, я вижу, никто не приезжает.
– Ко мне может приехать мой продюсер, Рубин. А вместе с ним вполне способен заявиться и режиссер фильма, к которому мне предложили написать музыку.
– Я спрячусь. Хоть в кладовку, и буду сидеть там тихо, как мышка. Обещаю!
– Послушай… – Он смотрел, как она убирает пустую тарелку из-под супа и ставит перед ним чистую, предлагая ему попробовать горячих котлет. – А тебе не приходило в голову, что у меня может быть женщина?
– Ты же ясно сказал в своем интервью, что живешь один, что тебе просто необходимо побыть одному. И никакой пассии у тебя нет.
Вот в этом она не солгала. Он действительно так сказал. И это было его ошибкой. В случае, если он видит перед собой элементарную поклонницу, фанатку, такое его высказывание могло лишь раздразнить эту молодую эмоциональную публику. Мол, я один, приезжайте, девочки!
Котлеты были восхитительными!
– Нина, ты прекрасно готовишь. Пожалуй, я взял бы тебя к себе поварихой.
– Да ты меня уже взял, – заметила она. – Но я рада, что тебе понравилось. Знаешь, я еще хорошо пеку пироги. И знаю великое множество различных рецептов. Другое дело, что ты можешь не захотеть набирать столько калорий. А если все же захочешь – получишь море удовольствия.
Он слушал ее, смотрел на нее и понимал, что она нравится ему все больше и больше. Отчего-то ему захотелось ее обнять. Потом появилась абсолютно шальная мысль – усадить ее к себе на колени и поцеловать. Как-то успокоить. Наговорить ей на ухо разных милых слов, подбодрить ее, сказать, что мачеха ее – просто опасная наглая тетка и это ничего, что Нина ее укокошила. Но, с другой стороны, она же убила женщину!
– Скажи, где… труп твоей мачехи?
– На той квартире, где она жила вместе со своим хахалем.
– А фамилия ее?
– Она взяла фамилию моего отца, выйдя за него замуж, поэтому ее фамилия – Вощинина, как и у меня.
– Зовут ее как?
– Ну у тебя и память! Маргарита.
– Но разве твоя фамилия тебе досталась не от мужа?
– Нет, я оставила девичью, вступив с Вадимом в брак.
– А как его фамилия?
– Борисов.
Герман мысленно уже звонил Рубину с просьбой выяснить: кто они все такие и что слышно о Маргарите Вощининой и Вадиме Борисове? И где, при каких обстоятельствах обнаружили их трупы? Интересной, наверное, была бы реакция Льва на подобную просьбу! Он непременно спросил бы: и в какое такое дерьмо ты, друг мой, вляпался?
– Знаешь, здесь так хорошо, – сказала Нина, разливая чай по чашкам. – Тихо, спокойно, и мне тут так… уютно. Вот только снег. Его так много, завалил все вокруг! Сад, дорожки, замел ворота, я не говорю уже о гараже. Здорово, что ты такой запасливый. Я заглянула в кладовку – там много разных консервов. Это уже хорошо. Хотя бы с голоду не умрем. А то представляешь: у нас целая куча денег, но нет еды! А как здесь с водой?
– Вообще-то, может, ты заметила, в кладовке стоят баллоны с покупной водой и с родниковой. Еще здесь есть колодец, но я редко пользуюсь водой из него.
– А куры? – Она посмотрела на Германа как-то странно, и он вдруг вспомнил, что забыл отпереть курятник и не покормил их! Он так увлекся своими размышлениями о том, опасно ли жить под одной крышей с убийцей, что позабыл о своих курочках.
– Нина… Я забыл!
Он вскочил, чтобы тотчас броситься вон из дома, в курятник, но Нина его остановила:
– Не переживай. Я надела твои валенки, взяла чайник с теплой водой и пошла, проваливаясь в снег по самые уши, в курятник. Еле-еле открыла калитку, потом расчистила немного снег под дверью, вошла туда. Знаешь, они все живы, в курятнике не так уж и холодно. Я налила им теплой воды, подсыпала кукурузы, зерна, семечек. Еще покрошила вчерашний хлеб. Думаю, у них все хорошо. И, конечно, я их не выпустила на мороз.
– Нина, ты умница!
– Да просто я понимаю твое состояние. Ты выбит из привычной колеи, из привычного ритма жизни. И в голове твоей вертятся совершенно другие мысли. Ведь ты же никак не можешь успокоиться из-за меня! У тебя уже крыша едет оттого, что ты никак не можешь решить – оставить меня в своем доме или отправить в психушку? Но теперь-то тебе уже просто придется терпеть мое присутствие – смотри, какой снегопад начался! Мы теперь окажемся надолго заперты здесь. Вдвоем.
Герман бросил взгляд в окно, и до него только сейчас начало доходить, что они действительно отрезаны от всего мира. Что его заветное желание – отгородиться от людей – только сейчас приобрело свой истинный смысл: снег засыпал не только сад и участок перед домом и курятником, гаражом и воротами, он завалил и лесную дорогу, соединявшуюся с основной московской трассой. И кто знает, когда еще ее расчистят киселевские трактора?
– Спасибо за обед, все было очень вкусно, – сказал он. – Хочешь послушать музыку?
– Твою?
– Нет. Вебера, к примеру, слышала о таком композиторе?
– Слышала. Я же не в дремучем лесу жила… вроде тебя! – Она усмехнулась. – Он же рок-оперы пишет. «Иисус Христос – суперзвезда», например.
– Еще?
– Ну… «Кошки», кажется. Мне ужасно нравится музыка из этого мюзикла. Да и вообще забавный сюжет. Думаю, «Призрака Оперы» тоже он написал?
– Все правильно.
– А у тебя есть записи Сары Брайтман?
– Конечно, есть!
– Вот ее бы я с удовольствием послушала. Как и Лару Фабиан.
– Хорошо. В такую погоду только музыку и слушать. Смотреть в окно, как падает снег, и слушать, слушать…
– Я только посуду помою.
Она производила впечатление очень аккуратной девушки.
Герман нашел диски с мелодиями Сары Брайтман, и вскоре по дому поплыл ее божественный голос. Расположившись в своем любимом кресле перед пылающим камином, Герман, слушая музыку, поджидал Нину. И, хотя он знал ее меньше суток, отчего-то так жалел ее, так понимал, и эта музыка словно бы подталкивала его к тому, чтобы он оправдал все совершенные ею убийства. Больше того, музыка творила нечто невообразимое – Нина представлялась ему героиней какого-то психологического триллера. И он подумал, что, если бы Лева Рубин – продюсер, надо сказать, универсальный, – заинтересовался подобным сюжетом, то наверняка он поручил бы какому-нибудь хорошему автору написать сценарий, а потом снять фильм, который назывался бы, к примеру: «Снег. Мелодия убийства». Или: «Январь. Кровавый шлягер». Словом, что-то зимнее, холодное, интригующее и непременно связанное с убийствами.
Вот что такое берущая за душу музыка, да еще и в исполнении столь гениальной певицы, как Сара Брайтман! Кто знает, может, и историю мальчика Мити и его любви, так трагически закончившуюся, он сам, Герман Родионов, сможет нанизать на не менее гениальные мелодии, и, слушая их, люди будут рыдать… Он закрыл глаза и увидел себя в кинозале. Так бывало с ним всегда, когда он только приступал к работе над музыкой к фильму (промелькнула мысль, что контракт-то еще не подписан, может, все еще изменится, и ему не придется сочинять музыку именно к этому фильму). И как теперь вообще подписать этот контракт, раз их засыпало снегом и отрезало от всего мира?







