
Антология
Кружение незримых птиц
Солнце
Легенда повествует: на земле
Когда-то проживали только птицы.
Без солнца. То есть в полной темноте.
Под перьями скрывая свои лица.
Они любили ссориться и спать.
Их голоса пронзительно скрипели.
И было очень трудно понимать,
Чего они желали и имели.
Однажды вышла драка. Без конца
Летели в клочья порванные перья.
Пока не бросил кто-то вверх яйца.
Стремительно. Без чувства сожаленья.
Оно разбилось и его желток,
Коснувшись неба, вспыхнул очень ярко.
И осветил всю землю. Сколько смог.
И стало на земле светло и жарко.
Пространство развернулось далеко.
Легко, без всякого на то усилья.
Все птицы разлетелись. Широко
Расправив вырастающие крылья.
Мир заполняя пением. С высот
За ними наблюдал горячим глазом
Желток яйца разбитого и Тот
Кто дал ему взлететь и вспыхнуть разом.
Самый сильный
Спрашивает мужчина
У дождевой воды:
«В чем состоит причина
Силы твоей. Следы
Жизненного теченья
В каждом из нас живут.
Нет без тебя крещенья.
Все без тебя умрут».
Вода отвечает: «Сила
Это взаимосвязь.
Она управляет миром
И безгранична власть
Каждого, кто умеет
Ее проявить в другом.
В силу не только верят, но и считают злом.
Во мне она есть, конечно,
Но Холод меня возьмет
И превратит в кромешный
И непроглядный лед.
Из этого вытекает,
Что Холод сильнее меня.
Но он мгновенно вскипает
От солнечного огня.
Солнце владеет светом.
В нем не бывает теней.
В сравнении с ним при этом
Выглядит мир темней.
Поэтому, если Туча
Закроет его собой,
Отобразится лучше
Вид стороны другой.
И станет тогда понятен
Скрытый, как Солнце, смысл:
В жизни есть много пятен
Темных, как чья-то мысль.
Сила их непомерна.
Но Ветер судьбы – сильней.
Подует и непременно
Погонит Тучу скорей
В очень дальние страны
Быстрым своим крылом.
Туда, где ложатся рано
И рано встают потом.
Но если он Гору встретит,
Приникнув к ее груди,
То дымкою на рассвете
Растает. Его не найти.
Значит, Гора сильнее.
И хороша собой.
Сияет на толстой шее
Камешек золотой.
В небо она уходит
И страждущие небес
На склонах ее находят
Закованный в камень лес.
Растут на Горе Деревья
И сеют свои семена
В расщелины и углубленья,
Чтоб раскололась она.
Деревья Гору сломают.
Но ты придешь с топором
И по стволам загуляет
Лезвие языком.
Ты, Человек, мужчина.
Строишь свои дома.
В этом и есть причина
Силы твоей и ума.
Выходит, ты самый сильный…»
Мужчина стакан берет
И, выпив воды всесильной,
Рукой вытирает рот.
Ангел и дракон
Безвременно растянуто вовне —
Мгновение одно. И бесконечность,
Попав в него, почувствует вполне
Себя уверенно. И превратится в вечность.
Она как точка в космосе видна,
Лишь с одного рассеянного взгляда.
В ней сад цветов, и сыростью полна
Над деревом единственным прохлада.
Гудит энергией божественною ствол
И мощными, огромными ветвями,
Нанизывает синий ореол
Тысячелетий, вызревших плодами.
Кому-то надо вечно охранять
От посягательств это Древо Жизни.
И посылается к нему опять
Чудесный Ангел, выбранный на тризне.
Горит чернильно вытканный наряд
И белоснежные в изгибах крылья
Его приносят безвозвратно в сад
И покрываются дорожной пылью.
В былые времена он помогал
Скорбящим и утратившим надежду.
Вел тех, кого любил и понимал,
Не позволяя им остаться между
Последним вздохом и прыжком души
За грань земную – в белые палаты.
Туда, где как на блюдечке лежит
Все совершённое. Не требуя оплаты.
Он был хорошим Ангелом и вот
Потребовались сила и уменье
Стать Воином и, если повезет,
Упрямым и безжалостным в сраженьи,
Чтобы Дракона жадного убить
Его не подпускающего к Древу.
И Ангел стал жестоким. Как не быть.
За правду справедливую и веру.
В одно мгновенье изменилась суть
Происходящего. Дракон повержен.
И невозможно Ангела вернуть
Туда, где он к другим был очень нежен.
Прошло тысячелетие. Он стал
Совсем другим. И больше, и мощнее.
Наряд его бронею засверкал
И появился амулет на шее.
Он овладел губительным огнем
И по ночам от скуки для забавы
Сжигал цветы и сожалел потом,
Что в этом нет ни красоты, ни славы.
Еще тысячелетие прошло
И стало совершенно очевидно,
Что Ангел был Драконом и его
Убить необходимо. И обидно,
Что новый Ангел к Дереву придет
И повторится перевоплощенье.
В который раз! Когда произойдет
Меняющее суть вещей мгновенье.
Принцесса – лягушка
В тени деревьев, на резной скамье,
Принцесса одинокая сидела.
И слушала, как в молодой траве
Гуляет ветер справа и налево.
У ног ее, из заводи пруда,
Тянулись блики солнечного света.
И в отражениях плыла вода
Прохладная и исчезала где-то.
Сливалось небо с воздухом густым
И квакала печальная лягушка
Однообразным голосом пустым,
Зоб раздувая плавно и натужно
В слова обиды: «Множество принцесс
Теряют красоту, преображаясь
В лягушек. Утомительный процесс
Потом искать их по земле, скитаясь
Через болота, дебри и леса.
Давно лягушек не целуют принцы.
Не потому, что «против» или «за»,
А потому что уважают принцип
Любить прекрасное. У них в крови
Страсть к идеалу. Он всего дороже.
А мне без поцелуя и любви
Опять не стать принцессою, похоже».
В тени деревьев, на резной скамье,
Лягушка одинокая сидела.
И слушала, как в молодой траве,
Гуляет ветер справа и налево.
Волны света
Девочка у ручья играла,
Смеялась весело и любила
Его прохладу и в нем искала
Свое отражение. Находила
Себя в течении, в бликах света.
И рыбок маленьких трепетанье
Ей говорило, что будет лето
До бесконечности в мирозданье.
Девушка тихо к реке спускалась,
И берег крутой под ее ногами
Все выше казался, и возвышалась
Она над плывущими облаками
Внизу, в воде, за молочной пеной,
За белоснежными городами
Она отражалась такой же белой
Между кисельными берегами.
К берегу моря брела устало
Женщина. Ветер трепал одежду.
И было во взгляде ее немало
Счастья и горя и то, что между
Этими чувствами. Волны били
О берег. И рыбаки смеялись,
Когда отражением чайки стыли
И за рыбешками к ним срывались.
На берегу океана старуха
За горизонтом следит глазами,
Где разворачиваются глухо
Воды под пенными парусами.
И к ней бегут, как когда-то летом
Она бежала к ручью беспечно.
И отражается в волнах света
Ее душа. И уходит в вечность.
Fatum
1. Выбор
Крылья скрестив на груди,
Ангел смотрел печально
На женщину, к ней подойти
Мешало ее молчанье.
Она смотрела в себя
И думала напряженно
О том, что уже нельзя
Быть слабой и отрешенной.
Внутри ее живота,
Светясь красотой неземною,
Спал маленький сатана
В обнимку с ее душою.
И надо было решить,
Как поступить с младенцем:
Убить или любить
И дальше носить под сердцем.
Его спасать или мир
От темноты кромешной.
Кто никогда не любил,
Выберет мир, конечно.
2. Судьба
В уснувшем доме голос скрипел.
У легкой люльки сидела Судьба.
Белая-белая, словно мел,
И пела младенцу такие слова:
«Я рядом, мой мальчик, всегда с тобой.
Тонко сплетаю дыхание рыб
С корнями горы в голубой-голубой
Простор из холодных и пламенных глыб.
Который в наполненной пустоте
Летит из ладони моей в ладонь,
Жестоко пробитую на кресте
Того, кого Бог говорит: «Не тронь».
И глухо будет гудеть толпа.
Я для нее из женских бород
И жил медвежьих уже сплела
Низкий и хмурый небесный свод…»
Младенец заплакал, открыл глаза
И рядом увидел в мареве звезд
Ярко распахнутые небеса
И к ним ведущий сияющий мост.
Тишина
Отсутствие новых причин, для того чтобы слышать,
Единый поток разделяет на капли шутя,
Смывая с пропитанной солнцем и ржавчиной крыши
Следы уходящего в этом потоке дождя.
Ведет к проявлению закономерных иллюзий
Присутствие слуха. И гулко стучит тишина,
Когда предлагает Создатель испуганной Музе
Снять крылья и молча стоять, замерев дотемна.
Она замирает, и с ней замирают мгновенно
Причины, потоки, растущие где-то сады,
Летящие алые яблоки с раненых веток
И к яблокам этим ведущие чьи-то следы.
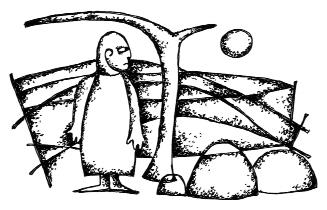
О камне и о любви
В путь провожая подросшего сына,
Матушка жалобно причитала
О горе своем. Вздыхая, просила
Помнить ее и советы давала:
«Сыночек родной, тебя отпустила,
Прошу невредимым домой вернуться.
И пусть бережет тебя моя сила,
Встречным желая тебе улыбнуться.
Когда под ногами увидишь камень,
Чтоб не споткнулись другие, с дороги,
Не поленись, убери его, – равен
Многому этот поступок для многих.
Если увидишь могильный камень —
Остановись и почти молчаньем
Умершего и не будешь оставлен,
Как он, когда-то живых вниманьем.
Если вдруг неожиданно встанет
Огромный камень, закрыв дорогу,
Ты обойди его, и не станет
Причины копить на душе тревогу.
Если же сердце твое как камень
Станет холодным и равнодушным,
Ты вспомни любовь мою, – этот пламень
Тебя изнутри озарит радушно.
И сделает сердце твое счастливым,
И никогда не будет в нем фальши…» —
Так матушка плакала о любимом
Ребенке. А он уходил все дальше.
У окна
Она стояла долго у окна,
Цепляясь взглядом за черту предметов,
У горизонта слившихся. Одна.
Но пустоты не чувствуя при этом.
Был день похож на предыдущий день:
Без суеты, без лишнего движенья.
Она стояла, и скользила тень
Ей под ноги, как чье-то откровенье.
А где-то в доме замерли весы,
Ворчал старик и нервничал ребенок,
Бежало время, тикали часы —
Их стрелка походила на осколок,
Застрявший в неподвижности. И взгляд
Летел за птицами, срезая небо
По краешку, и много раз подряд…
Она звала их, предлагая хлеба.
Но птицы улетали. У окна
Стояла, не меняя положенья,
Слепая женщина. Она одна
Из тех, кто видит мир без искаженья.
Инна Порядина
г. Москва

Окончила отделение русского языка и литературы Московского государственного педагогического университета имени М. А. Шолохова. Публикуется как детский писатель с 2016 года, работает в жанре короткого рассказа и детского фэнтези.
Из интервью с автором:
Не знаю, какие произведения люблю писать больше: миниатюры ли, каждое слово которых выверено и может нести в себе несколько смыслов, или длинные рассказы, объем которых позволяет развернуться, поэтому пишу и то и другое.
© Порядина И., 2018
Бенефис
Она вошла стремительно, распахнув стеклянную дверь, и с порога попросила самого лучшего.
«Платья, корсеты, вуали! Несите все!» – кричали ее тонкий стан, коричные глаза и губы в яркой акварели.
Я выложил пред нею наш товар: тончайшие лилейные кружева, белоснежные газовые лифы и невесомые сетчатые чулки, которые прелестны на точеной женской ножке.
Она хлопнула пушистыми ресницами, сверкнула ямочками на щеках, и я принес бордовые, синие и золотые шелковые корсеты с десятками холодных застежек; и сотни воздушных разноцветных юбок; и перчатки, которые для того лишь созданы, чтобы обнимать каждый женский пальчик да карабкаться все выше, выше, выше по гладкой юной коже к острому тугому локотку.
«Ах, я актриса, – призналась она мне, зардевшись, и хихикнула в кулачок, – и знаете ли, я помню свой первый бенефис! Я расскажу».
«Зачем вы к нам?» – в тот день спросила меня строгая дама в пожилом пенсне. «Да, она была знаменитой артисткой и сидела в приемной комиссии».
«Я люблю платья! – ответила ей я. – И чтобы крутиться, и стоять на сцене, и чтобы зрители, и свет, и аплодисменты! Ведь театр – это жизнь!»
Я завернул ей полдюжины носовых платков в хрустящую бумагу. Больше она ничего не взяла. Хотя нет. Уже на пороге, обернувшись, потребовала шляпку. «Непременно черный котелок», – качнула она острым подбородком.
«Постойте, – подивился я, – такая прелестница будет в мужском котелке?»
Она кивнула, и я продал наш самый лучший, но не ее размера.
А вечером, когда над крышами рыжих домов нахмурилось небо и уже собирался дождь, я вышел из лавки.
На бульваре, где стоит чудовищный мраморный фонтан и стройные фонари развесили свои зонтики, была толпа из цилиндров и вуалек. Десятки тонких и глухих голосов звучали нестройной мелодией, а в центре античной богиней царила она, моя утренняя покупательница.
Настоящая артистка, она крутилась в разноцветном платье и подавала руку тем, которые хотели сделать фото.
Я пробрался вперед, пребольно стукаясь о трости и локти, помахал ей перчаткой и тут приметил котелок, который продавал сегодня.
«Ваш бенефис?» – спросил я у нее.
«О, да, – ответила она и вытянула пальчик, – а это плата».
В черном котелке, что примостился у ее туфли, лежали монеты: горка сырых медяков.
Я бросил рубль.
Деды
У последних подавали горячее: куриную ножку в жирной сметане с ядреным чесноком, кусок свежеиспеченной булки. Мялся, не брал, оттягивал душную кудлатую бороду. «Уж лучше б горячительного», – думал и ждал рюмочки.
Не поднесли.
Дома уже раздевался. Долго, мучительно стягивал пунцовые штаны на резинке. Кафтан, торопясь, нелепо вывернул наизнанку, так что рукава стыдливо затопорщились в стороны. Морщась, вынимал из-за щеки и вытягивал из ресниц белые пластиковые волосы. Распинал валенки и швырнул у порога опавший, разродившийся подарками для других, счастливых, грязный мешок.
Дымил сигаретой у форточки и неожиданно вспомнил какой-то далекий, наполненный детской, щенячьей радостью грядущий Новый год: сквозь замороженные сени в глухой темноте крадется отец – одной рукой трогает воздух, другой прижимает к груди хрустящий бумажный сверток. И надо бы не дышать и попытаться уснуть, ведь хочется, до невозможного хочется верить в деда, который делает это сам и лезет с подарками сквозь печную трубу или в окошко…
А к шести утра уходящей жизни, когда за шторами всполохнул новый рассвет, дряхлым, уставшим дедом растянулся в холодной постели.
Сквозь форточку, цепляясь широким алым рукавом с белым пушистым обшлагом, в комнату проникла длинная тощая рука, нащупала подоконник и оставила сверток. Старый, хрустящий, потертый, в котором радость щенячьего детства и грядущего Нового года.
Барби
Нам с сестрой лет по двенадцать было. Мы приехали в деревню на летние каникулы, привезли с собой кучу девчачьего счастья в виде кукол и их одежек, целыми днями рисовали и изредка выбирались в местную библиотеку за книгами. Бабуля ругалась, кричала, что мы устроили из дома избу-читальню, и выгоняла нас на улицу.
– Сидите тухнете, а вот некоторые хотели бы выйти на двор, да не могут, – как-то раз сказала она в сердцах. – Идем.
Мы вышли на улицу в первый раз за несколько дней и поднялись по ступенькам дома напротив. В избе было темно и тихо, пахло травами и сырыми грибами.
– Кто там? – услышали мы слабый голос, и бабушка первой вошла в комнату. Мы – за ней. Левее от двери в глухом темном углу светились огромные, как плошки, глаза.
– Света? – удивилась бабушка. – А мама где?
Мы привыкли к темноте и стали различать очертания той, чей голос слышали еще из сеней: перед нами была гора одеял и подушек, в которых тонула большая круглая голова с торчащими по обе стороны пучками волос.
– Какие красивые! – сказала голова, и мы с сестрой одновременно покраснели. – Как Барби.
– Ты видела Барби? – спросила бабушка. – У девочек она есть. Они тебе принесут, правда? – она так посмотрела на нас, что мы закивали и вытолкали друг друга на улицу.
Свет ударил в глаза, стало невыносимо больно, и мы зажмурились. Сестра замерла на ступенях и прошептала «чудовище», я кивнула.
– Одна нога здесь, другая там! – услышали мы бабушку и рванули к дому за куклой, которую в здравом уме ни за что на свете никогда и никому не дали бы в руки.
Света улыбнулась, когда мы вернулись, и попросила бабушку отдернуть шторы. Шумно и пыльно звякнули кольца, солнце ворвалось в комнату, и мы наконец увидели того, кому только что передали в руки девчачье сокровище.
У Светы были очень добрые глаза, русые жидкие волосы и тонкие белые губы. Пальцы на руках странно переплетались и пытались удержать прекрасную длинноногую блондинку в коротеньком ярко-розовом платье.
– Сказочная… – прошептала Света, проводя по волосам Барби ладонью. – Как вы…
– Опять?! – ворвалась в комнату пьяная женщина. – Душу себе травишь? Да сколько можно?!
Она вырвала Барби из Светиных рук, пихнула ее сестре и вытолкала нас за порог.
– И чтобы я вас тут больше не видела! – услышали мы за спинами. – Изверги!
Сестра заревела, бросила на землю куклу и побежала к калитке. Я остановилась под окном, дожидаясь бабушки, и пнула ботинком головку одуванчика.
– Она не ходит, – сказала бабушка со ступенек. – Иди сюда. И куклу подними.
Мы вернулись в дом, пьяница исчезла, а в комнате Светы опять было темно. Пыльные шторы закрыли день и мир, который она никогда целиком и не видела.
– Прости ее, – сказала Света. – Тяжело ей со мной, вот и мается. А Барби я и не держала в руках никогда. Слышала только. Говорили, что красивая очень, ноги длинные и волосы. А для меня все люди красивые, в их глазах душа светится. У меня ж самой только глаза и есть.
Я протянула ей Барби и попятилась к выходу. Свет больно ударил по глазам, я села на землю у одуванчика, который только что раздавила, и заплакала.
Незнакомство
Жаркое полуденное солнце поднималось над светящейся полоской горизонта. Волосы той, которая увлекала все мое существование, непослушными пшеничными кудряшками рассыпались по загорелым плечам. Я смотрел на них и не мог налюбоваться – каждый выгоревший завиток виделся мне днем наших встреч: многообещающее утро, берущее начало у ямочки на шее, и вечер, спускающийся к закату по темным горошинам позвоночника одиноким тонким волоском.
Словно почувствовав, что я ее разглядываю, она подняла голову и улыбнулась. Веснушки, радостно рассыпавшиеся за лето по всему лицу, мелкими солнечными лучиками побежали от кончика носа к ушам, затерялись, запутались, закружились в ямочках на щеках и брызнули к острому девичьему подбородку.
– Ты мне напишешь? – спросил я ее.
– Не знаю, – ответила она и поднялась с колен. Мелкие песчаные кристаллики обвивали хрупкие щиколотки и змейками поднимались по ногам к неровному краю белой хлопковой юбки.
– Хотя бы позвони, – умолял я ее. – Как я без тебя теперь?
– Будут другие, – подмигнула она. – Лето бывает таким непредсказуемым. Сам говорил.
– Тогда я не знал тебя… – обнял я корзинку со звонкими разноцветными формочками.
– Мы такие разные, – ухмыльнулась она и поспешно скрутила пляжное полотенце, – ни к чему все это.
– Уверена? – я взял ее за локоть.
Она нелепо вырвала у меня из рук корзину, сунула в нее резиновые шлепанцы, окинула взглядом опустевший пляж и, поднимая босыми пятками песчаную пыль, быстро-быстро побежала к припаркованному автомобилю.
– Девушка! – подскочил я вслед за незнакомкой. – Вы забыли косынку!
– Ну ее, – крикнула она издали, – возвращаться – плохая примета.
– Познакомимся? Неделю бок о бок загорали!
– Не стоит, – рассмеялась она, – молчите и дальше.
Обжигающее полуденное солнце ярким воздушным шариком парило над тонкой полоской горизонта. «Ты мне напишешь?» – спросил я ее острые лопатки. «Да», – не ответила она и надавила на педаль газа.
Александр Баргман
Финляндия, г. Хельсинки

1958 год. Ленинград. Образование – Специальная музыкальная школа при Ленинградской консерватории и Ленинградская консерватория. Скрипач.
Из интервью с автором:
Выбирая между прозой и поэзией, предпочту музыку. Или ту прозу и поэзию, где она, музыка, присутствует. В ней нет слов, поэтому нет лжи. Хотя некоторым удается лгать и в музыке. С другой стороны, кто сказал, что это плохо? Вот такой я противоречивый.
© Баргман А., 2018
«Что было раз, то будет снова…»
Что было раз, то будет снова
Когда-нибудь.
У стрелки нет пути иного,
Как снова в путь
По циферблату час за часом,
За кругом круг,
Ни «по», ни «против», безучастно
Железный плуг
Вонзая в белые просторы
Пустых времен.
Там урожай созреет скоро
Дат и имен,
Все повторится неизбежно,
Пусть не теперь,
И блудный сын уйдет с надеждой
Все в ту же дверь,
И будет по́ миру скитаться,
Спать со скотом
И тщетно вечером стучаться
В богатый дом,
И притчи Нового Завета
Не так поймет,
И будет в них искать ответа,
И не найдет,
И не простит менялу в храме,
И будет сам
Смотреть прозрачными глазами,
Как рушат храм,
И оказавшись на вершине,
Один, как перст,
Не разглядит внизу в долине
Родимых мест:
Деревни, города, селенья
И отчий дом
Объяты пламенем забвенья,
Горят огнем,
Все, что казалось постоянным
И навсегда,
Исчезло в плазменном сиянье…
И он тогда
Забудет тот закон, который
Про все и вся,
И удивится, что так скоро
Огонь иссяк,
И не услышит, но учует
Далекий звон,
Поймет, что пустота врачует,
Увидит он,
Что завершается закатом
И Судный день,
Что на стальные зиккураты
Упала тень,
Вернулись птицы, рыбы, звери,
И ветер чист,
Достанет из котомки перья
И белый лист,
Заметит неба ромбик синий
Сквозь облака,
И зваться будет он отныне
И впредь – Лука,
И ощутит любовь и силу,
И Божий дар,
Поймет, что время возвратилось
И что пожар,
Спаливший Мир, подобно Трое,
Внезапно стих
И что Пришествие Второе
Сложилось в стих.
«Чем дольше я живу на свете…»
Чем дольше я живу на свете,
Тем меньше верю в чудеса.
На нашей суетной планете
Полжизни – это полчаса.
Заранье путь нам уготован,
Чьего-то замысла рабам,
Не зря придумал ван Бетховен:
«Пабабабам, пабабабам»…
Ничто не ново в этом мире,
Ничто не вечно под луной,
Никто нигде не мыслил шире,
Чем Заратустра или Ной.
Все непременно повторится
Рефреном страшным и простым.
И снова в дверь судьба стучится:
«Тыдыдыдым, тыдыдыдым»…
И небо кажется с овчинку,
И всякий вздор идет на ум,
Но все-таки поставь пластинку —
«Тудудудум, тудудудум»…
И снова жизнь полна цветенья,
Весны, любви, прекрасных дам,
И божества, и вдохновенья,
«Тадададам, тадададам»…


