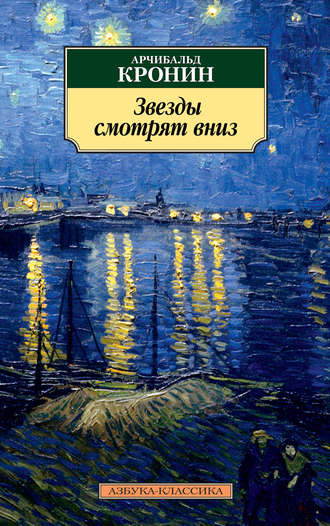
Арчибальд Кронин
Звезды смотрят вниз
IV
Вернувшись домой к пяти часам, Ричард Баррас застал ожидавших его Армстронга и Гудспета. Когда он вошел в дом, слегка хмурясь, неторопливый, холодный и решительный, внося с собой дух присущей ему суровой энергии, он застал их обоих в передней: они сидели рядышком на стульях, в молчании уставившись на пол. Это тетя Кэрри, в волнении и нерешительности, усадила их здесь. Джорджа Армстронга, как смотрителя шахты «Нептун», можно было бы, конечно, пустить в курительную комнату. Но Гудспет только помощник смотрителя, он раньше был простым штейгером, а до того – десятником по безопасности, к тому же он пришел прямо из шахты, в грязных сапогах, мокрых коротких штанах, в кожаной кепке и с палкой. Немыслимо было пустить его в комнату Ричарда, где он непременно наследит. Словом, тетя Кэрри была в тяжелом затруднении. Приняв наконец компромиссное решение, она оставила обоих в вестибюле.
Увидев этих двух людей, Ричард ничуть не изменил выражения лица. Их приход не был для него неожиданным. Все же сквозь холодную, непоколебимую важность на миг пробилось что-то неуловимое, слабый огонек мелькнул в глазах и тотчас потух. Армстронг и Гудспет встали. Короткое молчание.
– Ну что? – спросил Ричард.
Армстронг взволнованно закивал головой:
– Кончилось, слава богу!
Ричард выслушал это сообщение и глазом не моргнув; ему, казалось, была крайне неприятна легкая дрожь в голосе Армстронга. Он стоял чопорный, замкнутый, безучастный, но наконец шевельнулся, сделал приглашающий жест и повел посетителей в столовую. Здесь он подошел к буфету, огромному дубовому голландскому сооружению во вкусе барокко, на котором были вырезаны головки смеющихся детей, налил два стаканчика виски, а себе, позвонив, приказал подать чаю. Энн тотчас принесла чашку чая на подносе.
Все трое пили стоя. Гудспет одним привычным глотком выпил свое виски неразбавленным, Армстронг смешал его с большой порцией содовой и пил торопливыми, нервными глотками. Джордж Армстронг был человек в высшей степени нервный – постоянно волновался, огорчался из-за пустяков, легко выходил из себя и ругал рабочих. Он был чрезвычайно работоспособен только благодаря постоянному нервному напряжению, с которым работал. Этот человек среднего роста, с облысевшей уже макушкой, с изможденным лицом и мешками под глазами, обладал прекрасным баритоном и нередко пел на масонских концертах. Несмотря на свою вспыльчивость, он был очень популярен в городе. Армстронг был женат, имел пятерых детей и втайне ужасно боялся потерять службу. Как бы извиняясь за нервное дрожание рук, он заискивающе, отрывисто засмеялся:
– Видит бог, мистер Баррас, я очень рад, что кончилась эта дурацкая история… Трудно приходилось нам все это время. Я предпочел бы работать по две смены круглый год, чем снова пережить такие три месяца.
Баррас, не слушая его, спросил:
– Как все это вышло?
– Они устроили собрание в клубе. Выступил Фенвик, но его не хотели слушать. За ним – Гоулен… знаете, Чарли Гоулен, контрольный весовщик. Он встал и сказал, что ничего другого не остается, как выйти на работу. Потом Геддон напустился на них. Он специально приехал из Тайнкасла. Да, он с ними не церемонился, мистер Баррас, можете мне поверить. Объявил, что они не имели права выступать без согласия Союза, что Союз умывает руки во всем этом деле, назвал их кучей отпетых дураков (то есть он употребил другое слово, но его я в вашем присутствии повторить не смею, мистер Баррас) за то, что они все это затеяли на свой страх и риск. Потом голосовали. Восемьсот с лишним голосов за то, чтобы приступить к работе. Семь – против.
Наступила пауза.
– Ну, что же дальше? – спросил Баррас.
– Потом они пришли к конторе целой толпой – Геддон, Гоулен, Огль, Хау, Диннинг, и вид у них был довольно-таки приниженный. Спрашивали вас. А я им передал то, что вы сказали: что вы не пустите к себе на глаза никого из них, пока они не начнут работать. Тут Гоулен произнес речь… он неплохой малый, хоть и пьяница. «Мы, – говорит, – побеждены и признаём это». Потом выступил Геддон с обычной профсоюзной трескотней. Развел турусы на колесах, будто они через Гарри Нэджента поднимут вопрос в парламенте. Но это говорилось так, для отвода глаз. Одним словом, они совсем присмирели и спрашивают, можно ли выйти на работу завтра в первую смену. Я сказал, что мы поговорим с вами, сэр, и дадим им ответ в шесть часов.
Ричард допил чай.
– Значит, они хотят вернуться на работу. Так, так… – Казалось, Баррас находил создавшееся положение любопытным и хладнокровно его обдумывал.
Три месяца тому назад Баррас заключил с Парсоном договор на поставку коксующегося угля. Такие договоры – золотое дно, их трудно бывает добиться. С договором в кармане Баррас начал подготовительную разработку в районе Скаппер-Флетс шахты «Парадиз» и выемку коксующегося угля особого сорта из единственного места в «Нептуне», где этот уголь еще имелся.
Но тут рабочие забастовали, не считаясь ни с ним, ни с Союзом. Договора больше не существовало, он был брошен в огонь. Баррасу пришлось расторгнуть сделку. Он на этом потерял двадцать тысяч фунтов.
Застывшая на губах Ричарда слабая усмешка словно говорила: «Любопытно, клянусь богом!»
Армстронг спросил:
– Так вывесить объявление, мистер Баррас?
Ричард, сжав губы, с неожиданным неудовольствием глянул на услужливого Армстронга.
– Да, – сказал он сухо. – Пускай завтра приступают к работе.
Армстронг с облегчением вздохнул и сделал инстинктивное движение в сторону двери. Но Гудспет, неразвитому уму которого было доступно лишь очевидное, не трогался с места и мял шапку в руках.
– А с Фенвиком как же быть? – спросил он. – И ему приступать к работе?
– Это его дело.
– И потом, как насчет второго насоса? – не унимался Гудспет. Это был рослый, флегматичный мужчина с отвислой нижней губой и сонным лицом землистого цвета.
Ричард сделал нетерпеливый жест:
– Какой еще второй насос?
– А верхний, с напорной трубой, о котором вы говорили три месяца назад, когда ребята забастовали. Он выкачал бы много воды из Скаппер-Флетс… то есть выкачал бы ее скорее, и внизу, там, где работают, было бы меньше слякоти.
– Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я буду продолжать выработку в Скаппер-Флетс. С коксовым углем придется подождать другого договора.
– Ваша воля, сэр. – Землистое лицо Гудспета густо покраснело.
– Ну, кажется, все! – Голос Барраса звучал уже, как всегда, спокойно и внушительно. – Можете передать, что я рад за рабочих, которые вернутся на работу. Все эти никому не нужные лишения – возмутительное безобразие.
– Обязательно передам, мистер Баррас, – с готовностью отозвался Армстронг.
Баррас молчал. Говорить было больше не о чем, и Армстронг и Гудспет вышли.
Некоторое время Баррас, размышляя, стоял на том же месте, спиной к камину, потом запер виски в буфет, подобрал упавшие на поднос два кусочка сахару и аккуратно уложил их обратно в сахарницу. Он страдал при виде какого-нибудь беспорядка, при одной только мысли, что напрасно пропадет кусок сахару. В его доме ничего не должно пропадать даром, он этого не потерпит. Эта черта Барраса сказывалась больше всего в мелочах: он не тратил лишней спички, карандаш исписывал до последнего дюйма, свет в доме полагалось выключать в строго определенное время, из обмылков прессовались новые бруски мыла, горячую воду экономили и даже топили очень скупо, угольным мусором. При звоне разбившейся чашки или блюдца кровь бросалась Баррасу в голову. Главной заслугой тети Кэрри, по его мнению, была строгая бережливость, с какой она вела хозяйство.
Он стоял не двигаясь, разглядывая свои белые холеные руки. Потом вышел из комнаты, медленно поднялся наверх, не заметив Артура, чье обращенное к нему робкое лицо белело, как луна, в полутьме передней, и вошел в комнату жены:
– Гарриэт!
– Здравствуй, Ричард.
Она вязала, сидя в постели, с тремя подушками за спиной и одной у ног. Ей укладывали за спину три подушки, потому что кто-то сказал, что три подушки – самое удобное. А вязать ей предписал для успокоения нервов молодой доктор Льюис, ее новый врач. Когда вошел муж, Гарриэт перестала вязать и подняла глаза. У нее были густые черные брови, а под глазами коричневые тени – типичный признак неврастении.
Гарриэт улыбнулась, словно прося извинения, и дотронулась до своих распущенных лоснящихся волос, обрамлявших бледное лицо:
– Ты извинишь, Ричард? У меня опять был приступ жестокой головной боли. Пришлось Кэролайн расчесывать мне щеткой волосы.
Она снова улыбнулась привычной улыбкой страдалицы, меланхолической улыбкой тяжело больного человека. У нее болела поясница, у нее был больной желудок, больные нервы. Временами у нее бывали отчаянные головные боли, от которых не помогал и туалетный уксус, не помогало ничего, кроме осторожного растирания головы, – это лежало на обязанности Кэролайн. Тетя Кэрри выстаивала на ногах битый час, тихонько, медленно водя щеткой по волосам Гарриэт. Никто не мог доискаться подлинной причины страданий Гарриэт. Никто. Она измучила всех докторов в Слискейле – Скотта, Ридделя и Проктора; она побывала у многих специалистов в Тайнкасле; в отчаянии обращалась к лечившим травами, к гомеопату, к специалисту по физиотерапии, который обертывал ее какими-то чудодейственными электрическими бинтами. Каждый шарлатан вначале казался ей спасителем. «Наконец-то настоящий врач!» – объявляла она. Но все они, как и Риддель, Скотт, Проктор и специалисты Тайнкасла, оказывались в конце концов невеждами. Впрочем, Гарриэт не унывала. Она сама изучала свои болезни, читала терпеливо, упорно и систематически множество книг, трактующих о тех недугах, которые она у себя находила. Увы, все было напрасно. Ничто, ничто не помогало. И не потому, что Гарриэт не принимала лекарств, – она принимала все лекарства, какие только существуют; ее спальня была уставлена аптечными склянками и банками, дюжинами бутылок с лекарствами – укрепляющими, болеутоляющими, слабительными, успокаивающими спазмы, разными мазями, – всем, что ей прописывалось докторами за последние пять лет. О Гарриэт можно было смело сказать, что она никогда не выбросила ни одного лекарства. Из некоторых бутылочек она приняла лекарство только по одному разу, – Гарриэт была настолько опытна, что уже после первой ложки какого-нибудь снадобья говорила иногда: «Уберите это. Я знаю, что оно мне не поможет». И бутылка отправлялась на полку.
Это было ужасно. Но Гарриэт отличалась терпением. Она уже давно не вставала с постели, тем не менее аппетит сохранила прекрасный. По временам она кушала прямо-таки великолепно, – и это тоже вызывало недомогания: с желудком, видно, было неблагополучно, ее так мучили газы! Но, несмотря на все это, Гарриэт была кротка; никогда никто не слышал, чтобы она спорила из-за чего-нибудь с мужем, она всегда оставалась покорной и доброй женой. Она никогда не уклонялась от интимных обязанностей жены, она всегда была к услугам своего супруга – в постели. У нее было пышное белое тело и мина святой. Что-то в ней странным образом напоминало корову. Она была очень благочестива, – может быть, это была священная корова.
Баррас смотрел на нее словно издалека. Как он, собственно, относился к ней? Его взгляд ничего не выдавал.
– А теперь голова болит меньше?
– Да, Ричард, немножко меньше. Боль не совсем прошла, но стало лучше. После того как Кэролайн расчесала мне волосы, я приняла ту микстуру с валерьянкой, что прописал доктор Льюис. Я думаю, это от нее мне стало легче.
– Хотел привезти тебе из Тайнкасла винограду, да забыл.
– Спасибо, Ричард. – (Просто удивительно, как часто Ричард забывал о винограде. Но доброе намерение уже само по себе что-нибудь да значит.) – Ты, конечно, побывал у Тоддов?
Что-то жесткое едва заметно мелькнуло в лице Ричарда. Жаль, что Артур, все еще занятый решением загадки, не мог видеть это выражение.
– Да, я был у них. Там все здоровы. Гетти еще похорошела и всецело занята предстоящим днем рождения: ей на будущей неделе минет тринадцать. – Он замолчал и направился к двери. – Да, знаешь, забастовка прекращена. Рабочие завтра приступают к работе.
Маленький рот Гарриэт округлился в виде буквы «О». Она, словно обороняясь, прижала руку к груди, прикрытой фланелью.
– О Ричард, как я рада! Отчего же ты мне сразу не сказал? Это чудесно. Какое облегчение!
Уже приоткрывая дверь, Ричард остановился.
– Я, вероятно, приду к тебе ночью, – сказал он и вышел.
– Хорошо, Ричард.
Гарриэт легла на спину, с лица ее еще не сошло выражение радостного удивления. Она достала листок бумаги и серебряный карандаш, украшенный на конце топазом, записала аккуратным почерком: «Не забыть сказать д-ру Льюису, что сердце сильно забилось, когда Ричард сообщил приятную новость» – и после некоторого размышления подчеркнула слово «сильно»; потом взяла вязанье и мирно принялась вязать.
V
Было уже совсем темно, когда Армстронг и Гудспет вышли из больших белых ворот усадьбы в аллею высоких буков – местные жители называли ее Слус-Дин, и дальше аллея переходила в Хедли-роуд, дорогу к городу. Некоторое время они шли молча и врозь, так как не слишком любили друг друга, но потом Гудспет, уязвленный резкостью, с которой хозяин его осадил, злобно пробормотал:
– Он умеет человека с грязью смешать! Ну и каменная же душа, дьявол его возьми! Не пойму я его. Никак не пойму.
Армстронг усмехнулся в темноте. Он тайно презирал Гудспета, как человека без всякого образования, человека, который пробил себе дорогу скорее упорством, чем подлинными заслугами. Гудспет часто раздражал, даже оскорблял Армстронга своей грубой прямотой и физическим превосходством, – и Армстронгу приятно было видеть его сейчас униженным.
– Что ты хочешь этим сказать? – переспросил он Гудспета, притворившись непонимающим.
– Да то, что слышишь, черт возьми! – сердито отрезал Гудспет.
– Он знает, что делает.
– Еще бы! Свою выгоду понимает. А мы – свою. Да ведь от этакого пощады не жди. А слышал ты, как он сказал? – Гудспет с горечью передразнил Барраса: – «Все эти напрасные, никому не нужные лишения». Комедия, да и только!
– Нет, нет, – торопливо возразил Армстронг. – Это он искренне так думает.
– Да, как же, искренне, будь он проклят! Скареднее его нет человека в Слискейле. Он теперь так и кипит злобой, что упустил договор. И вот что я тебе скажу, раз уж к слову пришлось: я очень рад, что с разработкой Скаппер-Флетс дело не выгорело. Я хоть и держал язык за зубами, а в душе согласен с Фенвиком насчет этой проклятой воды.
Армстронг метнул на Гудспета быстрый неодобрительный взгляд:
– Не дело так говорить, Гудспет.
Наступила короткая пауза. Потом Гудспет, насупившись, возразил:
– Во всяком случае, Скаппер-Флетс – ужасное место.
Армстронг ничего не ответил. Они молча шагали по Хедли-роуд, затем по Каупен-стрит, мимо Террас. Когда они завернули за угол, яркий свет и гул голосов из трактира «Привет» заставили обоих обернуться. Армстронг, явно желая переменить тему, заметил:
– Сегодня трактир полон.
– Битком набит, – подтвердил Гудспет с прежней угрюмостью. – Эмур опять начал отпускать в долг. Сегодня впервые за две недели вытащил свою грифельную доску.
Не говоря больше ни слова, оба отправились вывешивать объявления.
VI
В трактире «Привет» становилось все шумнее. Помещение было полно народу, набито до того, что голова шла кругом от табачного дыма, криков, яркого света и пивных испарений. Берт Эмур, без пиджака, стоял за стойкой, за ним на стене висела большая грифельная доска, на которой он мелом записывал, сколько выпито посетителями в долг. Берт был не дурак: последние две недели он, несмотря на мольбы и проклятия, всем отказывал в кредите. А сегодня, когда субботняя получка стала чем-то близким и вполне реальным, сразу же переменил тактику: трактир был открыт и кредит посетителям тоже.
– Налей-ка нам еще, Берт, дружище!
Чарли Гоулен с силой стукнул кружкой о прилавок и потребовал новую круговую. Чарли не был пьян, он никогда не пьянел по-настоящему, – впитывая вино, как губка, он обливался потом, лицо у него бледнело, принимая цвет сырой телятины, но вдрызг пьяным его никогда никто не видел. Кое-кто из толпившихся вокруг него были уже сильно навеселе, а больше всех – Толли Браун, старый Риди и Боксер Лиминг. Боксер был безобразно пьян. Этот неотесанный, грубый малый с красной, словно расплющенной физиономией, плоским носом и одним ухом иссиня-белым, как цветная капуста, в юности действительно был боксером и выступал в Сент-Джеймс-холле под эффектной кличкой «Чудо-мальчик из шахты». Но водка и разные другие вещи погубили его. Теперь он снова работал в шахте, не был больше ни мальчиком, ни чудом. От тех золотых дней остались лишь буйный, хоть и добродушный нрав, легкая хромота и сильно изуродованное лицо.
Чарли Гоулен, неизменный председатель на всех выпивках в трактире, снова постучал кружкой о стол. Ему не нравилось, что здесь сегодня не чувствуется беззаботного веселья, и хотелось восстановить былой уют и дружескую атмосферу вечеров в «Привете». Он сказал:
– Со многим нам приходилось мириться за последние три месяца. А все же, ребята, унывать не будем. Ничего не стоит та душа, которая не способна никогда разгуляться!
Его свиные глазки так и бегали вокруг, он ожидал обычного шумного одобрения. Но на всех лицах читалась лишь угрюмая усталость. Вместо одобрения Чарли встретил взгляд Роберта Фенвика, устремленный на него с саркастическим выражением. Роберт стоял на своем обычном месте, в самом конце прилавка, и спокойно пил с таким видом, словно ничто его здесь не интересовало.
Гоулен поднял кружку:
– Выпьем, Роберт, дружище! Тебе следует сегодня хорошенько промочить нутро. Ведь завтра ты порядком промокнешь снаружи.
Роберт со странной сосредоточенностью вглядывался в лицо Гоулена, точно налитое пивом.
– Все мы рано или поздно очутимся под водой, – сказал он.
В толпе раздались крики:
– Заткни глотку, Роберт!
– Помалкивай, парень! Довольно поговорил на собрании!
– Уж мы наслушались об этом за последние три месяца!
Тень печали и усталости легла на лицо Роберта. Он отвечал на все лишь огорченным взглядом:
– Ладно, товарищи. Делайте, как знаете. Больше ничего говорить не стану.
Гоулен хитро осклабился:
– Если ты боишься спуститься в «Парадиз», ты бы так прямо и говорил.
– Заткни пасть, Гоулен, – вступился Лиминг. – Мелешь языком, как баба! Роберт со мной в одной бригаде. Он отличный забойщик и работает на совесть. Он знает проклятую шахту лучше, чем ты – собственное брюхо.
Внезапно наступила тишина, все затаили дыхание, ожидая, не начнется ли драка. Но Чарли никогда в драки не вступал. Он пьяно ухмылялся. Напряжение зрителей сменилось разочарованием.
В этот момент дверь с улицы распахнулась. Вошел Уилл Кинч и как-то нерешительно стал проталкиваться к прилавку:
– Дай в долг кружку пива, Берт, ради бога! Хотя бы одну, иначе не выдержу…
Внимание толпы снова пробудилось и сосредоточилось на Уилле.
– Что такое? Что за беда с тобой приключилась, Уилл?
Уилл откинул жидкие волосы со лба, взял с прилавка кружку пива и повел вокруг блуждающим взглядом.
– Бед целая куча, ребята. – Он плюнул так, словно у него был полон рот грязи, затем стремительно заговорил: – С Элис моей плохо, ребята, – воспаление легких. Жена хотела сварить для нее мясной бульон. Прихожу я к Ремеджу четверть часа тому назад. Ремедж сам стоит за прилавком – брюхо жирное выставил и стоит. «Мистер Ремедж, – говорю я самым вежливым образом, – не отпустите ли мне каких-нибудь обрезков для моей девочки, она очень больна. А деньги я отдам в субботнюю получку, обязательно отдам». – Тут губы Уилла побелели, он весь затрясся, но стиснул зубы и, сделав над собой усилие, продолжал: – И что же вы думаете, ребята? Он смерил меня глазами с головы до ног и с ног до головы! «Никаких обрезков я тебе не дам», – говорит он этими самыми словами. «Уж будьте так добры, мистер Ремедж, – говорю, а у самого сердце упало. – Уделите нам какой-нибудь кусочек. Забастовка кончилась, через две недели обязательно будет получка, и я вам заплачу, как бог свят…» – Тут Уилл остановился, чтобы перевести дух. – Он ничего не ответил и опять так же на меня посмотрел… Потом говорит, словно перед ним собака, а не человек: «Ничего я тебе не дам, ни косточки. Вы – позор для города, ты и тебе подобные. Бросаете работу из-за ерунды, а потом приходите попрошайничать у порядочных людей. Убирайся вон из моей лавки, пока я тебя не вышвырнул отсюда…» И я ушел, ребята…
Рассказ Уилла был выслушан в полном молчании. Первым встрепенулся Боб Огль.
– Клянусь богом, это уж слишком! – простонал он.
Тут вскочил пьяный Боксер и крикнул:
– Да, слишком! Мы этого так не оставим!
Все заговорили разом, поднялся шум. Боксер уже прокладывал себе дорогу в толпе:
– Не стерплю я этого, товарищи! Сам пойду к этому ублюдку Ремеджу. Пойдем, Уилл! Ты получишь для девчонки самый лучший кусок, а не какие-то паршивые обрезки! – Он дружески ухватил Кинча за руку и потащил его к двери. Толпа сомкнулась вокруг обоих, выражая одобрение, и хлынула вслед за ними на улицу.
Трактир вмиг опустел. Это было просто чудо – никогда он не пустел так быстро и при возгласе хозяина: «Джентльмены, закрываем!» Минуту назад комната была битком набита – сейчас в ней оставался один только Роберт. Он стоял и смотрел на ошеломленного Эмура все с тем же мрачным, разочарованным видом… Выпил еще кружку. Наконец ушел и он.
На улице к толпе присоединилась большая группа молодежи, уличные мальчишки, зеваки. Не зная, что тут происходит, они чуяли злое возбуждение толпы. Раз Боксер несется вперед с воинственным видом, значит будет драка. И все устремились на Каупен-стрит. Юный Джо Гоулен затесался в самую гущу толпы.
Завернули за угол и очутились на Лам-стрит, но здесь, у лавки Ремеджа, их ожидало разочарование. Большая лавка была уже заперта и, пустая, неосвещенная, являла взорам лишь холод опущенных железных штор и вывеску на фасаде: «Джеймс Ремедж. Мясная». Даже окна нельзя было разбить!
– Заперто! – раздался рев Боксера. Водка бушевала в его крови. Он не отступит, нет! Ни за что! Найдутся другие лавки тут же, рядом с Ремеджем, и без железных штор, – например, лавка Бэйтса или Мэрчисона, бакалейщика, где дверь была просто заперта на засов с висячим замком. Боксер заорал снова: – Ничего, ребята, не сдадимся, – вместо Ремеджа примемся за Мэрчисона!
Разбежавшись, он поднял ногу и тяжелым сапогом изо всей силы ударил по замку. В эту минуту кто-то из напиравшей сзади толпы швырнул кирпичом в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Это решило все: звон разбитого стекла послужил как бы сигналом к разгрому лавки.
Толпа налегла на дверь, вышибла ее, ворвалась в лавку. Многие были пьяны, и все они уже несколько месяцев не видели настоящей еды. Толли Браун схватил окорок и сунул его под мышку. Старик Риди завладел несколькими жестянками компота. Боксер, совершенно забыв о больной дочке Уилла Кинча, возбуждавшей в нем только что пьяную слезливую жалость, выбил втулку у бочонка с пивом. Несколько женщин из гавани, привлеченные шумом, вслед за мужчинами протиснулись внутрь и начали панически хватать все: пикули, желе, мыло, – все, что попадалось под руку; они были слишком боязливы, чтобы выбирать, и попросту хватали и хватали, с лихорадочной поспешностью пряча все под свои шали. Уличный фонарь снаружи освещал эту картину холодным, резким светом.
О кассе вспомнил Джо Гоулен. Съестное его не интересовало – он, как и его папаша, был сыт до отвала, – а вот выручка могла пригодиться.
Встав на четвереньки, он, как ящерица, проскользнул среди ног толпившихся в лавке людей, заполз за конторку и отыскал денежный ящик. Не заперт! Злорадно посмеиваясь над беспечностью старого Мэрчисона, Джо сунул руку в кассу, загреб полную горсть серебра и преспокойно высыпал его к себе в карман. Затем, поднявшись, шмыгнул в дверь и пустился наутек.
В ту минуту, когда Джо выбегал из лавки, туда вошел Роберт, вернее – стал на пороге. Выражение тревоги на его лице медленно уступало место ужасу.
– Что вы делаете, товарищи?! – В голосе его звучала мольба: этот бунт, направленный по ложному пути, больно поразил его. – Ведь вы попадете в беду!
На него не обратили ни малейшего внимания. Он повысил голос:
– Говорю вам, прекратите это! Неужели вы не понимаете, дураки вы этакие, что хуже ничего нельзя было придумать?! После этого нам уже никто не будет сочувствовать. Уходите!
Но его никто не слушал.
Судорога исказила лицо Роберта. Он двинулся было на толпу, но в этот миг шум за спиной заставил его обернуться, так что свет фонаря упал на его лицо. Полиция! Роддэм из Гаванского участка и новый сержант со станции.
– Фенвик! – громко воскликнул Роддэм, сразу узнав Роберта, и схватил его за плечо.
На этот крик внутри лавки ответили еще более громкими криками:
– Полиция! Бегите, ребята, полиция!
И живая лавина неразличимо смешавшихся тел хлынула из лавки. Роддэм и сержант не пытались ее задержать. Они стояли в какой-то растерянности и дали всем уйти. Затем, все еще держа Роберта за плечо, Роддэм вошел в лавку.
– А вот и еще один, сержант! – крикнул он вдруг с торжеством.
Среди разграбленной, опустевшей лавки, беспомощно покачиваясь, сидел верхом на пивном бочонке Боксер Лиминг и, плавая в блаженстве, одним пальцем затыкал отверстие. Он был слеп и глух ко всему, что происходило вокруг.
Сержант оглядел Боксера, потом лавку, потом Роберта.
– Здесь нешуточное дело, – сказал он сурово, официальным тоном. – Вы – Фенвик? Тот самый, зачинщик забастовки?
Роберт твердо выдержал его взгляд. Он возразил:
– Я ничего не сделал.
– Да, конечно! Ничего не сделали!
Роберт открыл было рот, хотел объяснить, но в ту же минуту почувствовал, как безнадежна эта попытка. Он ничего не ответил сержанту, покорился. И его вместе с Боксером отвели в участок.







