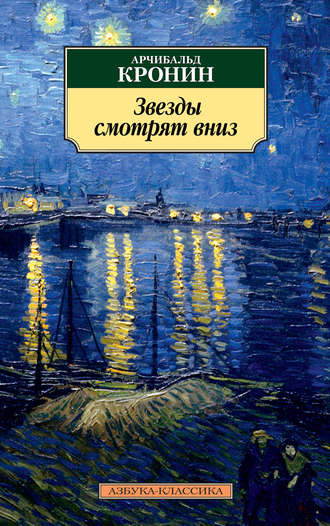
Арчибальд Кронин
Звезды смотрят вниз
Основанная за пятьдесят лет перед тем группой богатых купцов-диссидентов, Сент-Бидская школа за короткое время своего существования успела приобрести все традиции закрытых учебных заведений. Здесь так же на старших учениках лежала обязанность поддерживать дисциплину, а младшие всячески угождали старшим; так же делались вылазки в одну любимую кондитерскую; так же царил «esprit de corps»[5]; так же практиковалось хоровое пение для поднятия духа, – словом, можно было подумать, что доктор Фулер, директор Сент-Бидской школы, обошел все старые школы в Англии и сеткой для бабочек ловко вылавливал в каждой школе наилучшие из ее традиций. Спорту в школе придавалось громадное значение. Значки присуждались щедро, – в них сочетались цвета школы, красивые цвета – пурпуровый, алый и золотой. Стэнли, питавший горячую привязанность к своей школе, остался верен ее цветам: он всегда носил что-нибудь – галстук, запонки, подтяжки или подвязки – этих знаменитых цветов, пурпурового, алого и золотого, как бы отдавая дань уважения тому «духу порядочности», который был девизом их школы.
Эта-то «истинная порядочность» мистера Стэнли и побудила его явиться на вечер в клуб. Он хотел «поступать, как полагается порядочному человеку». И вот он пришел, был в высшей степени мил, пожимал мозолистые руки и в промежутках между вальсами с Лаурой танцевал несколько раз с тяжеловесными супругами своих старых служащих.
Вечер проходил, и радостная улыбка, которой расцвело лицо Дженни при виде «нашего» мистера Стэнли и Лауры Тодд, стала несколько натянутой; ее журчащий смех, который раздавался всякий раз, когда она скользила в танце мимо этой пары или мимо одного из них, звучал уже чуточку искусственно.
Дженни сгорала от желания быть замеченной мисс Тодд, ей до смерти хотелось, чтобы мистер Стэнли пригласил ее танцевать. Но, увы, ни того ни другого не случилось. Как обидно! А тут еще этот Джейк Линч! Он не спускал с нее глаз, ходил за ней следом, ища случая пригласить ее танцевать.
Джейк был парень неплохой, но, на беду, он был пьян. Все знали, что Джейк любит выпить рюмочку, а в этот вечер он, шмыгая все время из клуба в соседний трактир «Герцог Кумберлендский», проглотил изрядное количество таких рюмочек. На прежних балах Джейк обычно стоял у дверей зала, блаженно кивая головой в такт музыке, а к концу вечера уходил домой, нетвердо ступая своими кривыми ногами. Но в этот вечер злой демон Джейка парил близко.
Когда заиграли последний вальс перед ужином, Джейк поправил галстук и важно подошел к Дженни.
– Пойдем, милочка, – сказал он со своим протяжным тайнсайдским акцентом. – Мы с тобой сейчас всем им утрем нос!
Дженни вскинула голову и с подчеркнутым презрением устремила глаза куда-то в противоположный конец зала. А сидевший рядом с нею Джо сказал:
– Уходи прочь, Джейк. Мисс Сэнли танцует со мной.
Джейк, пошатываясь, возразил:
– А я хочу, чтобы она танцевала со мной. – И с неуклюжей галантностью протянул руку Дженни.
В жесте Джейка не было ничего грубого, но в ту минуту он покачнулся, и его громадная лапа невольно опустилась на плечо Дженни.
Дженни драматически взвизгнула. И Джо, вскочив, с внезапной яростью нанес Джейку ловкий удар в подбородок. Джейк во всю длину растянулся на полу. Шум в зале сразу утих.
– Что тут у вас такое? – Мистер Стэнли пробрался сквозь толпу к тому месту, где стоял Джо, геройски выпятив грудь и одной рукой обнимая бледную, испуганную Дженни. – Что случилось?
У храброго Джо сразу душа ушла в пятки. Он с добродетельным видом пояснил:
– Линч пьян, мистер Миллингтон, мертвецки пьян. Должен же человек знать меру и уметь вести себя! – В прошлую субботу Джо вместе с Линчем участвовал в грандиозной попойке, их обоих вывели из бара «Эмпайр», но сейчас он уже не помнил об этом, чувство собственного достоинства не позволяло вспомнить. – Он напился и приставал к моей знакомой, мистер Стэнли. Я только хотел ее защитить.
Стэнли посмотрел на стоящую перед ним пару: хорошо сложенный юноша… оскорбленная красавица. Затем, нахмурившись, перевел взгляд на лежавшего на полу пьяницу.
– Пьян! – воскликнул он. – Нет, это уж слишком, право! Этого я не потерплю! Мои рабочие – приличные люди, и я хочу, чтобы они могли прилично развлекаться. Уберите его отсюда! Мистер Клегг, попрошу вас распорядиться. И скажите ему, чтобы он завтра пришел в контору за расчетом.
Джейк Линч за непристойное поведение был выведен вон. На следующий день его уволили с завода.
Наведя порядок, Стэнли обратился к Джо и Дженни и улыбнулся, смягченный широкой улыбкой Джо и воздушной прелестью Дженни.
– Все в порядке, – сказал он успокоительно. – Вы Джо Гоулен, не так ли? Я вас отлично знаю. Я знаю всех своих рабочих, поставил себе это за правило. Познакомьте же меня с вашей дамой, Джо. Здравствуйте, мисс Сэнли. Мы с вами должны потанцевать, мисс Сэнли, чтобы загладить эту маленькую неприятность. А вас, Джо, разрешите представить моей невесте. Может быть, вы потанцуете с ней?
И Дженни в экстазе упорхнула в объятиях мистера Стэнли, держась самым великолепным образом, выпрямив по последней моде локоть, сознавая, что все глаза в зале устремлены на нее. А Джо неуклюже и торжественно выступал с мисс Тодд, которая, видимо забавляясь, поглядывала на него с некоторым интересом.
– А ловко вы его ударили, – сказала она с характерной для нее насмешливой гримаской.
Джо согласился, что удар был первоклассный. Он чувствовал себя героем – и все-таки сильно конфузился.
– Мне нравится, когда человек умеет за себя постоять, – небрежно пояснила мисс Тодд. Она снова усмехнулась. – И не держите себя так, словно вы вступили в орден праведных тамплиеров!
Стэнли, мисс Тодд, Дженни и Джо ужинали вместе. Дженни была на седьмом небе. Она улыбалась, показывая красивые зубки, обворожительно опускала темные ресницы; желе она ела вилкой и от каждого блюда неизменно оставляла немножко на тарелке. Она была несколько шокирована, когда Лаура Тодд, взяв апельсин, преспокойно надкусила кожицу своими белыми зубами. Еще больше потрясло ее то, что Лаура без церемоний попросила у Стэнли его носовой платок. Но все, все было упоительно, упоительна каждая минута. И в довершение всего, когда вечер кончился, Джо, искупая свою давешнюю оплошность, с царственной щедростью нанял кеб. В последний раз обменялись любезностями, прокричали «до свидания», усердно помахали платками. Шурша юбками, трепеща от возбуждения, Дженни вошла в позеленевший от плесени экипаж, пахнувший мышами, похоронами, свадьбами, сыростью извозчичьего двора. Вязаные шарики ее капора исступленно качались. Она откинулась на спинку сиденья.
– О Джо! – затараторила она. – Какой чудесный вечер! А я и не знала, что вы так хорошо знакомы с мистером Миллингтоном. Почему вы не говорили мне об этом раньше? Я понятия не имела… Он премилый. И она тоже, разумеется. Красивой ее назвать нельзя, зато какой шик! Платье, что было на ней сегодня, стоит не один десяток фунтов. Можете мне поверить, это последний крик моды, уж я-то знаю! А между прочим, вы заметили, как она надкусила апельсин? А носовой платок? Я чуть в обморок не упала!.. Никогда я бы себе не позволила сделать такую вещь! Это же неприлично! Да вы меня слушаете, Джо?
Он нежно уверил ее, что слушает. С той минуты, как он очутился с ней наедине в темном кебе, желание, которое в нем вызывала эта девушка, сжигало его, как лихорадка. Все его тело горело и напрягалось в стремлении к ней. Целый вечер она была в его объятиях, он ощущал под тонким платьем ее тело, прижимавшееся к нему во время танцев. В течение долгих месяцев Дженни держала его на почтительном расстоянии, а теперь она в его руках, одна с ним. В волнении ерзая на месте, Джо осторожно придвинулся ближе к Дженни, которая забилась в угол, и обнял ее одной рукой. А она продолжала болтать без умолку, счастливая, веселая, взбудораженная.
– Когда-нибудь и у меня будет такое платье, как у нее… у мисс Тодд. Шелк и настоящие кружева. Да, она знает толк в таких вещах. Могу поручиться, что и пожить умеет, это сразу видно.
Джо тихонько притянул ее к себе и шепнул как можно ласковее:
– Не хочу говорить о ней, Дженни. Я на нее никакого внимания не обратил. Я смотрел только на вас. Я только о вас и думаю!
Она хихикнула, очень довольная.
– Вы гораздо, гораздо красивее. И платье у вас в сто раз лучше, и все лучше, чем у нее.
– А между тем эта материя по два шиллинга четыре пенса, Джо. А выкройку я достала у Уэлдона.
– Ей-богу, Дженни, вы просто чудо! – Он продолжал хитро льстить ей. И чем больше льстил, тем смелее ласкал. Он чувствовал, что она возбуждена, вся натянута, как струна. Она позволяла ему то, чего никогда не позволяла раньше. Окрыленный успехом, сгорая от желания, Джо осторожно приникал все ближе.
Дженни вдруг резко вскрикнула:
– Не смейте! Не смейте, Джо! Ведите себя прилично!
– Ну полно, чего ты испугалась, милая? – успокаивал он ее.
– Нет, Джо, нет! Этого нельзя. Это нехорошо.
– Ничего в этом нет дурного, Дженни, – вкрадчиво нашептывал он ей. – Разве мы не любим друг друга?
Тактика его была превосходна. Не знаю, каковы были его успехи на бильярде, но в тонком искусстве соблазнителя Джо был далеко не новичок.
Чувствуя, что он плотно прижимается к ней, Дженни в волнении пробормотала:
– Не надо, Джо… не здесь, Джо.
– Ах, Дженни…
Но она сопротивлялась:
– Смотри, Джо, мы уже совсем близко. Смотри, Пламмер-стрит. Мы уже почти дома. Пусти меня, Джо. Пусти же.
Он недовольно поднял с ее шеи разгоряченное лицо и увидел, что она говорит правду. Разочарование было так сильно, что он чуть не выругался вслух, но взял себя в руки и, выйдя из кеба, помог выйти Дженни. Потом бросил шиллинг «пугалу на козлах» и стал подниматься по лестнице вслед за девушкой. Линии ее фигуры, даже простой жест, которым она достала ключ и вставила его в замочную скважину, сводили его с ума. Тут он вспомнил, что Альф, ее отец, сегодня не ночует дома.
В кухне, освещенной только огнем в камине, Дженни остановилась перед Джо и взглянула ему в лицо: несмотря на оскорбленное целомудрие, ей, видимо, не хотелось идти спать. Она была возбуждена необычностью всего пережитого сегодня, и успех в клубе еще кружил ей голову. Она стояла с немного застенчивым видом:
– Может быть, зажечь газ и сварить вам какао, Джо?
Джо с трудом скрывал раздражение и откровенное желание схватить ее:
– Вы никогда ничем не порадуете человека, Дженни. Подите сюда, посидите минутку со мной на диване. Мы за весь вечер и словом не перемолвились.
Настороженная, немного испуганная, она стояла в нерешительности. Проститься и пойти спать? Это скучно… А Джо сегодня так красив!.. И вел себя молодцом – нанял кеб…
Дженни сказала, посмеиваясь:
– Что ж… от разговора вреда никакого не будет, – и подошла к дивану.
Как только она села, Джо крепко обнял ее. Сейчас это оказалось легче, чем в кебе: Дженни вырывалась как-то нехотя. Он угадывал ее возбуждение, видел, что она еще вся трепещет от впечатлений этого вечера.
– Не надо, Джо… не надо… Мы должны вести себя прилично, – твердила она, сама не понимая, что говорит.
– Нет, Дженни, надо. Ты знаешь, что я с ума по тебе схожу. Ведь мы любим друг друга.
Покоренная, испуганная, сопротивляясь и вместе отдаваясь, обессиленная страхом, болью и каким-то новым, незнакомым ощущением, Дженни шепнула одним дыханием:
– Пусти, Джо… ты делаешь мне больно, Джо!
Он понял, что теперь она принадлежит ему, понял с дикой радостью, что перед ним наконец настоящая Дженни…
Огонь в камине догорал. Решетка опустела. Когда все уже было кончено, Дженни, похныкав, сколько полагается, внезапно зашептала:
– Обними меня крепко, Джо… крепче, дорогой!
Нет, можно ли этому поверить?! А он лежит в чертовски неудобной позе, и волосы Дженни лезут ему в рот. Когда она прильнула к нему, подставив его губам бледное, мокрое от слез, милое личико, теперь лишенное всякого глупого притворства, она была так же естественна и прекрасна, как одна из жемчужно-серых голубок ее отца. Но Джо в эту минуту почти готов был… да, готов был ударить ее. Имелось, впрочем, смягчающее вину обстоятельство: как он и сказал Дженни, это была его первая настоящая любовь.
XII
В «Холме» субботний вечер имел свою раз навсегда установленную программу. После холодного ужина Хильда играла отцу на органе. И в этот вечер последней субботы ноября 1909 года, в восемь часов, Хильда играла «Музыку на воде» Генделя, а Баррас сидел в своем кресле, опершись головой на руку, и слушал. Хильда не любила играть в присутствии отца. Но играла. Это входило в ее обязанности.
Ричард Баррас крепко держался установленного им порядка. Это не значит, что он был рабом привычек, – они не имели власти над ним. И традиция также была для него не повелительницей, а скорее эхом, постоянно вторящим его принципам. Чтобы понять Ричарда Барраса, необходимо принять во внимание его принципы. Потому что он действительно был принципиальный человек, не лицемер. Он был искренен.
Он был также человеком нравственным. Он презирал слабости, которым так часто и таким роковым образом предаются люди. Он, например, не способен был и подумать об измене Гарриэт с какой-нибудь другой женщиной. Несмотря на свои немощи, Гарриэт была ведь его женой! Он презирал и другие, более грубые вожделения: пристрастие к роскоши, к обильной еде и вину, обжорство, пьянство, сибаритство, чувственность, всякие эксцессы, все виды физической распущенности внушали ему омерзение. Он ел простую пищу и обычно пил только воду. Он не курил. Его костюмы были сшиты хорошо и из добротной материи, но их у него было мало, и он не отличался суетной страстью к щегольству.
У него, разумеется, была своя гордость, естественная гордость просвещенного либерала. Он всегда помнил, что он человек с положением и состоянием, владелец копей, которыми их род владеет вот уже сто лет. Он искренне гордился своими предками, начиная от Питера Барраса, который в 1805 году впервые углубил шахту № 1 на «Снуке» (в нынешнем старом «Нептуне») и оставил своему сыну Вильяму отлично налаженное небольшое предприятие. Вильям, в свою очередь, проложил шахты № 2 и 3. А отец Ричарда, Питер Вильям, предпринял бурение шахты № 4, – это было разумное дело, из которого его сын теперь извлекал огромную пользу. Ричард с глубоким удовлетворением думал об этих дальновидных, трезво мыслящих людях, создавших своим потомкам имя и состояние. Гордился он и тем, что унаследовал и развил в себе качества предков, гордился собственной дальновидностью и здравомыслием, своим умением выгодно заключать сделки.
Он не проявлял откровенного честолюбия. Когда при нем заходил разговор о каком-нибудь видном лице в графстве, Баррас всегда спрашивал спокойно: «А какой у него капитал?», с кроткой насмешкой констатируя, что сосед располагает самыми ничтожными средствами. Таким образом, Баррас, принимая с удовольствием дань уважения со стороны своего банкира и своего адвоката, не был снобом, – он презирал такие мелочные чувства. На Гарриэт Уондлес, принадлежавшей к одной из знатных фамилий графства, он женился не ради ее высокого происхождения, а просто потому, что хотел, чтобы она стала его женой.
Это наводит на мысль о страсти. Но Баррас не производил впечатления человека с сильными страстями. Он был подавляюще-сильной личностью, – но то была сила уравновешенная, холодная как лед. Ему не были свойственны стремительность, неистовые страсти, порывы пламенного чувства. То, что ему было чуждо, он отвергал; тем, что не было чуждо, он завладевал. Показания Гарриэт, которой он обладал в тиши ее спальни, конечно дали бы ключ к разгадке этого человека. Но Гарриэт наутро после этих регулярных ночных идиллий просто с аппетитом съедала обильный завтрак, наслаждаясь им со спокойным удовлетворением хорошо выдоенной коровы. Это единственное биологическое свидетельство могло быть и положительным и отрицательным, других свидетельств не допускала скромность Гарриэт.
Сам же Ричард редко обнаруживал себя. Он был человеком замкнутым. Эта замкнутость, несомненно, была достоинством. Не обычная скрытность, а нечто более тонкое – замкнутость человека, сурово негодующего на попытки копаться в его душе и одним взглядом замораживающего всякую фамильярность. Он, казалось, говорил ледяным тоном: «Я – это я, и останусь самим собой, и никому, кроме меня, до этого дела нет. Я сам собой управляю и никому другому управлять собой не позволю».
Не надо, однако, думать, что все внутреннее существо Ричарда было целиком отлито в эту шаблонную форму. У него имелись свои индивидуальные особенности. Например, любовь к органу, к Генделю, в особенности к его «Мессии», приверженность к искусству, здоровому и общепризнанному искусству, о чем свидетельствовали дорогие картины на стенах его дома, верность семейному очагу, прочно укоренившаяся привычка к точности и аккуратности и, наконец, страсть к приобретению.
В ней-то, в этой страсти, и крылась разгадка души Барраса, самая сущность его «я». Он был крепко привязан ко всему, что составляло его собственность, – к своим копям, дому, картинам, имуществу, ко всему, что принадлежало ему. Отсюда ненависть ко всякого рода мотовству, бледным отражением которой была выработавшаяся у тетушки Кэрри бережливость, ее неспособность что-нибудь выбросить. Тетушка часто обнаруживала эту черту, к полному удовлетворению Барраса. Он и сам никогда ничего не выбрасывал. Газеты и бумаги всякого рода, старые квитанции и договоры – все он аккуратно складывал в пачки, надписывал их и запирал в свой письменный стол. Это надписывание и складывание в ящик превратилось чуть ли не в священный ритуал. Он придавал ему какой-то высший смысл. Между этим занятием и его любовью к Генделю существовала некая гармония. Здесь был тот же внушительный размах и глубина и что-то вроде религии, недоступной чужому пониманию. А между тем источником ее была просто алчность, ибо больше всего душу Барраса снедала тайная страсть к деньгам. Он искусно скрывал ее от всех и даже от себя самого, но он обожал деньги. Он держался за них цепко, тешился ими, этим сверкающим олицетворением своего богатства, своей реальной ценности в мире.
Хильда перестала играть. Наконец-то покончено с Генделем, во всяком случае с этой «Музыкой на воде»! Обычно она, окончив, укладывала ноты обратно на табурет у рояля и сразу уходила к себе наверх, но сегодня Хильда, по-видимому, хотела угодить отцу. Не отводя глаз от клавиатуры, она спросила:
– Может быть, сыграть тебе «Largo», папа?
То была его любимая вещь, пьеса, которая производила на него большее впечатление, чем все остальные. Хильду же доводила чуть не до истерики.
Сегодня она сыграла ее медленно, в торжественном темпе.
Наступила тишина. Не отнимая руки от лба, отец сказал:
– Спасибо, Хильда.
Она поднялась и стояла по другую сторону стола. Лицо ее было угрюмо, как всегда, но внутренне она трепетала.
– Папа! – начала она.
– Что, Хильда?
Хильда тяжело перевела дух. Много недель собиралась она с силами для этого разговора.
– Мне скоро двадцать лет, папа. Вот уже почти три года, как я окончила школу и вернулась домой. И все это время я здесь ничего не делаю. Мне надоело бездельничать. Мне хочется чем-нибудь заняться. Позволь мне уехать отсюда и работать.
Баррас опустил руку, которой заслонял глаза, и смерил дочь любопытным взглядом, затем повторил:
– Работать?!
– Да, работать! – сказала она стремительно. – Позволь мне учиться чему-нибудь или найти себе какую-нибудь службу!
– Службу? – Все тот же тон холодного удивления. – Какую службу?
– Да любую. Ну хотя бы быть твоим секретарем. Или сестрой милосердия. Или отпусти меня на медицинский факультет. Этого мне больше всего хочется.
Он снова с легкой иронией посмотрел на нее:
– А как же будет, когда ты выйдешь замуж?
– Никогда я не выйду замуж! – вскипела Хильда. – Я и думать об этом не хочу. Я слишком безобразна, чтобы когда-нибудь выйти замуж.
Холодное выражение скользнуло по лицу Барраса, но тон его не изменился. Он сказал:
– Ты начиталась газет, Хильда!
Его догадливость вызвала краску на бледном лице Хильды. Это была правда: она прочла утреннюю газету. Накануне на Даунинг-стрит суфражистки устроили демонстрацию во время заседания парламента, и произошли скандалы при попытках некоторых из них ворваться в палату общин. Это послужило Хильде толчком к окончательному решению.
– «Была сделана попытка ворваться… – процитировал Баррас на память, – ворваться в здание палаты общин». – Он сказал это так, как говорят о последней степени безумия.
Хильда в бешенстве закусила губы, повторила:
– Папа, позволь мне уехать и изучать медицину. Я хочу быть врачом.
– Нет, Хильда.
– Отпусти! – В ее голосе звучала отчаянная мольба.
Отец ничего не ответил.
Наступило молчание. Лицо Хильды побелело как мел. Баррас с интересом созерцал потолок. Это продолжалось с минуту, затем Хильда без всякого мелодраматизма повернулась и вышла из комнаты.
Баррас, казалось, не заметил ухода дочери. Хильда нарушила незыблемую традицию – и он закрыл свою душу для Хильды.
Просидев неподвижно с полчаса, он встал, заботливо выключил газ и пошел в свой кабинет. В субботние вечера после игры Хильды он всегда уходил к себе в кабинет. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с толстым ковром на полу, массивным письменным столом, темно-красными портьерами, закрывавшими окна, и несколькими фотографиями шахты на стенах. Баррас сел за свой стол, достал связку ключей, долго, с кропотливым усердием выбирал нужный ему ключ и наконец отпер средний верхний ящик стола. Оттуда он вынул три обыкновенные счетные книги в красных переплетах и привычным жестом начал их перелистывать. Первая содержала перечень его вкладов, который он сам написал своим аккуратным почерком. Он сосредоточенно просматривал книгу, и довольная, несколько двусмысленная усмешка скользила по его губам. Он взял перо и, не обмакивая его в чернильницу, осторожно водил им по рядам цифр, но вдруг остановился и глубоко задумался, мысленно решая продать привилегированные акции Объединенных копей. В последнее время они стояли очень высоко, но он имел неблагоприятные конфиденциальные сведения относительно доходности этих предприятий. Да, акции надо будет продать. Он опять слабо усмехнулся, похвалив себя мысленно за безошибочный инстинкт дельца, за коммерческую жилку. Он никогда не делает промахов. Каждая из ценных бумаг, записанных в этой книге, была твердопроцентной, надежной, имела солидное обеспечение. Он снова сделал беглый подсчет. Результат привел его в хорошее настроение.
Потом он занялся второй книгой. Она содержала сведения о его домах в Слискейле и окрестностях. На Террасах большинство домов было собственностью Барраса (он не мог примириться с тем, что мясник Ремедж владел половиной Балаклавской улицы), а в Тайнкасле ему принадлежали целые кварталы домов, в которых комнаты сдавались понедельно. Эти дома у реки, где квартирную плату собирал специальный сборщик, давали колоссальный доход. Ричарду Баррасу не приходилось жалеть о скупке этих домов. Идея принадлежала ему, но всем делом ведал Бэннерман, его поверенный, на скромность и благоразумие которого можно было положиться. Баррас записал себе для памяти, что надо поговорить с Бэннерманом относительно расходов.
И наконец, с чувством облегчения, любовно придвинул он к себе третью книгу. Это был список его картин с указанием сумм, уплаченных за них. Он благодушно просматривал цифры. Ему было приятно, что на картины истрачено двадцать тысяч фунтов – целое состояние. Что ж, это тоже выгодное помещение капитала. Картины все тут, на стенах его дома, они будут цениться все выше, станут редкостью, как полотна Тициана и Рембрандта… Впрочем, больше покупать не надо. Отдал дань искусству – и хватит.
Он взглянул на часы и прищелкнул языком, увидев, что так поздно. Бережно спрятал книги, запер на ключ ящик и пошел к себе в спальню. Там он опять вынул часы и завел их, налил себе воды из графина, стоявшего на столике у постели, и начал раздеваться. В спокойных движениях его большого, сильного тела была какая-то сосредоточенность, неизменность. Движения эти были равномерны, систематичны. Они не допускали возможности других движений. В каждом сказывалась обдуманная забота о себе. Сильные белые руки имели свой собственный немой язык. Они как бы приговаривали: «Вот так… так… лучше всего сделать это таким образом… для меня так лучше всего. Может быть, это делается и другим способом… но мне удобнее всего так… Мне…» В полумраке спальни символический язык этих рук таил в себе какую-то загадочную угрозу.
Наконец Баррас окончил приготовления ко сну. Накинув темно-красный халат, с минуту стоял, поглаживая подбородок, потом неторопливо зашагал по коридору.
Хильда, сидевшая в темноте у себя в комнате, услышала тяжелые шаги отца: он вошел в расположенную рядом спальню матери. Девушка вся сжалась и словно застыла. На лице ее выразилась мука. В отчаянии пыталась она заткнуть уши, чтобы не слышать, но не могла. Ей никогда это не удавалось. Шаги слышались уже в комнате. Разговор вполголоса. Потом глухой, медленный скрип. Хильда содрогнулась всем телом. В муке отвращения она ждала. И услышала знакомые звуки.







