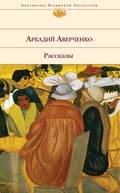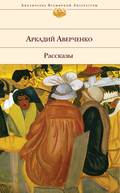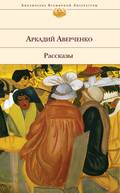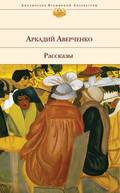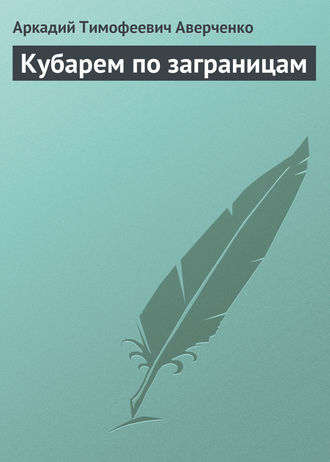
Аркадий Аверченко
Кубарем по заграницам
Так уж если Христа, самого бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче.
* * *
И когда снова Спирька возьмется за свои седла и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень, в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш не подлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда неповешенный пастырь благословит с амвона свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья – в синем, теплом воздухе снова закружатся стрижи – я скажу:
– Велик бог земли Русской!.. Мы три года метались в страшном, кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, которые, взяв сонного русака за шиворот, тряхнули его так, что весь сон как рукой сняло. Тряхнули так, что, как говорится, «аж черти посыпались».
Голубеет небо, носятся, как угорелые, стрижи, плывет святорусский звон колокола, и прекрасная белокурая девушка – символ новой, но вечно старой России – снова идет с книжкой в уютный тенистый сад, где ласково кивают ей зеленеющие ветви:
– Милости просим: отдохни, девушка! Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение…
– Отдохни, девушка.
Ах, как мы все устали, и как нам нужно отдохнуть.
И тем нужно отдохнуть, что бежали, преследуемые, и тем, что по канавам валялись расстрелянные, и тем, что гнили по чрезвычайкам, избитые, оплеванные, униженные грязной продажной лапой комиссара.
И этим нужно отдохнуть – вот этим самым комиссарам – всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенкам – имена же их ты, диаволе, веси – и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых…
И отдых им один, отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них: «Отдых на крапиве!..»
Добрые друзьяза рамсом
Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком: «Сладко ли, мол? Не кисло ли?»
Вот только тогда мы, действительно, всеми чувствами нашими поймем, «що воно таке».
Например, я: сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине Второй и Потемкине – все не мог себе живо представить: что это были за люди во плоти и крови?
Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать мое воображение.
И представились они мне ясно, во весь рост, только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем.
О Потемкине… «Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во всех движениях была привычка повелевать». И дальше: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».
То же и об Екатерине II: «…Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом… – «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала», – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев». И дальше: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца…»
Всего несколько пустяковых штрихов – и обе фигуры стоят передо мной как живые.
* * *
Сейчас – нет спору – в России две самые интересные фигуры – Ленин и Троцкий. И за ними еще две – Горький и Луначарский.
А как мы можем их себе представить конкретно, этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят?
Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦИКе, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского.
Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве, в тридевятом государстве, где бесшумно и бесплотно бродят какие-то абстрактные символы.
Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить – вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский.
Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: «Товарищ Марфушка, ты опять к столу теплый монополь-сек подала? Ну что мне с тобой, дурищей, делать?!» – скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесенная на съезде перед сотней партийных дураков!..
И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия, представляю – как они там себе живут?
Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу:
– С Горьким у них дружба. Луначарский по вечерам ездит к Горькому в рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает. Выпьют, закусят… Жизнь самая обыкновенная.
Стоп! Довольно. Больше ничего не надо.
Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет божий целую конкретную картину.
* * *
Кабинет Максима Горького. Зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившаяся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, весь вид задумчивый.
На оттоманке в углу уютно устроилась с вязаньем жена его – артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами.
– О чем задумался? – спрашивает Андреева.
– Вообще, так… Сегодня на Моховой видел человека мертвого: не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: завтра свалюсь я – и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а?
– Сегодня ждешь кого-нибудь?
– Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется?
– Телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная… Ну, консервы можно открыть. Сыр есть.
– А вино?
– Вино только красное. Портвейну всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть, та, что на лимонной корке настоял… А! Анатолий Васильевич… Забыли вы нас: три дня и глаз не казали. Нехорошо, нехорошо.
В дверях стоял, сощурив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, – усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне.
– Холодище, – пробормотал он хрипловатым баритоном. – Я думаю, градусов 20. Мерзнет святая Русь, хе-хе. Ну что ж нынче – сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремиз, как третьего дня, – прямо отказываюсь с вами играть.
– А что же ваша супруга? – любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделие.
– Да приключение с ней неприятное. Так сказать: приключилось умаленькое инкоммодите![2] Пошла вчера вечером пешком из театра – прогуляться ей, вишь, захотелось, это при двух-то автомобилях! – в темноте споткнулась на какой-то трупище, валявшийся на тротуаре, упала и все плечо себе расшибла. Такой синяк, что…
– Какой ужас! Компресс надо.
– Не по Моховой шла? – задумчиво спросил Горький.
– Ну где именье, где Днепр!.. При чем тут Моховая? А Лев Давидыч будет?
– Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка!
– А жарковато у вас тут! Ф-фу!
– Да… Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось.
– Анатолий Васильевич! Могу сообщить вам новость по вашей части: у нас почти весь сахар кончился.
– Отложил для вас полтора пудика. А мука как, что вчера послал, – хороша?
– О, прелесть. Настоящая крупчатка. Где это вы такую достали?
– А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу?..
– Злодей! Он еще спрашивает!
– Слушаюсь! Будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль.
В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге.
– Драгоценная Мария Федоровна! Ручку. Здорово, панове! А я, простите, задержался – на пожаре был.
– Где пожар?
– На Глазовой. Эти канальи от холода готовы даже дома жечь, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать – типичные поджигатели.
– Ну не будем терять золотого времени, – хлопотливо пробормотал Луначарский, посматривая на золотые часы. – Кстати, Левушка, об аресте… Помнишь, я тебя просил за того старика профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?
– Ах, да! К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Еще тепленький.
– А, черт бы вас разодрал! И куда вы так вечно спешите. Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скапустились. Он и того… Кому сдавать? Вам, Алексей Максимыч. Так-с. Я не покупаю. Ну зайдем с валетика, что ли. А это как вам понравится? А это!! Хе-хе… Все пять – мои; пишите ремизы.
Вошла горничная.
– Домна спрашивает – телятину подогреть?
– Наоборот, – поднял голову от карт Алексей Максимыч. – Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная. С огурчиком.
* * *
– Господа, пожалуйте закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонной! Сам настаивал, хе-хе.
* * *
Так они и живут, эти приятели, так дорого обошедшиеся России.
Город чудес
Написано Аркадием Аверченко при любезном содействии его коллеги Герберта Джорджа Уэллса, эсквайра
Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила на купленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров и, главное, специалистов по всем отраслям предполагаемого предприятия – самым мельчайшим.
Весь участок обнесли высочайшим забором, и только на южной стороне ограды были проделаны монументальные ворота с огромной вывеской, на которой горела и сверкала всеми цветами радуги огненная надпись:
«Город Чудес».
А ниже:
«День пребывания в Городе Чудес и осмотра его стоит 5 миллионов руб. Спешите! Лучшая аттракция мира! Важно для русской «взыскующей града» души!!».
Беспрерывная адская работа кипела 3 месяца.
Наконец последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит куда следует – и предприятие было объявлено открытым для широкой публики.
* * *
Беря у входной кассы билеты и платя за них жирную пачку керенок в пятьдесят тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымзину:
– То есть, знаешь, – если бы не так дорого драли, – ни за что бы не пошел!
– Еще бы, – рассудительно поддакивал Грымзин, – этакие деньжища не жалко и заплатить.
– Чего это они нам покажут?
– Говорят тебе – Город Чудес. Значит, чудеса будут – ясно!
– Пожалуйста сначала в контору, ваше сиятельство, – сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели.
– Слышь ты, – толкнул локтем приятеля Грымзин. – Чудеса, брат, уже начались. «Сиятельством» назвал.
В конторе щеголевато одетый клерк почтительно вручил им какую-то проштемпелеванную бумажку и указал на кассовое окошечко:
– Там получите деньги на расходы!
И когда кассир пододвинул им столбик золотых монет, рублей на двести, на столько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи – оба друга только промычали что-то и, боясь громко ступать по вылощенному паркету, направились к выходу.
Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на стене отрывным календарем и, не могши вымолвить слова, только головой дернул:
– Смотри!
На календаре было: «1908 год. 18 августа».
– Виноват, – робко обратился к клерку Трошкин. – Какое у нас сегодня число?
– 18 августа.
– А… год?
– Неужели не знаете? 1908-й. Тут же написано.
– Ну-ну, – покрутили головой друзья.
Вышли. Ошарашенные, зашагали по городу.
По улице мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями:
– Ин-те-рресные газеты: «Новое Время», «Русское Слово», «Речь»!! «Биржевка»!![3]
– Постой, постой! За какое число «Новое Время»?
– Ясно – за сегодняшнее.
– Сколько тебе?
– Две за «Биржевку», пятак за «Новое Время»!
– Ф-фу!! Зайдем-ка в кафе, почитаем. Барышня! Два кофе по-варшавски, полдесятка пирожных. Ну-ка, что они там пишут?.. Гм! Статья Меньшикова[4]:
«Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент. Еврейская левая пресса, которая спит и видит – поднять в России революцию…»
– А посмотри хронику.
– Изволь. «Его Величество Государю императору имели высокую честь представляться представители тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить: «Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны». – «Увольняется в полугодовой отпуск д.с.с. Криворучко». – «Орденом Станислава 3-й ст. награждается старший советник градоначаль…»
– Буренинский фельетон есть?
– Все на своем месте.
– Кого ругает-то?
– Валерия Брюсова.
– А, брат Ваня? Каково! Времена-то какие!..
– Барышня, получите. Сколько? 75 копеек? Дороговато. Хи-хи!
Вышли. На улице их внимание привлекла масса зеленых и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях.
– Чего это, Ваня?
– Квартиры все сдаются. Время осеннее скоро – сам понимаешь!.. А это что за вывеска… Во, брат! «Доминик». Зайдем… А? У буфета по рюмочке… А? С пирожком, а?
У буфетного прилавка толпилось много делового народа.
– Я, – говорил один другому, – могу продать вам вагон сахару по четыре с полтиной за пуд.
– Ваня… Что же это?
– Статисты, нешто не понимаешь. Для нас все эти разговоры. Для нас поставлены. Да-с – не зря деньги содрали. Буфетчик! Пирожки-то свежие?
– Помилуйте! Вам ординарную или двуспальную, за гривенник?
– Ваня! Обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу! Всего хочу. Деньжищ-то у нас уйма. 498 с полтинником осталось. Это из пятисот-то, Ваня. Спервоначалу обедать, потом в театр, потом в шантан.
Вышли. Пошли к «Медведю». Пообедали. Снова вышли.
– Ваничка, голубчик мой!!! Ей-богу, городовой стоит. Ваня, пойдем поцелуем. Не могу я видеть равнодушно. Стоит, голубчик, глазками смотрит. Гор-родовой!!
Не спеша приблизился городовой.
– Чего орешь зря? В участок захотел?
– Ваня… Слова-то какие: «орешь», «участок»!.. Городовой! Я протестую. Почему у вас не старая жизнь? Почему вы новые революционные порядки вводите?
Лицо городового приняло сразу новый, интеллигентно-испуганный вид.
– Что вы, мистер? Этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма…
– А вон, почему на углу очередь стоит? Разве в хорошее время очередь стояла?
– Это же на Шаляпина, сэр, всегда бывала, сэр.
И тут же вызверился на проезжавшего извозчика:
– Я т-тебе покажу, дьявол желтоглазый… Не знаешь, какой стороны держаться?! Экие шалманы!..
– Барин, пожалуйте за четвертачок… Куда надо?
– Ваня! Изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили, а я изнемогаю не от шампанского, а от радости бытия, Ваничка… Ваня, в театр бы ахнуть!..
С таинственным видом приблизился барышник.
– Билетиков у кассы не достанете. Желаете у меня? Второго ряда, вместо восьми целковых – десять только и возьму. Пожалуйте-с.
В театре Филимон Петрович снова ахнул:
– Ваня! Кто это там с хором на сцене на коленках стоит? Неужто ж Шаляпин?! Ах, голубчик ты мой! Это значит Высочайшее-то присутствие, а? Что делается… Все, как раньше… Ах, молодчины американцы!
И с переполненным сердцем влез Ваня на стул и завопил радостно:
– Товарищи… Нет, извините, к черту товарищей… Граждане!! Жертвую от полноты чувств на американский Красный Крест сто тысяч!!
Подошел капельдинер. Снял Ваню со стула и внушительно шепнул:
– Сэр! Вы, очевидно, не рассчитали. Сто тысяч золотом, – а других денег мы не признаем! – там за оградой будут стоить миллиард вашими… Опомнитесь.
И сел Ваня на стул, и горько заплакал Ваня…
В красивую, полную пышной грезы и блеска, жизнь – ворвалась пошлая, тяжелая проза, и сразу потускнела вся американская позолота, и сделался жалким комедиантом стоящий на коленях актер, так великолепно загримированный Шаляпиным…
Отрывок будущего романа
(Написано по рецепту «Алой Чумы»[5])
1
В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец завоевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, который и висел небольшим привеском на неизмеримом пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, отощавшего людоеда.
Что касается окружающих государств, то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через каждые пятьсот шагов:
«Вход посторонним строго воспрещается».
Совдепия была предоставлена самой себе.
Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни искусств…
Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет, постепенно зарастает дремучим волосом и наполняется тучей насекомых, так и бывшая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой травой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей…
Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросший маками и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишенных стекол трубах разрушенных обсерваторий… А в стенах бывшего Московского университета свила гнездо страшная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся округа.
Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных…
Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.
Племя исполкомов было нечто вроде воевод – оно правило. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.
Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья – совнаркому Мише.
Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.
* * *
Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года… На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.
– А где старший брат? – спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.
– Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том – съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.
– О, наказание! – воскликнула старуха. – И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.
– Да, дожидайся, – проворчал внук. – Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке… Поймали его наши и тут же слопали – даже полпальца не принесли… А когда отец с охоты вернется?
– Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?
– А я когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу… Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.
– Покажи-ка, – с любопытством попросила старуха. – Да это гайка!!
– Что это значит: гайка?
– Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.
– Какие рельсы?
– Железная дорога. Из железа.
– Какое странное слово: железо.
– Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.
– Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?
Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:
– Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы… Такие длинные-предлинные палки… И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.
– Сколько же лошадей нужно было для этого?!
– Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит – никакой лошади не догнать.
– Кто ж это делал?
– Инженеры.
– Они вкусные?
– Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая – за меня один инженер сватался.
– Чего-о?
– Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.
– Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.
– Ох, как с вами трудно разговаривать!
И потом мечтательно улыбнулась:
– Он мне записки писал…
– Что это значит: «писал»?
– Брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.
– Какое смешное слово: бумага.
– Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца – покажу.
Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.
Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:
– Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.
– Что ж ее прежний жених?
– Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.
– А формула перехода к очередным делам?
– Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.
– Какая прелесть! Совсем роман!
– Чего-о-о-о?..
Но старуха молчала, задумавшись о прошлом…
Все было безмолвно, только слышался далекий олений рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.