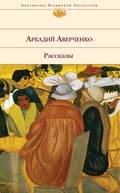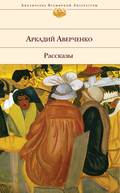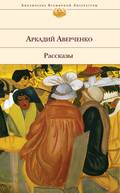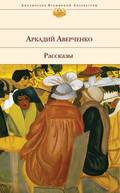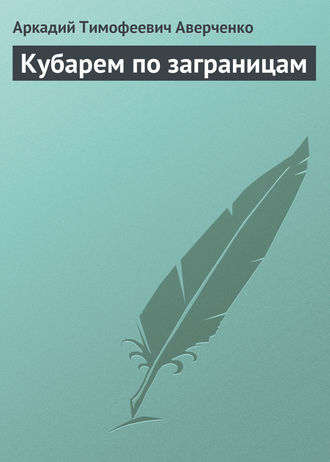
Аркадий Аверченко
Кубарем по заграницам
Чертово колесо
I
– Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.
– Чем же весело?
– Ощущение веселое.
– Да чем же веселое?
– А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.
Это – разговор на «чертовом колесе»…
Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».
Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной; в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.
Вообще, «Луна-Парк» – это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело…
Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо – и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, – тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было – ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, – а вот поди ж ты – излюбленное это было дурацкое удовольствие – сокрушать десятки тарелок и бутылок… А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, – направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «таинственный замок»… Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, – снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам, Михайлы Арцыбашева[16].
Вот что такое «Луна-Парк» – рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека и – широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.
II
Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и – ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» – даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий…
Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, – ведь это же «веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение – какая пышная выставка!
И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся – трах! Вдребезги правосудие. Трах! – в кусочки финансы.
Бац! – и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.
А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт – благо шаров в руках много – и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители – французы, англичане, немцы – и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:
– Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..
Горяч русский дурак – ох, как горяч… Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он – центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.
III
А кто это там поехал вниз в «веселой бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу – из вагона ребенок вылетел, бац о другую – самого петлюровцы выбросили, трах о третью – махновцы чемодан отняли.
А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая… А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».
А этот «таинственный замок» – где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом, чудовищ – не чрезвычайка ли это – самое яркое порождение Третьего Интернационала – потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы – палачи всех стран, соединяйтесь!..
IV
Но самое замечательное, самое одуряюще схожее – это «чертово колесо»!
Вот вам февральская революция – начало ее, когда колесо еще не закрутилось… Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности – Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:
– Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков![17] Садись, не бойся. Тут весело.
– Чем же весело?
– Ощущение веселое…
– А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру… Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, – тогда удержишься… И ты, Гучков[18], садись – не бойся… Славно закрутим… Ну… все сели? Давай ход! Поехала!
Поехала.
Несколько оборотов «чертова колеса» – и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, – Павел Милюков.
Взззз! – свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков – трах – и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.
А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева[19]… Отталкивает его Скобелев, но – поздно… Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.
– А! – радостно кричит Церетели[20], уцепясь за ногу Керенского. – Дэржись крепче, как я. – Самые левые и самые правые летят, а мы – центр – удэржимся…
Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе[21] – эк их куда выкинуло – к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».
Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре, – кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению… Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии – Гоцлибердан[22], – уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево – но… для «чертова колеса» достаточно и этого!..
Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.
Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже – глядь! – налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис[23], Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» – Троцкий:
– К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!
– Взззз!..
А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.
– Ах, поймать бы!
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина
Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы – всего два с полтиной!!!
«Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. – горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью… – И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые – одна, вишь, дыра… Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!»
Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.
– Есть ли на тебе крест-то? – саркастически осведомился Пантелей.
Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.
«Ну вот остался у меня рупь целковый, – со вздохом подумал Пантелей. – А что на него сделаешь? Эх!..»
Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос – так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.
И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.
– За что же, за что?.. – шептали его дрожащие губы. – Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины – света божьего не вижу… О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!
* * *
Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.
«Что ж я с ними сделаю, – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. – И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь – смерть хочется!»
Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.
Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых… Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.
Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать… и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.
– Почему же, – шептали его дрожащие губы, – почему богачам все, а нам ничего… Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим – ничего?..
* * *
Эх, Пантелей, Пантелей… Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!
Новая русская сказка
(Вместо предисловия)
Матери!
Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.
Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!..
Вот как было дело:
Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке
У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.
Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь – он подарил ей красную шапочку.
Почему именно красную?
Именно потому, что дурак красному рад.
* * *
И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:
– Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.
– Я, конечно, пойду, – отвечает Красная Шапочка. – Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки – это мысль.
Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.
Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:
– Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово… Да ты не плачь – я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.
– А что же я бабушке-то скажу?
– Скажи – Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.
Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:
– Принесла?
– Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит – все слопал!
Только облизнулась бедная старуха.
А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.
– Отпусти ты его, буржуя, – советует Красная Шапочка. – Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.
Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес – из-за куста давешний мальчик:
– А что, товарищ, не слопать ли нам козла?
– А что я бабушке скажу?
Подмигнул мальчик, хихикнул.
– А Серый русский Волк на что? Вали на него – вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?
– Да ежели потрясти – есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.
– А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!
Пошли и «пришили» старушку.
Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.
* * *
А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.
Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.
Приходит – те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.
– Ловко сработано, – с горечью подумал Серый Волк.
Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:
– Отчего у тебя такой язык длинный?
– Чтобы на митингах орать.
– Отчего у тебя такой носик большой?
– При чем тут национальность?
– Отчего у тебя большие ручки?
– Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!
– Отчего у тебя такие ножки большие?
– Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убегать?!
– Ну, нет, брат, – вскричал Волк и в тот же миг – гам! – и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.
Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.
В новой сказке – к черту охотника.
Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить…
Короли у себя дома
Все почему-то думают, что коронованные особы – это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.
Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.
Например, взять Ленина и Троцкого.
На официальных приемах и парадах они – одно, а в своей домашней обстановке – совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.
Ну, скажем, вот:
* * *
Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.
За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.
Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, – олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин – madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала.
И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.
Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.
Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.
– Налей еще, – говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.
– Тебе покрепче или послабее?
Молчание.
– Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.
– Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.
– Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.
– Поехала!
Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:
– Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?
– Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..
– Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь…
– Левушка… Что за слово…
– Э, не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?
– Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует… Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!
– Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить…
– Что ты мне своей организацией глаза колешь?! – вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. – Нечего сказать – организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.
– А чего ж они, подлецы, не убирают… Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.
– Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи – засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет – курица 8000 рублей, крупа – 3000, масло… э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.
– Ну что ж… разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает – можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления…
– Э, да разве только это. А венгерская социальная революция… Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:
Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем…
– Раздули пожар… тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!
– Замолчишь ли ты, проклятая баба! – гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. – Не хочешь, не нравится – скатертью дорога!
– Скатертью? – вскричал Ленин и подбоченился. – Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы, лучше пошла бы за Луначарского.
Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.
– Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану – искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал – чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну довольно! Если меня спросят – скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной армии. А то если этих мерзавцев не подтягивать… Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман чистый! Что у нас сегодня на обед?
Вот как просто живут коронованные особы.
Горностай да порфира – это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.
Усадьба и городская квартира
Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность, России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа – все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.
Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками:
– Да, что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его – сколько ни тащат, все растащить не могут…
Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:
– Грабь награбленное.
Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей – «марухам» и «шмарам».
А старая Россия не грабила; она накапливала.
Закрою я глаза – и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой…
Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий, ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского – такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.
Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые…
А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.
Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:
– Обедали?
И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен…
Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоянной на молодых остропахнущих листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка…
– А вы пока маринованных грибков – домашние! И вот рыбки этой – из собственного пруда… А квасом – прямо говорю – могу похвастаться; в нос так и шибает – сама жена у меня по этому делу ходок…
Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.
– Эй, – кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. – По случаю приезда дорогого гостя – выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату…
В моей комнате уже зажжена лампа… Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели…
– Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу – вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная… Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.
Я один… Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский…
Почитаю…
Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки…
Все задремывает… И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе – все спит – плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется…
С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего…
Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.
* * *
А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.
Ясно, что, когда с квартиры съезжают, она какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф… В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.
Переехала сюда «новая власть»… Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков…
Переехали – даже комнат не подмели…
На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.
На стене на огромных крюках – ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.
Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплющенную голову селедки…
Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.
А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»…
Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.
Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.
Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь – сутки прочь.
Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три…
Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.
Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.
Неприютно живет, по-собачьему.
Таков новый хозяин новой России.