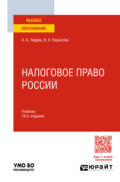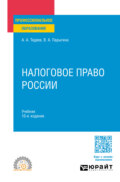Астамур Анатольевич Тедеев
Финансовое право России
Автор:
Тедеев А. А., доктор юридических наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры государственного аудита Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Центра сравнительного правоведения Университета МГУ – ППИ в Шэньчжэне (КНР), главный научный сотрудник Центра сравнительного государствоведения Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
Рецензенты:
Грачева Е. Ю., доктор юридических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный юрист РФ, заведующая кафедрой финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), председатель Экспертного совета по праву и политологии Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ;
Степашин С. В., доктор юридических наук, профессор, государственный советник юстиции РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель попечительского совета Фонда развития территорий, Председатель Правительства РФ (1999 г.), Председатель Счетной палаты РФ (2000–2013 гг.);
Тосунян Г. А., академик Российской академии наук, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент Ассоциации российских банков, учредитель Национального исследовательского института доверия, достоинства и права, сопредседатель Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества Отделения общественных наук Российской академии наук;
Шевелева Н. А., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета, член Общественного совета при ФНС России.
© Тедеев А. А., 2024
© ООО «Проспект», 2024
Принятые сокращения[1]
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
АН СССР – Академия наук СССР
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
МВФ – Международный валютный фонд
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
млн – миллион
млрд – миллиард
МРОТ – минимальный размер месячной оплаты труда
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
орд. – ординарный
ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
п. – пункт(-ы)
подп. – подпункт(-ы)
РАН – Российская академия наук
РГ – Российская газета
РФ – Российской Федерации
ред. – редакция
руб. – рубль(-ей)
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
см. – смотри
ст. – статья(-и)
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в дейст. ред.)
ФАТФ – Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
ФНС – Федеральная налоговая служба Российской Федерации
ФТС – Федеральная таможенная служба Российской Федерации
ч. – часть(-и)
ЦБ РФ, Банк России – Центральный банк Российской Федерации
Предисловие
Студентка нашего Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Shenzhen MSU-BIT University, г. Шэньчжэнь, КНР) как-то поделилась с нами красивой китайской притчей[2]. Как известно, в китайском языке есть устойчивые обороты, мудрые изречения, содержащие глубинный смысл – чэнъюй (буквально: «готовое выражение», чаще всего из четырех иероглифов). Большинство чэнъюй берет свое начало из классических литературных произведений.
Одна из таких популярных китайских идиом: «Изысканные мелодии редко поют хором» (кит. – 曲高和寡). Так говорят, например, о книгах, тематика которых доступна пониманию узкого круга ценителей – экспертов или специалистов. Ее происхождение уносит нас глубоко в историю этой древней страны, в эпоху Борющихся царств.
Согласно этому преданию, из книги «Вэнь сюань» («Избранные произведения изящной словесности», 501–531 гг.), в царстве Чу жил видный писатель Сон Ю, поведение которого не всегда соответствовало устоявшимся нормам этикета. Правитель царства Сянван вызвал его во дворец и потребовал объяснений. Сон Ю не стал ничего отрицать.
Получив разрешение объясниться, он поведал: «Несколько дней назад я увидел в Ин (столица царства Чу, ныне г. Цзянлин, провинция Хубэй, КНР) на рынке поющего человека не из наших мест. Когда он пел народную песню, которая называлась “Песня деревенского бедняка”, ему подпевали несколько тысяч слушающих. Когда же он запел про “Лук в росе на южном склоне гор”, то уж нашлись лишь сотни человек, ему подтягивавших в тон. Когда затем он начал петь про “Солнце, и весну, и белый снег”, то лишь десятки человек – отнюдь не более того – ему подтягивать могли. В конце же своего выступления певец исполнил еще более изысканную песню – на ноте шан – и ударял на ноту юй, и в них вмешал поток нот чжи. Поддержать его пением смогли лишь несколько человек. Что это означает? Чем сложнее и изысканнее песня, тем меньшее число людей ее знают и понимают…»[3]
Так уж сложилось, что и в России, и во всем мире вопросы финансового права относятся к числу едва ли не самых сложных для изучения среди всех дисциплин, формирующих корпус профессиональной подготовки современного юриста. В таких условиях огромное значение приобретает учебная финансовая литература. Хочется надеяться, что и наше небольшое руководство поможет чуть большему кругу будущих правоведов разобраться в тонкостях «финансовой мелодии».
Выражаем глубокую благодарность рецензентам: заведующей кафедрой финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), председателю экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, заслуженному юристу РФ, д-ру юрид. наук, профессору Елене Юрьевне Грачевой, сопредседателю Ассоциации юристов России, председателю попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», Председателю Правительства РФ (1999), председателю Счетной палаты РФ (2000–2013), государственному советнику юстиции РФ, д-ру юрид. наук, профессору Сергею Вадимовичу Степашину, президенту Ассоциации российских банков, учредителю Национального исследовательского института доверия, достоинства и права, сопредседателю Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества Отделения общественных наук Российской академии наук, академику РАН, заслуженному деятелю науки РФ, д-ру юрид. наук, канд. физ. – мат. наук, профессору Гарегину Ашотовичу Тосуняну, заведующей кафедрой административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета, члену Общественного совета при ФНС России, д-ру юрид наук, профессору Наталье Александровне Шевелевой.
В работе учтены отдельные критические замечания заместителя президента – председателя правления банка «Открытие», первого заместителя министра финансов РФ (2012–2021), руководителя Федерального казначейства (Казначейство России) (2005–2007), заслуженного экономиста РФ, канд. экон. наук Татьяны Геннадьевны Нестеренко, директора международного научно-образовательного центра «Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», советника президента РФ (2010–2019), министра печати и информации РФ (1992–1993), заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, профессора Михаила Александровича Федотова и директора Центра развития международных научно-образовательных кампусов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заместителя Председателя Правительства РФ (1991–1992, 1992–1994, 1994–1996), государственного советника РФ по правовой политике (1991–1992), заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, профессора Сергея Михайловича Шахрая.
В результате изучения курса «Финансовое право» студент должен:
знать, почему необходимо изучать эту юридическую дисциплину; определение понятия финансового права; финансовое законодательство; международные акты в сфере финансовых отношений; предмет, метод, принципы регулирования финансового права; основные этапы развития финансово-правовой науки;
уметь анализировать финансовое законодательство и практику его применения; следить за развитием науки финансового права; давать экспертные заключения по вопросам применения норм финансового законодательства;
владеть финансово-правовой терминологией, навыками работы с источниками финансового права и их анализа.
Перспективы развития основных аспектов финансового права России в условиях необходимости цифровой трансформации государственного управления рассматриваются в учебнике на основе новейших нормативных правовых актов.
Общая часть
Раздел I. Финансовая деятельность и финансовое право
Глава 1. Правовые основы финансовой деятельности
1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований
Финансовое обеспечение деятельности государства является важной составляющей государственного суверенитета и необходимо для обеспечения выполнения государством и его органами требующихся для поддержания такого суверенитета публичных социальных, политических, экономических, охранительных и иных внутренних и внешних функций. При этом, бесспорно, «управление при помощи денег является наиболее эффективным регулятором общественных отношений. Направляя потоки денежных средств для образования денежных фондов, которые затем используются на нужды общества, государство таким образом стимулирует или, наоборот, ограничивает деятельность в определенных сферах»[4]. Воистину публичную власть дают деньги, а для денег нужна власть…
Как известно, государственный бюджет существует столько же времени, сколько и само государство[5].
Сосредоточиваемые государством денежные средства, предназначенные для удовлетворения потребностей, связанных с выполнением функций государства, составляют государственные финансы[6].
Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами, дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений – важные задачи на современном этапе развития взаимоотношений между органами власти всех уровней по вопросам оказания государственных услуг в Российской Федерации[7]. При этом, как отмечается, первоосновой современных государственных финансов выступает наличие собственника в лице государства, права и обязанности которого по отношению к гражданам определены в главном законе страны (Конституции РФ): государство гарантирует права граждан и принимает на себя определенные обязательства (в том числе социального характера – здравоохранение, образование, и др.), с другой стороны, государство обладает определенными правами (например, фискальными – на взимание налогов). При наличии определенных активов и пассивов государству необходим бюджет как инструмент управления ими, главное назначение которого – с помощью финансовых средств создать условия для эффективного развития экономики и решения общегосударственных задач[8].
Отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных образований, то есть отношения, которые в экономической науке именуются отношениями по поводу публичных (государственных и муниципальных) финансов, традиционно регулируются соответствующей отраслью отечественного права – финансовым правом. Соответственно, отношения, складывающиеся в сфере частных финансов, регулируются другими отраслями российского права, в первую очередь нормами гражданского права.
Процесс постепенного становления, а затем и оформления русского финансового права как самостоятельного отдела отечественной дореволюционной юриспруденции прослеживается с начала, но особенно рельефно со второй четверти XIX в.
Необходимо напомнить, что в XIX в. Россия вошла с совершенно расстроенными финансами: существенный государственный долг (внутренний и внешний долг к этому времени составил 133 млн руб., при годовом бюджете порядка 100 млн руб.[9]), непомерная тяжесть податного обложения, хроническое казнокрадство, растраты и бюджетный дефицит, полная неупорядоченность сметно-бюджетного дела, стремительное обесценивание бумажных денег (ассигнаций). Проблемы эти накапливались постепенно. Например, об уровне финансовой «дисциплины» в Российском государстве при Елизавете Петровне (1709–1761 гг., на императорском престоле с 1741 г.) свидетельствуют следующие воспоминания. «В ее покоях после ее смерти нашли, по слухам, денег и драгоценностей на три или четыре миллиона рублей, что составляло примерно годовой бюджет страны. Все это хранилось вперемешку с засохшей снедью и всякого рода личными раритетами (в числе которых были и собственноручные записи Петра Великого). Еще 160 тысяч рублей были на хранении у Ивана Шувалова, который немедленно передал их новому императору»[10]. За время царствования Екатерины II (1729–1796 гг., императрица Всероссийская с 1762 г.) бюджетные расходы России повысились в 4,3 раза, тогда как население выросло несколько меньше, чем вдвое. Впервые в истории России это царствование «оставило нам внутренние и внешние государственные долги. Сумма и тех и других превысила 200 000 000 руб., то есть равнялась трем средним бюджетам последней половины царствования…»[11].
Поэтому при императоре Александре I (1777–1825 гг., на престоле с 1801 г.). предпринимаются энергичные поиски практических рецептов упорядочения финансовой политики. Однако во многом именно слабость научной и экспертной проработки (но чаще фактическое отсутствие оной), а потому разновекторность и несистемность предпринимавшихся усилий не позволила переломить ситуацию, состояние государственных финансов России становилось все более тревожным. Напомним, в рассматриваемый период государственная финансовая политика отличалась секретностью всех бюджетных параметров и отсутствием эффективных контрольных механизмов. Вплоть до финансовой реформы 1862 г. «финансы, т. е. бюджет, его размер и положение, доходность налогов и монополий казны – все это составляло предмет непроницаемой государственной тайны»[12]. В значительной степени на дальнейшее расстройство государственных финансов влияли войны. Но и в мирные периоды отечественных чиновников, укрывающихся под удобным пологом «строжайшего государственного секрета», вряд ли удастся заподозрить «в природной стыдливости», бережливом расходовании государственных средств и соблюдении бюджетных росписей. Только с 1801 по 1809 г. сверх сметы было израсходовано 390 374 166 руб., при этом дефицит бюджета 1809 г. достиг 157 505 091 руб. (т. е. превысил годовой доход бюджета), а общий бюджетный дефицит за этот период времени составил 442 718 137 руб.[13] «Если бы бюджет сделан был гласным, – писал современник о сановниках той эпохи, – царские нахлебники перестали бы обкрадывать казну, не могли бы уже опустошать ее…»[14] В таких условиях сколько ни будь серьезная теоретическая и экспертная проработка предпринимаемых практических усилий была крайне затруднена. Одним из первых, пагубность такого подхода для совершенствования государственного управления осознает едва ли не самый выдающийся из государственных деятелей того времени – М. М. Сперанский.
Состояние государственных финансов России в первое десятилетие XIX в. стало для правящих кругов, очевидно, плачевным, и напряженность ситуации только нарастала (ежегодно расходы бюджета в среднем на 1/3 превышали государственные доходы[15]). Поэтому, как это часто и бывает, осознанная власть имущими в качестве насущной государственная потребность в смене финансовых вех дает важный толчок развитию финансово-правовой науки.
М. М. Сперанскому в частных беседах удается убедить монарха, что имеющееся положение финансов происходит от тех ложных начал, на которых ранее велось управление ими. Вследствие этого в ноябре 1809 г. государь поручил ему составить «определенный и твердый план финансов». Принципиально важно подчеркнуть, что подготовка этого документа потребовала существенного переосмысления, имевшегося в багаже финансовой науки теоретического и практического знания. Финансовое поприще для Сперанского являлось новым[16], поэтому он образовал «особый комитет из 3 лиц, известных своими финансовыми познаниями, а именно из Балугьянского — Профессора Педагогического Института по части политической экономии, финансов и публичного права, Вирста, известного в то время своими финансовыми сочинениями и Якоби, Профессора Харьковского университета, написавшего сочинение о банках. Но совокупный их труд не удовлетворил Сперанского»[17]. В основу итогового документа была положена ранее представленная записка М. А. Балугьянского[18] (она была на французском, Сперанский перевел и существенно переработал ее, обстоятельно дополнив). После существенной доработки «записка была обсуждена при участии Графа Северина, Адмирала Николая Мордашова, Графа Кочубея, Кампенгаузена, и Балугьянского. Наконец она подверглась еще официальному пересмотру в особом Комитете»[19]. В конце 1809 г. «План финансов» был представлен императору[20] и утвержден высочайшим манифестом от 2 февраля 1810 г. При реализации намеченных изменений М. М. Сперанский придавал первостепенное значение формированию законодательной базы. Одной из главных задач он считал систематизацию действующих правил и российских нормативных актов о бюджетной системе[21].
Однако, как известно, правящим кругам в первое пятидесятилетие XIX в. не только не удалось оздоровить государственные финансы и создать рациональную бюджетную систему, но и предотвратить их дальнейшее ухудшение[22]. При этом необходимо учитывать, что тяжелое влияние на финансовое положение России оказала Отечественная война 1812 г. Она не только навалилась на бюджет ощутимым бременем, ухудшила и без того слабую бюджетно-сметную дисциплину, разрушила денежное обращение, но и в целом расстроила механизм финансового хозяйства страны.
Окончательно сложилось русское финансовое право к 1860–1870-м годам, когда развитие народного хозяйства вызвало потребность в соответствующих научных разработках, теоретических обоснованиях, практических советах. Если ранее при относительной простоте государственного регулирования экономики еще можно было управлять финансами эмпирическим путем, то расширение свободного рынка, усложнение экономических отношений вызвало надобность в правовом оформлении финансовых отношений и деятельности финансового аппарата[23]. Важной вехой стала реформа 1862 г., особенно в части отказа вслед за рядом европейских государств от принципа секретности бюджета.
В литературе иногда указывается[24], что само наименование отрасли (финансовое право), было впервые упомянуто в 1868 г. профессором Московского университета Ф. Б. Мильгаузеном[25] в названии литографического курса его лекций[26]. Справедливости ради необходимо учитывать, что это не совсем так.
Во-первых, указанный курс был издан по лекциям, но скорее вопреки воли профессора. Свидетельство тому находим в воспоминаниях о Федоре Богдановиче Мильгаузене его (в тот период) студента в Московском университете, а потом – прославленного академика И. И. Янжула[27]: «За исключением одной лишь актовой речи о подоходных налогах (но в которой, я должен теперь сознаться, я ему несколько помогал), он решительно не написал ни одной печатной строки в жизни. Его страшила даже самая мысль что-нибудь печатать»[28] (кафедру финансового права он занял без диссертации[29]).
Кроме того, необходимо учитывать и то обстоятельство, что вышедшая ранее, еще в 1855 г., работа профессора Императорского Казанского университета Е. Г. Осокина[30] называлась «Несколько спорных вопросов по истории русского финансового права»[31]. Так очевидно, что в приведенных случаях наименование отрасли не было новеллой. Уже не говоря о том, что имелись литографированные курсы и других профессоров[32], а в предисловии ко второму изданию «Теории финансов» И. Я. Горлова[33] (1845 г.) читаем: «Некоторые упрекали меня в том, что я мало говорю об отечественном финансовом законодательстве. <…> Потому считаю обязанностью здесь заметить, что в университетах наших финансовое право России преподается отдельно от его теории, что систематическое, полное изложение этого права в других лекциях налагало на меня обязанность знакомить своих слушателей с постановлениями иноземными, а не повторять им уже известное»[34].
В третьих, необходимо вспомнить, что уже за несколько лет до выхода курса Ф. Б. Мильгаузена, в 1863 г., Университетский устав (действие распространялось на пять существовавших к тому времени университетов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский и Киевский) предусматривал на юридическом факультете «следующие кафедры: <…> 10) Финансовое право: а) Теорія Финансовъ. б) Русское финансовое право» (параграф 15)[35]. В следующем, Университетском уставе 1884 г., также предписывалось, что «в юридическом факультете полагаются следующие кафедры: <…> 9) Финансовое право;» (п. 57)[36].
Кстати, именно поэтому с 1863 г. нередко связывают официальное возникновение и существование русского финансового права («царского финансового права») как отрасли и учебной дисциплины[37] (что, как выше было показано на примере работ И. Я. Горлова и Е. Г. Осокина, не совсем точно). Строго говоря, необходимо учитывать, что первая отечественная финансово-правовая кафедра – кафедра законов о государственных повинностях и финансах – была образована на отделении нравственных и политических наук Московского университета в 1835 г. (она и будет в 1863 г. переименована в кафедру финансового права в связи с требованиями нового Университетского устава). Курс финансового права в Московском университете[38] читали Н. С. Васильев[39], а затем Ф. Б. Мильгаузен.
В современной экономической литературе генезис финансового права схематично представляется следующим образом. Традиционная (классическая) финансовая наука возникла в Германии на основе камералистики – науки об управлении имуществом государства и публичных союзов. Затем эти воззрения были восприняты в царской России. Далее указывается: «сегодняшний уровень экономических знаний позволяет утверждать», что одним из первых российских представителей этой немецкой традиционной (классической) финансовой школы был И. Я. Горлов – автор, как считается, первого в России учебника по теории финансов[40]. Точная дата написания этой рукописи неизвестна. Впервые книга вышла в 1841 г. (в Казани)[41], переиздана в 1845 г. (в Санкт-Петербурге)[42]. Также достаточно широко была известна его рукопись «Финансовое право» (точная дата ее написания также неизвестна, но считается, что она была подготовлена в шестидесятые годы XIX в.). В этот период от теории финансов постепенно стала отделяться новая отрасль знаний – русское финансовое право. Научная позиция русской профессуры (и в том числе И. Я. Горлова) в целом соответствовала взглядам немецкого ученого К. Г. Pay[43]. Крупнейшая работа Рау «Учебник политической экономии» (Lehrbuch der politischen Oekonomie [1826–1837]), состояла из трех частей по числу томов (теоретическая экономика, экономическая политика (Volkswirthschaftspolitik) и наука о финансах), была переведена на многие европейские языки. Издание последней части на русском языке под названием «Основные начала финансовой науки» (СПб., 1867–1868) имело для отечественной науки существенное значение. Как отмечает В. М. Пушкарева, этот учебник («Основные начала финансовой науки») «служил основным пособием по финансовой науке в течение почти полувека не только в Германии, но и в других странах» и оказал огромное влияние на отечественную дореволюционную финансовую литературу[44]. Н. Г. Чернышевский иронически характеризовал учебник Рау как книгу, «неоценимую для приискивания справок и цитат»[45]. Более того, сегодня считается, что именно эти традиционные постулаты Рау стали исходными для сформировавшейся в 1930-е годы советской финансовой школы[46].
Таким образом, на протяжении всего XIX в. и в начале XX в. финансовая наука и финансовое право состояли и изучались в неразрывном единстве. Не случайно И. Т. Тарасов[47] отмечал, что «в науке финансового права правовой, политический и экономический элементы нераздельны. В ней анализ законов хозяйственных явлений и анализ правовых норм идут рука об руку. Эта наука учит не только тому, что есть и почему оно происходит, но тому, что в этой области согласно с экономическими законами, с значением и целью государства и с понятиями о правде и справедливости»[48]. В своих воспоминаниях академик И. И. Янжул подчеркивает, что один и тот же профессор в разные годы мог читать один и тот же курс под разными названиями – то наука о финансах, то финансовое право… Например, в литературе отмечается, В. А. Лебедев[49] «читал по своему учебнику один и тот же курс лекций под следующими названиями: «Финансовое право», «Теория финансов», «Теория финансов и русское финансовое право, сравнительно с финансовым законодательством главных европейских государств»[50]. Э. Н. Берендтс[51] писал, что, помимо «понятия “наука о финансах” (финансовая наука), употребляется и название “наука о государственном хозяйстве”, и, наконец, “наука о финансовом праве” (или просто “финансовое право”)»[52]. Грешит этим и сам прославленный академик. В предисловии и к первому выпуску, и ко второму и третьему изданиям его фундаментальных «Основных начал финансовой науки» читаем: «Настоящий труд представляет собой сокращенный курс лекций, читанных в Московском университете. Цель автора – доставить студентам пособие и руководство при изучении финансового права и взамен литографированных его изданий»[53] (выделено нами. – А. Т.).
Приведенный пример далеко не исключение. Известная книга И. Я. Горлова, о котором мы упоминали выше, напомним, поименована «Теория финансов». Между тем уже в предисловии читаем: «Настоятельная нужда в руководстве для университетских слушателей побудила меня в 1841 г. издать сие сочинение. <…> Некоторые упрекали меня в том, что я мало говорю об отечественном финансовом законодательстве <…> Поэтому считаю обязанностью здесь заметить, что в университетах наших финансовое право России преподается отдельно от теории, что систематическое, полное изложение этого права в других лекциях налагало на меня обязанность знакомить своих слушателей с постановлениями иноземными, а не повторять им уже известное»[54].
Таким образом, в рассматриваемый период времени термины «финансовая наука», «наука о финансах» и «финансовое право» использовались как равнозначные. Соответственно, облекшись в форму законодательных предписаний, уставов и т. д., указания «финансовой науки делаются для всех обязательными и составляют финансовое право»[55]. При этом Е. Ю. Грачева специально отмечает, что для содержания первых дореволюционных учебников по финансовому праву характерно сочетание собственно правовой материи с изложением экономической сути рассматриваемых явлений. Поскольку экономика и право соотносятся как содержание и форма, рассмотрение правовой формы нельзя отрывать от экономического содержания явления, облекаемого в эту правовую форму[56]. Современные исследователи-экономисты подчеркивают, что, хотя некоторые русские дореволюционные профессора финансового права разделяли эти понятия, все-таки и в это время, и в дальнейшем смешение понятий «финансовая наука» и «финансовое право» имело существенное распространение[57].
А что же юридическая сторона вопроса? Существует точка зрения, согласно которой, отпочкование юридической части финансовой науки (от экономической части) и оформление ее в самостоятельную отрасль права (финансовое право в собственном смысле слова) произошли значительно позже и завершились уже в советский период истории финансового права[58]. Однако необходимо учитывать, что в дореволюционный период среди русской профессуры отраслевая самостоятельность и самоценность финансового права дискуссий практически не вызывала (как ниже будет показано, исключение составлял лишь профессор Демидовского юридического лицея М. Н. Капустин[59] – единственный, отказывавший финансовому праву в самостоятельном существовании). Например, А. И. Кранихфельд[60] определял финансовое право как совокупность правил, которыми руководствуется правительство данного государства при удовлетворении государственных нужд, при этом общие правила теории видоизменяются сообразно потребностям конкретного государства, так что позитивное (то есть действующее) законодательство выходит из пределов, устанавливаемых чистой теорией[61]. Позднее И. И. Янжул определил финансовое право как совокупность законодательных постановлений о финансовом устройстве и финансовом управлении государства. Академик писал, что финансовое право изучает на основании опыта, как государство добывает и тратит свои материальные средства, в то время как финансовая наука изучает на основании опыта, как государство должно добывать и тратить, то есть финансовая наука и финансовое право соотносятся как теория и практика[62]. И. И. Патлаевский[63] рассматривал финансовое право как практическое, более или менее удачное применение положительной науки финансов к условиям данного государства, облеченное в форму закона[64]. В учебнике В. А. Лебедева финансовое право понимается как облеченные в законодательную форму правила существования финансового хозяйства, то есть нормы, в соответствии с которыми осуществляется хозяйственная деятельность государства, направленная на приобретение требуемых ему материальных средств[65]. Приведенные примеры могут быть продолжены.
Вышеуказанное позволило современным исследователям отмечать, что в дореволюционной литературе соотношение финансовой науки и финансового права понималось как соотношение чистой теории и законодательства либо содержания и формы[66].
В первой же советской работе по финансовой науке подчеркивалось, что, хотя в существующей на тот момент литературе различий между финансовой наукой и финансовым правом нередко не проводилось, основания к тому все же имелись. «Обычно эти два предмета переплетаются в одном и том же учебнике. На самом деле гораздо правильнее провести разделение их, разграничить сферу этих двух предметов. Финансовое право – это есть не что иное, как изучение совокупности законодательных постановлений о финансовом устройстве, о финансовом управлении данного государства, т. е. другими словами говоря, финансовое право показывает, как государство на самом деле добывает те или иные средства, дает юридическую, догматическую оценку финансового устройства государства, между тем как финансовая наука рассматривает правила, каким образом должны добываться данные средства, каким образом они должны расходоваться. Другими словами говоря, финансовая наука, на основании существующего материала, выводит те или иные законы, которыми нужно руководиться при финансовой практике. В этом смысле финансовая наука дает необходимые указания финансовой практике и, в частности, финансовому праву. Поэтому правильнее было бы <…> разграничить сферу этих родственных предметов… Но финансовое право рассматривает это с точки зрения положительной, с точки зрения догмы, финансовая наука рассматривает как должно быть, на основании тех материалов, которые она получает из практики»[67].