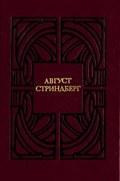Август Юхан Стриндберг
Исповедь глупца
После визита мы отправились погулять в прекрасный весенний вечер.
Будучи в мефистофельском настроении духа, а также из желания отомстить за ту скучную роль доброго товарища, которую я должен был играть, я признался ей, что почти уже помолвлен; принимая во внимание, что я в это время сильно ухаживал за одной девушкой, это было ложью только наполовину.
Тогда она взяла на себя роль бабушки, начала сокрушаться о молодой девушке, расспрашивать об ее характере, внешности, положении. Я набросал ей портрет, могущий возбудить в ней ревность. После этого разговор стал более односложен. Действительно, интерес ее ко мне упал, так как ангел-хранитель увидал перед собой соперницу в деле спасения моей души. Мы расстались, не рассеяв незаметно установившейся между нами холодности.
На следующий день разговор вращался все время около любви и моей воображаемой невесты.
После того, как мы целую неделю ходили по театрам, концертам, совершали прогулки, она незаметно стала поверенной моей жизни, наши ежедневные встречи обратились в твердую привычку, от которой я не мог освободиться.
Возможность пользоваться разговором с хорошо образованной женщиной доставляет почти чувственное наслаждение, это было соприкосновение душ, ласки умов, наслаждение чувств.
Однажды утром она была совершенно вне себя; она прочла мне отрывки из письма, полученного накануне от жениха; он бесился от ревности. Теперь она призналась мне, что поступала против указаний жениха. Справедливо предчувствуя, что дело примет дурной оборот, он рекомендовал ей быть как можно осторожнее по отношению ко мне.
– Я не понимаю такой сильной ревности, – презрительно сказала она.
– Потому что вы не понимаете любви, – ответил я.
– Ах, эта любовь!
– Эта любовь, сударыня, есть дошедшее до высшей точки чувство собственности, а ревность – это боязнь потерять ее.
– Собственность! Вот еще – собственность!
– Обоюдная собственность, видите ли. Каждый взаимно владеет другим.
Она не хотела понимать такого рода любви; любовь – это чувство бескорыстное, возвышенное, целомудренное, неописуемое!
Короче говоря, она не любила своего жениха, который, как я понял из ее слов, был безумно влюблен в нее.
Она рассердилась и откровенно призналась, что никогда не любила его.
– И вы все-таки выходите за него замуж?
– Потому что он погибнет без меня.
Опять спасение души!
Она была так раздражена, что начала уверять, что она с ним даже не помолвлена.
Так, значит, мы оба солгали. Это дает мне надежду!
Мне не оставалось ничего другого, как быть тоже откровенным и объявить, что моя помолвка была выдумкой; теперь зависело от нас воспользоваться нашей свободой.
Ревность ее пропала, и старая игра началась сначала. Я послал ей письменное объяснение в любви, которое она переслала своему жениху. Он не замедлил в следующем же письме осыпать меня грубой бранью.
Тогда я обратился к красавице с просьбой объясниться и выбрать одного из нас. Но она остерегалась это сделать; она была готова выбрать нас обоих, трех, четырех, видеть как можно больше у своих ног и просила только позволения втайне боготворить.
Она была настоящей кокеткой, помешанной на мужчинах, целомудренной полиандристкой!
Но я был совершенно ослеплен, у меня не было ничего лучшего, уличная любовь опротивела мне, а моя одинокая каморка нагоняла на меня тоску.
Незадолго до ее отъезда я пригласил ее посетить библиотеку, я хотел ослепить ее, показать себя в обстановке, которая должна была поразить крошечные мозги высокомерной птички. Я водил ее из галереи в галерею и выставлял на вид все свои библиографические познания; я заставлял ее восхищаться миниатюрами, рисунком букв средних веков, автографами великих людей; я цитировал великие исторические события, запечатленные в манускриптах и старопечатных книгах, и она чувствовала себя подавленной в своем ничтожестве.
– Да ведь вы ученый! – воскликнула она.
– Разумеется, сударыня.
– Бедный певец, – пробормотала она.
Я думал, что таким путем я выбью певца из позиции. Не тут-то было! Актер грозил мне в письмах револьвером, обвинял меня, что я отнял у него невесту, доверенную моим попечениям. Я же старался дать ему понять, что я ничего не украл у него, потому что он не владел ничем, что он мог бы отдать на хранение. На этом переписка кончилась, и воцарилось угрожающее молчание.
Приближался день отъезда. Накануне вечером я получил от моей красавицы взволнованное письмо, в котором она сообщала мне приятную новость. Она прочла мою трагедию нескольким особам из высшего круга, близко стоящим к театру. Мое произведение произвело на этих особ сильное впечатление, и они льстили себя надеждой познакомиться с автором. Подробности она расскажет мне при свидании. В назначенный час отправились мы с ней по магазинам, где она делала свои последние закупки; она все время говорила о моей драме, но, не видя с моей стороны никакой склонности к протекции, она прибегла к другому способу, чтобы убедить меня.
– Мне противно, милое дитя, стучаться к чужим людям и болтать обо всем, кроме самого главного. Я должен идти к ним, как нищий, и клянчить.
Я только что начал красноречиво излагать свою мысль, как вдруг она остановилась против элегантной, прекрасно одетой, стройной дамы.
Она представила меня баронессе У., которая сказала мне несколько слов, заглушенных шумом улицы. Я пробормотал несколько бессвязных слов, раздраженный, что меня хитростью заманили в ловушку. Это несомненно было условлено заранее.
На прощанье баронесса повторила свое приглашение, подсказанное ей фрекен X.
В баронессе меня больше всего поразило свежее, как у ребенка, лицо, несмотря на ее двадцать пять лет. У нее была головка школьницы, маленькое личико, окаймленное белокурыми, непокорными, золотистыми волосами, плечи принцессы, талия гибкая, как рукоятка хлыста, ее манера наклонять голову говорила об откровенности, любезности, рассудительности. Можно ли допустить, чтобы эта девственная мать могла безнаказанно наслаждаться моей трагедией! Она была замужем за гвардейским полковником, и у нее была трехлетняя девочка. Она питала большую склонность к сцене, но высокое положение ее мужа не давало ей возможности выступить, тем более что ее тесть только что получил звание камергера.
Так обстояло дело, когда мой майский сон исчез вместе с пароходом, увозившим мою красавицу к ее актеру. Теперь он вступил в мои права, и ему, наверно, было приятно читать мои письма к его невесте в отместку за такое же мое поведение: в последнее время мы всегда читали его письма вместе. И даже на пристани, в минуту нежного расставания, она умоляла меня как можно скорее посетить баронессу. Это были ее последние слова.
На месте этих невинных мечтаний, так непохожих на дикую любовь ученой богемы, воцарилась пустота, которую надо было чем-нибудь заполнить. Тесная дружба с женщиной своего круга, соединение двух личностей с одинаковыми взглядами доставляли мне драгоценное наслаждение, которого я давно был лишен, благодаря ссоре с родными.
Стремление к семейной жизни, подавленное вечным пребыванием в кафе, снова проснулось, благодаря общению с простой, но в общепринятом смысле вполне приличной женщиной. И вот вечером, часов в шесть, я стоял у ворот дома в Северной Аллее.
Какое совпадение! Это был когда-то дом моих родителей, где я прожил жесточайшие годы моей жизни, где я пережил все внутренние бури возмужалости, первое причастие, смерть матери и прибытие мачехи. Охваченный внезапным недомоганием, я испытывал искушение повернуть назад и бежать отсюда, я боялся снова обрести все страдания моей юности. Передо мной лежал знакомый двор, могучий ясень, расцвета которого я так ждал некогда каждую весну, мрачный дом на краю глубокого песчаного оврага, угрожавший обвал которого вызвал понижение наемной платы.
Но, несмотря на эти грустные воспоминания, я овладел собой, вошел, поднялся наверх и позвонил. Мне казалось, что отец по-прежнему отворит мне дверь. Но появилась горничная и прошла вперед доложить обо мне. Вслед за ней вышел барон и встретил меня как нельзя более сердечно. Это был человек лет тридцати, сильный и большой, с благородной осанкой, с манерами настоящего светского человека. На его крупном, несколько отекшем лице светились голубые глаза, имевшие несколько тусклое выражение, как и его улыбка, принимающая горькую складку и говорящая о разочаровании и неудавшихся планах.
Гостиная, наша прежняя столовая, была обставлена в несколько небрежном, художественном стиле. Барон носил имя одного из знаменитых генералов, нечто в роде Кондэ или Тюренна его родины; ему удалось собрать фамильные портреты эпохи 30-летней войны в белых кирасах и париках а la Людовик XIV; они выглядели несколько странно среди ландшафтов дюссельдорфской школы.
Там и тут стояла старая, переделанная вызолоченная мебель вперемежку с современными стульями и пуфами. Все углы были заставлены, все дышало уютностью, миром и домовитостью.
Вошла баронесса, она была очаровательна, сердечна, проста и любезна. Но на их лицах я прочел какое-то смущение и замешательство, причину которых я скоро открыл. По голосам, доносившимся из соседней комнаты, я понял, что у них гости; я извинился, что пришел не в урочный час. У супругов были в гостях родственники, сошедшиеся на партию виста, и через несколько минут я уже сидел в семейном кругу: камергер, полковник Д., мать и тетка баронессы. Как только старики уселись за карты, мы, представители молодежи, занялись беседой. Барон говорил о своей любви к живописи; благодаря стипендии Карла XV, он кончил курс в Дюссельдорфе. Таким образом между нами нашлась точка соприкосновения, потому что я тоже был когда то стипендиатом этого короля, но только на литературном поприще. Разговор шел о живописи, театре и личности нашего покровителя. Но наша беседа начала постепенно охладевать, потому что старики время от времени вмешивались в наш разговор, касались острых вопросов, терзали едва закрывшиеся раны, так что под конец я почувствовал себя в этом разнородном обществе чужим и отвергнутым. Я встал и простился. Барон с баронессой проводили меня в переднюю и здесь, далеко от стариков, они, по-видимому, сняли свои маски и пригласили меня в следующую субботу обедать в тесном семейном кругу. После короткого разговора на площадке лестницы мы расстались добрыми друзьями.
В назначенный день я отправился к трем часам в Северную Аллею. Хозяева встретили меня как старого испытанного друга и, не задумываясь, посвятили меня в интимную сторону своей жизни. Обед прошел в обмене откровенностей. Барон, не разделявший взглядов своих товарищей по службе, принадлежал к партии недовольных, созданной правлением нового короля. Завидуя победоносной популярности своего брата, новый властелин заботливо отстранял все, что с любовью выращивал его предшественник, так что друзья старого режима, с их свободной откровенностью, терпимостью, стремлением к прогрессу, образовали группу оппозиции, не вмешивавшуюся, впрочем, в мелочную борьбу выборов.
Перебирая воспоминания прошлого, мы сошлись во взглядах, и все мои прежние мещанские предрассудки против дворянства, поколебавшиеся со времени парламентской реформы 1865, теперь вполне рассеялись и превратились в сочувствие павшему величию. Баронесса, родившаяся в Финляндии и только недавно выехавшая оттуда, сначала не принимала участия в нашем дружеском разговоре. Но когда обед кончился, она села за фортепиано и сыграла несколько песен; барон и я показали себя непризнанными талантами в дуэте Веннерберга. Как быстро мчались часы! Потом мы прочли маленькую пьеску, игранную недавно в Королевском театре; роли мы разделили между собою.
После различных развлечений воцарилось вдруг молчание, обыкновенно наступающее, когда люди слишком быстро стараются выказать себя, чтобы заставить себя оценить. Ко мне снова вернулось чувство подавленности, и я затих.
– Что с вами? – спросила баронесса.
– Здесь живут призраки, – объяснил я. – Вы знаете, я целые века тому назад жил в этих комнатах. Да, это было век тому назад, я так уже стар.
– И нам не удается прогнать призраков? – продолжала баронесса с материнской нежностью.
– Ах, нет, возразил барон, только одна особа в состоянии рассеять мрачные призраки. Не правда ли, ведь вы жених фрекен X.?
– Ах, барон, это был потерянный труд.
– Как, разве она помолвлена с другим?
– Вы еще спрашиваете?
– Ах, очень жаль! Эта молодая девушка настоящее сокровище и, судя по всему, она относилась к вам очень сочувственно.
Тут я снова начал бранить бедного актера. Мы вместе негодовали на злополучного певца, который принуждал бедную девушку против ее воли полюбить его. В конце концов баронесса объявила, что она все уладит во время пребывания в Финляндии, куда она вскоре собиралась съездить.
– Этого не будет, – уверяла она, преисполнившись гневом при мысли о браке, к которому хотят принудить такую прекрасную девушку, планы которой совершенно иные.
Часов в семь я поднялся и простился. Но меня так настойчиво просили остаться, что я готов был подумать, что они скучают, оставшись одни, несмотря на то, что они женаты всего три года и имеют ребенка, похожего на ангела. Вечером ждали кузину баронессы, и они хотели познакомить нас, чтобы я высказал свое мнение о молодой девушке.
Во время этого разговора, горничная подала барону письмо. Он распечатал его, прочел, не вставая, пробормотал несколько отрывистых слов и передал письмо жене.
– Это невероятно! – воскликнула она, прочтя письмо. На утвердительный кивок мужа она обратилась ко мне как к другу.
– И это моя самая любимая кузина! Представьте себе, мой дядя и тетка запрещают ей ходить к нам, потому что свет позволяет себе болтать всякий вздор о моем муже!
– Это уж слишком! – прибавил он. – Прекрасной, невинной, несчастной девушке нравится бывать у нас, молодых людей, ее единомышленников, и это дает повод к сплетням.
Может быть, они заметили скептическую улыбку на моем лице, но во всяком случае разговор охладел, наступило смущенное молчание, плохо скрытое предложением пройтись по саду.
После ужина, часов в десять, я наконец простился и, выйдя из дому, мысленно стал припоминать все, что видел и слышал в этот богатый впечатлениями день.
Несмотря на внешнее счастье супругов, несмотря на их взаимную нежность, в их жизни, несомненно, было какое-то темное пятно. Озабоченные, смущенные лица и скрытность указывали на какое-то горе и заставляли предполагать тайны, открытия которых я боялся.
Зачем, спрашивал я себя, это уединение, эта жизнь на краю предместья? Они казались мне потерпевшими кораблекрушение, – так радовались они, найдя человека, первого, который пришел к ним и которому они сейчас же раскрыли свои сердца.
Меня главным образом занимала баронесса. Я старался представить себе ее образ, но меня совершенно сбивало с толку соединение противоречивых черт характера: преисполненная добрых желаний, грациозная, упорная, энтузиастка, участливая, сдержанная, холодная, порывистая, капризная и мечтательная; она не была слишком худа, но, благодаря простым гладким платьям, ниспадающим широкими складками, как на одежде св. Цецилии, она казалась одухотворенной, как женщина византийской живописи; ее сложение говорило о чистоте линий и поразительной красоте; иногда бледные, окаменевшие черты ее маленького личика оживлялись и озарялись какой-то порывистой радостью. Мне трудно было решить, в руках кого из супругов была власть. Он, как солдат, привык командовать, но, благодаря изнеженности, он имел послушный вид, скорее по природной вялости, чем по слабость воли. Они обращались друг с другом дружески, но без пыла первой любви, и мое появление пробудило в них потребность вызвать передо мною воспоминания прошлого. Одним словом, они питались реликвиями и скучали вдвоем; доказательство – частые приглашения, посыпавшиеся на меня после первого визита.
Накануне ее отъезда в Финляндию я пришел с прощальным визитом. Был чудный июньский вечер. Я вышел на двор и вдруг увидал ее за садовой оградой у куста. Я остановился, пораженный этим невероятно прекрасным зрелищем. Она была вся в белом, пикейное белое платье, отделанное великолепным русским кружевом, алебастровое ожерелье, застежка и браслеты тоже из алебастра; ее окружало сияние, как свет фонаря, лучи которого проходят сквозь молочные стекла. К этому примешивалась зелень густой листвы, которая отбрасывала мертвенные тени на светлые и теневые блики на ее бледном лице, с горящими, как два угля, глазами. Меня охватило глубокое волненье, словно это было видение. Во мне снова поднялось глубоко дремавшее стремление поклоняться и боготворить, пустота наполнилась, потерянное религиозное чувство, потребность молитвы вернулись в новом виде. Бог был свергнут, на его месте появилась женщина; но женщина одновременно девственница и мать; и, когда я видел рядом с ней ее маленькую дочь, я не мог себе объяснить, как могло совершиться ее рождение. Взаимные отношения супругов никогда не указывали на чувственную сторону, такой бесплотной казалась мне их дружба. Для меня эта женщина была воплощением чистой, недосягаемой души, влитой в чудное тело, как приписывает это святое писание умершим душам. Одним словом, я поклонялся ей, не стремясь к ее обладанию. Я боготворил ее такою, как она была; как жену и мать, и так, как она была – как жену этого человека, как мать этого ребенка. И поэтому для того, чтобы наслаждаться счастием поклонения, присутствие ее мужа являлось мне существенно необходимым. Ведь без мужа, думалось мне, она будет вдовой, а я неуверен, буду ли я тогда боготворить ее. Может быть, как мою жену? Нет! Во-первых, мне и в голову не приходила такая богохульная мысль; потом, выйдя за меня замуж, она перестала бы быть женой этого человека, матерью этого ребенка, хозяйкой этого дома. Да, так, как она сейчас есть, не иначе! Да, с этим домом были связаны священные воспоминания, это была также глубоко лежащая склонность низших классов поклоняться аристократии, чистой крови, которую перестанут почитать, если она когда-нибудь сойдет с пьедестала; итак, мое поклонение этой женщине во всем было схоже с прежней религией, которую я отринул от себя. Поклоняться, жертвовать собой, страдать без малейшей надежды добиться чего-нибудь другого, кроме наслаждения поклонения, жертвы и страдания.
Я хотел быть ее ангелом-хранителем, охранять ее так, чтобы сила моей любви наконец привязала ее ко мне. Я старательно избегал оставаться с ней наедине, чтобы мы – во вред ее мужу – не подружились слишком близко.
А теперь, когда я увидел ее у кустарника, она была одна. Мы обменялись несколькими ничего незначащими словами. Но внезапно ей передалось мое внутреннее волнение, и, когда я взглянул на нее горящим взором, в ней проснулась потребность довериться мне. Она заговорила о том, как ей тяжело даже на короткое время расстаться с мужем и ребенком. Она настоятельно просила меня посвящать им мое свободное время и также не забывать и ее, так как она едет отстаивать мои интересы перед фрекен X.
– Вы очень любите ее? – спросила она, пытливо смотря на меня.
– Вы спрашиваете? – отвечал я, всецело подавленный тяжелой ложью.
И в эту минуту я убедился, что моя весенняя любовь была только фантазией, шуткой, ничем.
Боясь запятнать ее прикосновением моей мнимой любви и завести ее в тончайшие изгибы моего чувства, заботясь оградить ее от самого себя, я коротко прервал опасный разговор, спросив о бароне. Она спрятала лицо, потому что прекрасно поняла значение моего вопроса, а может быть – теперь я допускаю это, – мое смущение перед ее победоносной красотой доставило ей удовольствие. Может быть, в эту минуту она сознала ужасную волшебную силу, которую она проявила над этим Иосифом, равнодушие которого было только внешнее, развязность которого была только вынужденная.
– Вы скучаете в моем обществе, – произнесла она, – мне надо обратиться за подкреплением.
И она звонким голосом позвала мужа, который сидел в своей комнате в первом этаже.
Окно распахнулось, и появилось дружеское лицо барона, который кивнул нам с простодушной улыбкой. Вскоре затем он вышел в сад. На нем была парадная форма королевских гвардейцев. Он был великолепен в темно-синем мундире с серебряными и шелковыми нашивками. Его мужественное полное лицо оказалось резким контрастом с алебастрово-белым обликом жены. Это была прекрасная пара; каждый выделял достоинства другого. Это было ослепительное зрелище, художественное произведение. После ужина барон предложил мне сопровождать их на следующий вечер на пароход, с которым уезжала баронесса; мы, т. е. он и я, можем слезть на последней пограничной станции; это предложение, которое я счел себя обязанным принять, по-видимому, доставило удовольствие баронессе; она радовалось при мысли о прекрасной летней ночи на палубе парохода в Стокгольмском заливе.
В десять часов вечера мы встретились на пароходе, который вскоре и отошел. Ночь была ясная, небо горело оранжевыми красками, море было голубое и спокойное. Бегущие мимо берега мелькали в этом странном, фантастическом освещении, которое казалось зрителю и заходом и в то же время восходом солнца. К полуночи наше оживление, возбуждаемое все новыми, блестящими мыслями, все снова пробуждающимися воспоминаниями, упало, и нас охватила сонливость; лица в сумраке рассвета казались бледными, и утренний ветерок холодком пробегал у нас по членам. Нас охватила внезапная сентиментальность, и, случайно сведенные судьбой, мы заключили вечную дружбу; мы словно предчувствовали роковую нить, которой позднее суждено было связать нас. Я чувствовал себя не совсем здоровым, недавно оправившись от лихорадки, а они обращались со мной, как с больным ребенком. Баронесса кутала меня в свой плед, усаживала на защищенное от ветра место, подавала мне мадеру в дорожной фляжке, говорила со мной с материнской нежностью, и я охотно допускал все это. Сон, смыкающий мне глаза, делал меня нежным и мягким, и моя замкнутая душа раскрывалась. Не привыкший к этой женской нежности, я погружался в благоговейное преклонение, и мой мозг, возбужденный бессонницей, плавал в поэтических мечтах.
Все дикие сны бессонной ночи принимали образы, темные, мистические, веселые, вся сила подавленного таланта раскрывалась в легких видениях. Я говорил не смолкая, целые часы я черпал вдохновение в двух парах глаз, слушавших меня, не уставая. Я чувствовал, как мое бренное тело разрывалось в неугасимом огне мыслительной машины, и мало-помалу я потерял сознание своего телесного существа.
Взошло солнце, сотни мелких островков, мелькавших в бухте, осветились; ветви елей с их серно-желтыми иглами окрасились в медно-красный цвет; в окнах прибрежных хижин отразилось солнце; из дымовых труб поднимался дым и напоминал о кофе; рыбачьи лодки идут на парусах осматривать сети; кричат чайки, чуя маленьких селедок в темно-зеленых волнах.
На пароходе еще все тихо, путешественники спят в каютах, только мы втроем сидим на задней палубе, и капитан сверху наблюдает за нами и удивляется, о чем мы можем рассказывать друг другу целыми часами.
Уже три часа утра, когда из-за мыса появляется лоцманская шлюпка. Пора прощаться. Залив отделяется от моря всего несколькими широкими островами, чувствуется уже бурное море, и слышен шум волн о последние крутые утесы.
Наступает минута прощанья. Они целуются в сильном волнении. Потом она страстно жмет мне руку обеими руками, со слезами на глазах; она поручает моим заботам своего мужа и просит утешать его во время его двухнедельного вдовства. А я низко поклонился и поцеловал ее руку, не думая о том, что этого не следовало бы делать и что я невольно выдаю свои тайные чувства. Пароход остановился, шлюпка замедлила ход, и скоро лоцман очутился уже на палубе. Я сошел по трапу, и вот мы с бароном уже в лодке.
Пароход, как колосс, высился над нами. Оттуда кивала нам, облокотившись на перила, ее маленькая головка с влажными от слез детскими глазками. Винт пришел в движение, колосс вздрогнул, взвился русский флаг, и мы закачались на волнах, махая мокрыми от слез платками. Ее тонкое личико становилось все меньше, нежные черты затушевывались, и нам были видны только ее большие глаза, которые тоже скоро исчезли; мгновенье спустя мы видели только белый вуаль, развевающийся над японской шляпой, и батистовый платок, которым она махала; потом только белое пятно, белую точку и потом только колосса, бесформенную массу, окутанную дурно пахнущим дымом.
Мы высадились на таможенной станции, обращенной летом в купальный курорт. В деревне все еще спало, и на пристани никого не было; мы стояли и следили за пароходом, который лавировал, чтобы повернуть направо и скрыться за мысом, служившим последней преградой от моря.
В ту минуту, как исчез пароход, барон, рыдая, бросился мне на шею, и мы стояли несколько минут обнявшись и не произнося ни слова.
Что вызвало в эту минуту эти слезы, бессонница или ясная ночь? Было ли это смутное предчувствие или просто жалость? Я и теперь не могу этого объяснить.
Молча и печально направились мы в деревню напиться кофе; но ресторан был еще заперт, и мы пошли блуждать по улицам. Маленькие домики стояли запертыми, и занавеси были спущены. За деревней мы вышли в пустынное место, где находились шлюзы. Вода была чистая и прозрачная, и мы омыли ею глаза. Потом я вынул из несессера чистый носовой платок, мыло, зубную щетку и одеколон. Барон насмешливо улыбнулся на мою утонченность, но это не помешало ему с благодарностью принять принадлежности этого импровизированного туалета. Вернувшись назад в деревню, мы почувствовали запах жженого угля, проникавший сквозь листву прибрежной ольхи. Я знаком дал понять барону, что это был последний привет парохода, донесенный до нас морским ветерком. Но он этого не понял.
За кофе он имел очень печальный вид со своим большим сонным лицом, опухшими чертами и безутешным выражением. Между нами воцарилась какая-то неловкость, и он, погруженный в свою печаль, хранил упорное молчание.
Иногда он дружески пожимал мне руку и просил извинить за расстроенный вид, а минуту спустя снова погружался в необъяснимую задумчивость. Я делал все возможное, чтобы оживить его, но гармония не возобновлялась, узы были порваны. Его лицо, прежде такое ласковое, стало мало-помалу принимать пошлое и грубое выражение. Отражение очарования и одухотворенной красоты его прелестной жены исчезло, и наружу выступил человек невежественный. Я не знаю, о чем он думал. Отгадал ли он, что происходит во мне? Судя по быстрой смене его обращения, его обуревали противоположные ощущения: то он жал мою руку и называл меня своим первым и единственным другом, то поворачивался ко мне спиной.
А я, к ужасу своему, заметил, что мы живем только для нее и благодаря ей. Солнце для нас закатилось, и мы оба потеряли свою индивидуальную окраску.
Вернувшись в город, я хотел проститься с ним, но он настойчиво просил проводить его, и я согласился.
Когда мы вошли в опустевшую квартиру, нам показалось, что кто-то умер, и мы снова заплакали. Смутившись, я решил обратить все в шутку:
– Ну, разве это не смешно, барон, гвардейский полковник и королевский секретарь плачут…
– Но слезы облегчают, – отвечал он.
Потом он велел привести девочку, появление которой снова усилило нашу печаль.
Было девять часов утра. Так как мы оба очень устали, то он предложил мне лечь на диван, а сам он пойдет в спальню. Он подложил мне под голову подушку, прикрыл меня своей шинелью и пожелал мне доброй ночи, продолжая благодарить за то, что я не оставил его одного.
В его братской нежности я чуял влияние его жены, наполнявшей все его мысли, и я погрузился в глубокий сон, причем, засыпая, я видел, как он тихонько подошел ко мне и спросил еще раз, удобно ли мне.
Я проснулся к обеду. Он уже встал. Он боялся одиночества и предложил мне отправиться в парк и пообедать там. Я согласился, и мы целый день провели вместе, причем мы болтали о том и о другом, а больше всего о женщине, к которой были прикованы наши жизни.
Два дня подряд я не виделся с ними и искал одиночества; для этого я удалился в библиотеку, в нижний этаж, – прежде скульптурный зал, – который являлся самым подходящим убежищем для моего настроения. Большая зала в стиле «рококо» выходила на Львиный двор; в ней хранились рукописи. Я расположился здесь, взяв первую попавшуюся рукопись, которая казалась мне достаточно старой, чтобы отвлечь мои мысли от недавних событий. Но чем дальше я читал, тем сильнее сплеталось прошлое с настоящим, и пожелтевшие письма королевы Кристины шептали мне признания баронессы, Я избегал моего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять своего языка болтовней с безбожниками, которые ничего не должны были знать о моем новом веровании; я ревниво охранял свою особу, которая в будущем должна быть посвящена ей одной. Выходя на улицу, мне хотелось, чтобы передо мной шли маленькие певчие и звоночками возвещали народу о приближении святыни, которую я нес в сокровищнице моего сердца. Мне казалось, что я несу по улицам скорбь и печаль о королеве, мне хотелось крикнуть миру, чтобы он обнажил головы перед смертью, перед моей мертворожденной любовью, не имевшей никакой надежды на жизнь.
На третий день около часу дня я был выведен из моего оцепенения музыкой проходящего мимо отряда гвардейцев; она играла траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидал, что смену ведет барон. Он кивнул мне с лукавой усмешкой; это он велел играть любимую пьесу баронессы, и музыканты не знали, что они играют в честь нас обоих перед толпой, которая ничего не подозревала.
Через полчаса барон пришел ко мне в библиотеку. Я провел его по темным коридорам, заставленными шкафами и полками, в залу рукописей в нижнем этаже. Он был в хорошем настроении и передал мне содержание письма, полученного от жены. Все шло как нельзя лучше; в письме была записка ко мне, которую я быстро пробежал, стараясь по возможности скрыть мое волнение. В простом, сердечном тоне она благодарила меня за заботы о ее муже и признавалась, что ей очень польстила моя печаль после ее отъезда. В настоящее время она находилась у «ангела-хранителя», она очень ее полюбила и расхваливала ее характер; в конце письма она подавала мне некоторые надежды. Это было все.
Так значить, эта противная женщина, этот «ангел-хранитель» любит меня; воспоминание о ней наполняло меня ужасом. Теперь помимо моей воли я вынужден был играть роль любовника, я был впутан в отвратительную, может быть, бесконечную комедию. Действительно, нельзя безнаказанно шутить с любовью. Попав в ловушку, я в бешенстве старался беспристрастно взглянуть на это неопрятное существо с монгольскими глазами, серым лицом и красными руками. С дьявольской радостью представлял я себе ее соблазнительные приемы, которыми она заставила меня полюбить себя, ее подозрительный вид, навлекший на меня насмешливые замечания со стороны моих друзей; они спрашивали меня, как зовут девку, с которой я шляюсь по предместьям города.