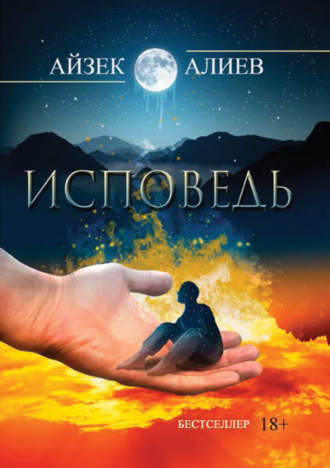
Айзек Алиев
Исповедь
© Алиев А., 2019
© Оформление. ИП Суховейко Д. А., 2019
Пролог
Сегодня, 7 сентября 1985 года, Эмиль похоронил своего духовного наставника. В этой части кладбища, где покоятся христиане и евреи, всегда мало народа. Близился закат солнца. Стоял бархатный сентябрьский день, тихий и теплый. Эмилю некуда было спешить. Присев на скамейку напротив свеженасыпанной могилы, он закурил…
У покойного никого из близких не было. Хоронили его соседи и Эмиль. Последнюю неделю старик был прикован к постели. Нет, он не был тяжело болен. На семьдесят шестом году жизни силы покинули его, и он тихо угасал, сохраняя светлейший ум и способность логически мыслить до последнего вздоха. Смерть забрала к себе его немощное тело, а душа, вероятно, витает теперь далеко-далеко отсюда – над землей его предков.
Старика звали Генрих Гайбель. Он был уроженцем Штутгарта, небольшого городка в Германии. Мать-англичанка умерла при родах. Отец, врач по профессии, так и не женился вторично. Генриха воспитала бабушка. Затем были частная школа-интернат, медицинский факультет Берлинского университета и, наконец, частная практика. Во время войны Генрих, работая военврачом, попал на Восточный фронт. Война забросила его на Северный Кавказ, где под Моздоком, в 1943-м, он оказался в плену. И завертелся калейдоскоп мест заключений, последним из которых стала деревня в одной из южных республик СССР, что и определило дальнейшую судьбу Гайбеля. Женившись по любви на русской девушке, он так и осел здесь на долгих двадцать лет. После пятнадцати лет совместной жизни его Алёна умерла от рака груди. Детей у них не было. Больше Генрих не пытался жениться. А в 1964 году переехал в город. Справиться с формальностями ему помогли односельчане. (Кстати, по паспорту он стал русским). Гайбель поселился в старой части города – там, где всегда царят покой и тишина и камни мостовых недоступны для городского транспорта. Здесь жизнь словно замедляла свой бег, прислушиваясь к отголоскам старины, а высокие молчаливые стены с пустыми глазницами бойниц оберегали город от нашествия цивилизации…
Эмиль вновь закурил. Сегодня он похоронил своего учителя, во время бесед с которым абсолютно не чувствовал не только неуверенности в себе, но и всей шаткости своего положения. Общение с мудрецом всегда окрыляло его и усиливало веру в себя. Все в жизни Эмиля совершалось вопреки его пылким устремлениям, хотя и в соответствии с его страстной и противоречивой натурой. Порой блистательно остроумный, в иные моменты он был болезненно скрытен и застенчив. Жажда приключений и тщеславие не давали ему покоя. Неудовлетворенность самим собой помогала ему самосовершенствоваться. Он явно отличался от тех, кто жил будничной, размеренной жизнью, принимая ее такой, какая она есть. У него было маниакальное осознание собственной уникальности. Эта идея вела к самоуничтожению, но в то же время толкала к самопознанию, самоутверждению и самореализации. Даже втайне от себя самого он хотел одного – остаться, запечатлеться в этом мире. Большой очередной кусок жизни он посвящал какому-то определенному занятию, но каждый раз предавал свою мечту. Слишком уж часто у него не хватало силы воли отмахнуться от стаи ежедневных забот и мыслей, не имеющих ничего общего с музыкой, наукой и литературой. Он вечно грезил о будущем, предвкушая счастье достижения цели, и не подозревал, что полученные авансом наслаждения умаляют и сводят на нет истинные впечатления в момент реального исполнения желаемого. Долгое ожидание размывало краски, и сам факт являлся блеклым, а отнюдь не ослепительным событием.
Эмиль чувствовал, что наступило время кардинальных решений: в противном случае его ожидал личностный кризис. Он оставил науку, порвал отношения с Зауром и вот теперь провожает в последний путь мудреца. С чем же он остался в свои тридцать лет?
«Неужели это наказание за впустую потраченное время, за бесплодные мечтания? – подумал Эмиль, в ярости отшвырнув от себя недокуренную сигарету. – Ведь еще немного и все иллюзии рассеются окончательно. Произошел всего-навсего ординарный случай в миллионном ряду таковых в масштабах целого мира. Вначале юношеский романтизм, надежды, мечты. Затем отрезвление взрослого человека – и в результате состояние мерзкого похмелья. Нет, ничего страшного не произошло – просто еще одна попытка человеческой самореализации потерпела неудачу». Эмиль затряс головой, словно изгоняя из головы эти страшные мысли, ибо даже думать об этом боялся.
Мудрец всегда напоминал Эмилю, что он должен благодарить Бога за то, что у него прекрасные родители, любимая девушка и хорошие друзья. Что у него, в общем-то, обыкновенная удавшаяся, вполне благополучная человеческая жизнь. Что же касается самореализации, то здесь главной преградой, говорил ему мудрец, является только он сам. Победи, преодолей самого себя – вот тогда и достигнешь цели.
Эмиль был благодарен Богу за то, что судьбы их пересеклись. Мудрец – единственный человек, перед которым он вывернул наизнанку свою душу и никогда, ни одной секунды не пожалел об этом. Ведь какой высоты нравственный уровень должен быть у человека, сколько чуткости и порядочности, чтобы суметь удержаться и не обидеть, не задеть чувств кого-то другого, зная о нем самое сокровенное, все его слабости и недостатки! Каждый раз он шел к нему как на исповедь. Казалось, что мудрец не давал советов, а лишь размышлял.
Сейчас, сидя перед его могилой, Эмиль подумал: «А можно ли исповедоваться мертвецу?»
Эмиль зажег очередную сигарету и погрузился в воспоминания, запертые в дальнем углу его «эмоционального чердака». Почему-то в памяти всплыло утверждение Достоевского, что «…ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства… Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение… Мало того, может быть именно это воспоминание одно … от великого зла удержит…»
Инфантильно-сексуальные переживания
…Детство свое Эмиль помнил смутно. Лишь отдельные фрагменты тех далеких времен отчетливо запечатлелись в его сознании. Конечно, степень достоверности их ему была неизвестна. В течение всей последующей жизни в его памяти неоднократно прокручивались одни и те же картинки детства. Со временем воображение по-своему распорядилось с ними, отбросив неинтересное и сохранив только то, что теперь выдавало ему в качестве фактов. Да и к чему документальность в воспоминаниях? Каждый раз, когда он мысленно возвращался к тому, что удерживала его память, Эмиль чувствовал себя особенно легко: он расслаблялся, насущные проблемы на какое-то время отдалялись от него, и он переносился в иной мир – возможно, им самим придуманный.
Погружаясь в воспоминания раннего детства, Эмиль видел почтенных лет двухэтажный дом с серыми стенами, окна которого выходили на сумрачную узкую улочку старой части города, и небольшую темную комнату с застекленным балконом над грязным, дурно пахнущим двориком. И то, как в ней мальчик трех-четырех лет случайно прикасается маленькой ручонкой к раскаленной стенке массивной чугунной черной печи. Небольшой след от ожога на руке не позволяет Эмилю забыть эту картинку детства. В его видении эта комната мрачная и страшная. В ней одинокий малыш испуганно озирается по сторонам. А еще ему припоминаются его страх и желание уползти под кровать сразу же после того, как родители начинали выяснять отношения.
Эмиль был спокойным и «сладким» ребенком, эдаким толстым хомячком, с которым очень любили возиться, тискать его, целовать, гладить, носить на руках его тетки. Он был в их власти и, пользуясь этим, те наслаждались им как красивой и милой сердцу игрушкой. Он был всеобщим любимцем! Странно, что эти любовь, обожание, ласки и забота не превратили малыша в капризное, избалованное дитя. Напротив, все охали и ахали по поводу его спокойствия, молчаливости, терпеливости и нетребовательности. Просто чудо, а не ребенок!
Детские воспоминания, связанные с другим домом, запомнились ему более отчетливо. Семилетний мальчик вживался в новые условия и всматривался в лица новых людей.
Новый двор, в который переехали родители Эмиля в 1961 году, находился чуть ли не на западной окраине города. Благодаря своей географической замкнутости и относительной обособленности, он походил на маленькое государство с автономными традициями и обычаями. Жизнь двора напоминала деятельность организма, функционирующего благодаря только одному ему присущему механизму – четко и однообразно. Двор был густо заселен работниками умственного труда. Дело в том, что в свое время отцы города торжественно передали Академии наук восемь пятиэтажек, известных в народе как хрущобы, а та, в свою очередь, щедро предоставила квартиры своим сильно заждавшимся научным сотрудникам.
Итак, двор был населен лучшими умами республики, цветом науки, а это не могло не оказать соответствующего влияния на его атмосферу в целом. Но пусть никто не заблуждается. Ибо ни городская жизнь, никакие виртуозные упражнения ума в дебрях науки, никакая современная внешность не могли ни на йоту поколебать в жильцах незримые, но фундаментальные основы, заложенные их предками и впитанные с молоком матери. Самое главное, учили те, – это з е м л я! Земля, на которой ты родился. И самое страшное предательство – то, которое человек совершает по отношению к своей земле. Маленький Эмиль все время думал: как же можно предать землю? И не находил ответа.
Будучи людьми умственного труда, жители двора считались интеллигентами, а дети их, естественно, будущими интеллигентами. Наряду с этим во дворе проживала особая социальная прослойка – «шоферня». Это сообщество считали отдельной народностью, особым племенем со своими обычаями и привычками, своим образом жизни и даже особыми внешними отличительными атрибутами. Его представители казались очень гордыми людьми: они всегда свысока и даже несколько презрительно относились к другим. Все шоферские семьи были большими – до десяти человек, и почему-то в них доминировали мальчики. Биографии у ребят, рождавшихся обычно с интервалом в два года, были почти как под копирку. За школой следовало томительное ожидание призыва в армию в течение года, когда подростки целыми днями тусовались небольшими кодлами в излюбленных местах. Пароль «Встретимся на углу» – имелся в виду определенный угол дома – был известен им всем. И, что примечательно, эти «углы» не пустовали ни дня в течение всего года. Одни подростки сменяли других. Одно поколение приходило на смену другому. Дождавшись призыва, ребята покидали эти углы на два года. После армии они выучивались на шофера, затем женились, обзаводились кучей детей. Вот и все. Как правило, после армии, а тем более после женитьбы, они остепенялись – становились солидного вида мужчинами, знающими толк в своей профессии. И вряд ли кто поверил бы, что эти серьезные люди когда-то в юности были грозой дворов и мальчики-ботаники и девочки-отличницы при виде их тряслись от страха и не знали от них покоя. Тогда они устраивали настоящие разборки с мордобитием в борьбе за сферу влияния, за авторитет. Теперь же в свободное время бывшие сорвиголовы все так же собирались на углу, но уже никого не задевали – лишь тихо беседовали, а чаще же просто молча сидели на корточках и часами вращали на указательном пальце связку ключей – то вправо, то влево, – при этом тихо насвистывая себе под нос какую-нибудь популярную в народе мелодию.
В хорошую погоду, по вечерам, двор напоминал громадный муравейник, над которым стоял несмолкаемый гул голосов детей и взрослых.
Мужчины каждый вечер собирались в «клубе» – большом доме из каменного белого кубика, выстроенном жителями посреди двора на собственные средства (кстати, на месте футбольного стадиона для детишек). В этой длинной комнате со множеством окон они просиживали порой до глубокой ночи, сражаясь друг с другом в нарды, шахматы и забивая козла.
Между детьми и мужчинами шла жесткая схватка за территорию. Бедным ребятам необходимы были площадки для игр, а мужчинам – земля для садоводства. Мало того что все пятиэтажки были окольцованы непроходимыми чащами, так еще и каждый квадратный метр не асфальтированного пространства тут же огораживался от посторонних глаз и переходил в полное и безраздельное владение того или иного неведомого хозяина, скрытого от посторонних глаз довольно высокой и непроницаемой зеленой изгородью.
Видимо, тяга мужчин к садоводству объяснялась самой главной традицией – любовью к земле. От своего отца Эмиль знал, что гордость Академии наук в большинстве своем составляли выходцы из деревень. Они родились, окончили школы и даже успели оформиться как личности именно там, впитав в себя все то, что скрывается за словами «деревенский образ жизни». Они, сыновья крестьян и сами в душе крестьяне, приезжали в город ради самоутверждения. Ехали с твердым намерением взять свое в этом незнакомом и чуждом для них городе. Причем это были не только личные честолюбивые планы молодых людей, но и планы их землячеств – или, иными словами, общин, – ибо за ними стояли их родные деревни. На них сделана была ставка, от них ждали успеха. И они обязаны были чего-то добиться, обязаны были оправдать надежды земляков и, по возможности, еще и прославиться. Впрочем, суть заключалась даже не в этом. Самое главное – молодой сельчанин должен был укрепиться в городе, заложить фундамент. Занять некий пост, должность. И лишь затем этот покоривший научный Монблан ученый наряду с пожинанием плодов своих многолетних усилий обязан был вернуть долг своим землякам. Это значит, что каждый из тех был вправе просить либо даже требовать у него помощи. И эта помощь неукоснительно должна была оказываться, что, безусловно, и делалось.
Одним словом, прошлое этих уже немолодых ученых, их корни, их естество жаждало клочка земли, коим они могли бы владеть безвозмездно, где могли бы найти для себя отдушину в жизни, где они становились самими собой. Ах, этот одурманивающий сознание аромат земли! Эта упоительная работа с лопатой в руках! Люди науки получали от всего этого в своем саду истинное наслаждение. Они там по-настоящему творили, и, похоже, каждый с содроганием думал о предстоящем дне, когда вновь придется облачиться в костюм, завязать галстук-удавку, без которого ну просто никак нельзя обойтись культурному солидному человеку, а тем более уважаемому ученому, и, прихватив непременно пухлый и внушительных размеров портфель, окунуться в круговерть дня.
Единственной альтернативой садоводству для этих интеллигентов были настольные игры в «клубе», которым они увлеченно отдавались изо дня в день, из года в год. Если среди мужчин и существовали группировки, то они складывались исключительно в зависимости от спортивных наклонностей игроков. Так, во дворе у всех были на устах и склонялись имена самых знаменитых «козлистов», нардистов и шахматистов. И чемпионами становились всегда одни и те же лица. Не случалось такого, чтобы кого-то скидывали с пьедестала. Все было незыблемо, раз и навсегда установлено. Таковы были традиции этого двора, и мужчины строго придерживались их.
Свадьбы и похороны торжественно отмечали всем двором в том же самом «клубе», где шли нескончаемые спортивные состязания. Естественно, что предоставление помещения для проведения праздничных торжеств или ритуальных мероприятий являлось для людей немалой помощью – как моральной, так и материальной.
В детстве Эмиль очень боялся темноты. Ночные звуки, всевозможные шорохи пугали его до колик в животе. Когда поздно вечером его посылали к бабушке, живущей в соседнем доме, на расстоянии каких-то двадцати метров, он не бежал, а летел: ему казалось, что за ним кто-то гонится, преследует его. Успокаивался он лишь перед дверью бабушкиной квартиры. Если же Эмиля оставляли одного вечером дома, то он всегда зажигал свет во всех комнатах и вслушивался в каждый шорох. От любого ночного звука ему становилось не по себе, и сердце просто екало. В нем определенно сидел Страх. К тому же он сызмальства отличался малодушием. Драться не мог и никогда не стремился к этому, редко отвечал на дерзости других ребят. Был тихим и скромным, уступчивым и добрым, застенчивым и скрытным. Одним словом, по его же собственному определению, был просто «дерьмом на палочке». Ох, как он злился на себя, оставаясь наедине с самим собой! Но изменить ничего не мог.
С самого раннего детства в компаниях своих сверстников Эмиль играл роль второй скрипки. У него был авантюрный характер, и он всегда старался спровоцировать мальчишек на нечто интересное, труднодоступное, рискованное и даже запретное. То и дело он подбрасывал неординарные идеи тоскливо слонявшимся по двору ребятам, которые в ответ с ленцой, как бы между прочим, начинали их обсуждать. Высказывались мнения «за» и «против». А он, затаив дыхание, слушал и с нетерпением ждал решения. Эмиль очень гордился, когда идея получала одобрение, ибо ему казалось, что именно она, идея, важнее всего. Но много позже он понял, что в суете человеческих отношений, когда все так призрачно, зыбко и поверхностно, людей интересует совсем не идея, не мысль, а результат, конечный итог. И ценится, восхваляется и запоминается лишь процесс реализации задуманного.
Очень часто реальность дисгармонировала с его внутренней самооценкой. Его Я-реальное по отношению к внешнему миру – это спокойствие и терпение, а его Я-идеальное – энергия и страсть. Все удары, оскорбления и унижения, устремленные на Я-реальное со стороны внешнего мира, рикошетом отскакивали, обрушивались и давили всей своей тяжестью на Я-идеальное. В свою очередь, Я-идеальное непрерывно терзало его Я-реальное – за его неадекватные реакции на внешний мир. И так как оба «Я» и составляли Эмиля как индивида, то с полным правом он мог отнести себя к категории мазохистов. Ибо жизнь его уже с детства представляла собой сплошную цепь самобичевания. Представьте себе ужасную картину: внутри Эмиля идет настоящее сражение. Его Я-идеальное мучает и истязает его Я-реальное за ошибки и слабости последнего, тем самым фактически подавляя его; при этом для внешнего мира Я-реальное выглядело вполне благополучно и миролюбиво.
В детстве Эмиль страдал спазматическим комплексом заклинивания. Так, во время конфликтных ситуаций с родителями либо со сверстниками, чувствуя свою вину или, напротив, зная, что совершается несправедливость по отношению к нему, каждый раз он цепенел и в голове его происходило какое-то замыкание. Проще говоря, стоял, как остолоп, и молчал. Не было никаких сил вымолвить в ответ хоть словечко, голос будто проваливался вглубь, и горло стягивало, как веревкой. Куда там оправдываться, доказывать свою правоту – это было для него и вовсе недосягаемо. Его молчание еще больше раздражало обвинителя, который прямо-таки зверел от такого кажущегося спокойствия и безразличия. Никто даже и не догадывался, что это своего рода ширма, за которой прячутся незащищенность, страх и бессилие. Что творилось в такие моменты в душе Эмиля? Тело его напрягалось, колени дрожали, изнутри бил озноб, спазмы душили его, а лоб покрывался испариной.
Школа, в которой учился Эмиль, была двуязычной. Он обучался на русском языке. В этом городе для интеллигенции того времени было вопросом престижа отдавать своих детей в русские школы. Считалось, что это указывает на родителей как на людей прогрессивных, а более высокий уровень обучения в таких учебных заведениях открывает перед ребенком куда большие возможности.
После окончания первого класса Эмиля определили еще и в музыкальную школу. Туда был сумасшедший конкурс, и он специально полгода занимался, чтобы выдержать его. Дело в том, что в начале 60-х годов XX века в городе начался очередной бум: родители «заболели» музыкой. Но жертвами этой болезни оказались не сами они, а их дети.
На экзамене Эмиля сдержанно похвалили и сказали, что у него, несомненно, присутствует музыкальный слух. Но это отнюдь не означало, что его обязательно примут, ибо желающих была уйма, а мест слишком мало. По счастливой случайности директор этой школы – пианист, обретший на склоне лет тихую гавань, – оказался старым знакомым отца Эмиля.
С той поры начался новый жизненный этап Эмиля: долгие годы ему пришлось совмещать обучение сразу в двух школах – общеобразовательной и музыкальной. Постепенно к музыке сложилось особое отношение. Мама Эмиля часами заставляла играть сына на пианино. Так музыкальные занятия затмили общеобразовательные. Не в малой степени такому отношению к делу способствовала и педагог Эмиля по классу фортепиано, считавшая его одаренным мальчиком.
Детская пора отличается своей особенной, не как у взрослых, сексуальной жизнью. Детскую сексуальность, видимо, подпитывают запрет и огромное любопытство. Ребятне все хочется посмотреть. Потрогать, самим испытать – даже если они ничего и не понимают, не осознают, не получают истинного наслаждения от содеянного.
Двенадцать лет – очень серьезный возраст. Очень хочется иметь собственное мнение по всякому поводу, быть самостоятельным, походить на взрослых. Вот только досадно, что взрослые совсем не воспринимают двенадцатилетних всерьез, и тем это обидно до слез. А в итоге – характерные для этого возраста замкнутость, отчужденность, какие-то великие тайны от взрослых. Наступает период, когда подросток чуть-чуть дистанцируется от родителей и прочих взрослых. У него начинается этап обособленной от них жизни. В то же самое время он вплотную сближается с узким кружком своих сверстников. Этому способствует и новый взгляд мальчика на девочек, отличный от того, который был характерен для предшествующих нескольких лет детской жизни.
Эмиль называл первые четыре года в школе периодом романтического рыцарства. В его классе появились две «элитарные» группки из четырех-пяти девочек и мальчишек. Каждый мальчик должен был выбрать для себя объект поклонения. Все знали, кто кого «любит», но не всегда это чувство было взаимно, а, впрочем, это было совсем и не важно: парочки не говорили о любви друг с другом. В свои одиннадцать лет, считая себя влюбленными, они обсуждали и смаковали неведомые им до сих пор чувства и ощущения в узком кружке подростков одного пола. Вплоть до пятого класса царил матриархат: всеми верховодила «элитарная» группка девчонок. Мальчишки готовы были по первому зову выполнить любое их приказание. А вот не принадлежавшие к «элите» одноклассницы от мальчишечьих выходок по-настоящему страдали и плакали. Обычно из их числа назначалась очередная жертва, после чего можно было наблюдать сценки садистического толка. Присущая детям неосознанная жестокость проявлялась в них в полной мере.
И все это было в порядке вещей, как само собой разумеющееся. Чем хлеще позволяли себе ребята выходки, тем больше они вырастали в своих собственных глазах. Разумеется, о шалостях своих чад родители даже не подозревали. Делиться со взрослыми событиями своей жизни, конечно, хорошо, но делиться без оглядки, до самого донышка – это адски трудно, да и не нужно. Каждое поколение уносит с собой свои маленькие тайны. И если взрослый невольно окажется свидетелем их, он не должен реагировать на что-то неблаговидное как на катастрофу, делать из этого трагедию, травмировать ребенка своей реакцией. Умные родители словами обрисуют ребенку картину неприятных последствий этих неосознанных шалостей, а вот те, кто без царя в голове, возьмутся за рукоприкладство. Убедив его в том, что он ходячий кошмар и занимается ужасными делами, родитель ввергнет ребенка в крайне подавленное состояние, наполнив детскую душу страхами, которые, укоренившись там, будут преследовать его всю жизнь.
Однажды Эмиль возвращался из школы – как всегда, быстрым шагом, опустив голову и не оглядываясь по сторонам. И вдруг услышал, как кто-то назвал его по имени. Замедлив шаг и обернувшись, он увидел симпатичную девушку. Высокая худощавая незнакомка с коротко подстриженными темными волосами пристально смотрела на него.
– Не узнал? – спросила она и приятно улыбнулась, заметив на его лице любопытство и недоумение.
– Да… Нет… Кажется, – стал он выдавливать из себя слова.
– Я же Рая, бывшая соседка Эльдара, – быстро пришла она ему на помощь.
– Ох! – выдохнул Эмиль, раскрыв рот от удивления. – Неужели та самая маленькая Рая?
– Когда это было… – мечтательно произнесла девушка.
– Как будто совсем недавно. А теперь смотри, как вымахала, – наконец пришел в себя Эмиль.
– Ну, рассказывай, как дела, чем занимаешься. Учишься? С тех пор как я переехала, мне только один раз удалось побывать в старом дворе, и то Эльдара видела мельком, поговорить не удалось, – щебетала Рая без умолку, задавая вопросы и в то же время не давая ему возможности дать на них ответы. Да он и не старался вникать в этот щебет, мысленно он был далеко. Он вспомнил, как впервые увидел Раю.
…В тот день Эмиль пришел к Эльдару:
– Открой, это я.
– Заходи, – пропустил его Эльдар.
– Ты что, не один? – спросил Эмиль, услышав в спальне детские голоса.
– Не один, проходи, – еще раз предложил Эльдар.
Пройдя в комнату, Эмиль увидел девочку и мальчика и вопросительно посмотрел на друга.
– А-а-а… – протянул тот. – Это мои соседи по площадке, брат и сестра.
Эмиля поразила худоба мальчика. Этому ходячему скелету было лет десять. Девочка же совершенно не походила на брата. Она была упитанной, с красивой фигуркой, стройными ножками и смазливым личиком. Ей было чуть больше восьми лет, но выглядела она на все десять. Держала она себя явно вызывающе: хватала руками находящиеся в комнате предметы, что-то бубнила себе под нос, приставала с вопросами. С Эмилем она вела себя сдержанно буквально пять-десять минут. На большее ее не хватило, и вскоре они почувствовали себя так, словно были старыми знакомыми. Через некоторое время брат с сестрой ушли.
– Что ты связался с мелюзгой? – удивился Эмиль, хотя ему самому едва исполнилось тринадцать.
Эльдар молчал, хитро поглядывая на приятеля.
– Ну, знаешь, это как-то само собой получилось.
– Что это? – нетерпеливо перебил его Эмиль.
– Однажды я зашел к ним, вижу – они играют. Ну, я и спросил: «Во что играете?». – «В доктора и больного», – ответили они. – «И что вы делаете?» – поинтересовался я. Оказалось, что «больная», то есть Рая, раздевается и ложится, а «доктор», брат, начинает «лечить» ее. Мне эта игра понравилась, и я решил играть в нее сам и без лишних свидетелей. Эта идея понравилась и Рае. Выждав благоприятный момент, она прибегала ко мне, а я начинал ее «лечить». Сперва она стеснялась, но вскоре привыкла. «Лечение» сводилось к тщательному анатомическому изучению деликатных мест…
Эмиль слушал рассказ Эльдара, затаив дыхание. И так ему захотелось до страсти самому поиграть! Ведь в свои тринадцать лет он еще ни разу не видел это запретное место у девочек. Место, которое всегда так притягивает, о котором все думают, представляя его в меру своего воображения, но никто не говорит об этом вслух.
– Давай организуем эту игру, я буду ассистировать, – с надеждой предложил Эмиль.
– Ты знаешь, это сложно…
– Почему? – нетерпеливо оборвал друга Эмиль.
– Во-первых, мы все трое должны будем собраться в одно и то же время, а это не всегда возможно. Во-вторых, нужна свободная хата. И, в-третьих, вряд ли Рая согласится на твое присутствие.
– Подумаешь! У вас любовь, что ли?
– Какая любовь… – махнул Эльдар рукой.
В большинстве случаев все, что реально удавалось Эльдару в отношениях с девочками, Эмилю рисовалось лишь в его воображении. Ох уж эти изнуряюще сладострастные видения, преследующие его, стоило ему только остаться ночью наедине с самим собой! В них он выглядел храбрым, сильным, окруженным вниманием и уважением своих сверстников и любовью девочек – самых лучших. И самых недоступных.
– Знаешь что? Я ничего не знаю. Вот ты, вот она. Сами разбирайтесь. Захочет – пожалуйста, мне не жалко, – вдруг твердо сказал Эльдар.
Слабый пол есть слабый пол, даже когда его представительницам всего восемь-девять лет. Эмилю потребовалось совсем немного времени, чтобы добиться своего замысла – хоть раз поиграть в эту чертову игру.
И вот теперь, когда он стоял перед той самой Раей, слушая ее звонкий голосок, ему казалось, что он все это выдумал. Просто взял и выдумал. Сейчас он стоял и разговаривал с ней – вот это реальность. А то, что было между ними когда-то, больше походило на сон. Он не знал, насколько его экскурс в прошлое отразился на его физиономии, но на лице Раи не было ни капельки смущения: ее лицо жило сегодняшним днем, ее волновало лишь настоящее и, может быть, не очень отдаленное будущее. Они поговорили и расстались. Возможно, никогда уж больше и не свидятся.
Все школьные годы Эмиля прошли под господствующим влиянием музыки. В музыкальной школе он жил более полной, более интересной и насыщенной жизнью. Класс Мальвины Семеновны, который он посещал, был одним из самых сильных в этом учебном заведении. Уже в первые годы учебы игра Эмиля стала привлекать внимание педагогов. Блестящее исполнение разученного музыкального произведения получалось у него сразу, как-то само собой: сказывалась ежедневная многочасовая муштра за пианино. Эта способность и артистизм выделяли его среди большинства учеников. Во время игры он словно отрешался от внешнего мира и погружался в себя. Очень часто, играя, он неожиданно будто куда-то проваливался, и тогда его сознание уже не контролировало игру. Затем, так же внезапно, его рассудок, как бы поймав нить произведения, возобновлял свой контроль над музыкальными знаками. Эмиля всегда мучило такое вот внезапное ускользание нити произведения из-под контроля его сознания: он все время боялся, что, исчезнув однажды, нить уж более не вернется. Но каждый раз, очнувшись от рукоплесканий зала, он облегченно вздыхал, понимая, что исполнил произведение без единой погрешности.
Видимо, у родителей Эмиля никогда и в мыслях не было сделать из него музыканта. Много лет спустя мать скажет ему, что и сама не знает, зачем потратила столько сил, времени и нервов на его музыкальные занятия.
Чем ближе подходило время расставания с музыкальной школой-семилеткой, тем настойчивее Мальвина Семеновна просила и убеждала родителей Эмиля позволить ему посвятить себя музыке. Она уверяла их, что из него обязательно выйдет толк. Каждый раз после очередного успешного выступления в теле- или радиопрограмме, а однажды даже в знаменитой городской филармонии, Мальвина Семеновна с убежденностью и в то же время с обидой в голосе спрашивала у матери Эмиля:





