
Барбара Дэвис
Тысяча свадебных платьев
Barbara Davis
KEEPER OF HAPPY ENDINGS
Copyright © 2021 by Barbara Davis This edition is made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing, www.apub.com, in collaboration with Synopsis Literary Agency
© Флейшман Н., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *

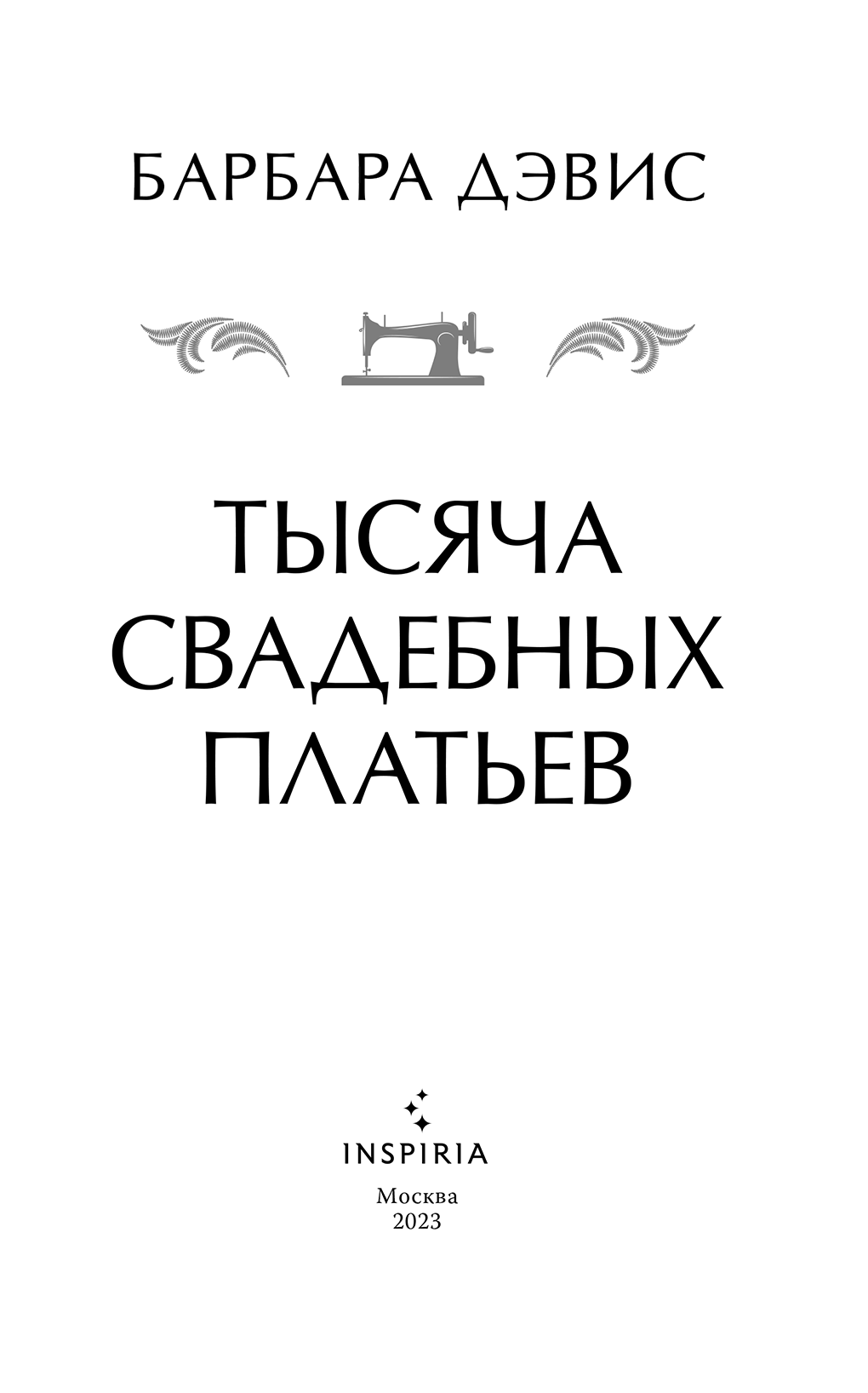
Книга посвящена миллионам медиков всего мира, которые, рискуя собственным здоровьем и безопасностью, спасали наших близких и любимых в 2020-м и последующих годах, – этим истинным, всем до единого, героям.
Настоящие герои бывают очень разные – и мало кто из них может похвастаться сияющими значками, пришпиленными на груди.
Солин Руссель. Хранители счастливого финала
Мы – избранные. Служанки Великой Матери, происходящие из древнего рода, призванные способствовать делу любви и подлинному человеческому счастью.
Мы – les tisseuses de sorts, те, кто ткет материю волшебства.
Эсме Руссель. Колдунья над платьями
От автора
Несмотря на то что в моем романе упоминаются отдельные исторические события, он всецело является плодом художественного вымысла. Все имена, персонажи, связанные с ними события, даты и выпавшие на их долю испытания мною придуманы или скрываются за вымышленными именами и реалиями.
Пролог
Солин
Вера – весьма существенный ингредиент.
Если потерял веру в магию – то потерял все.
Эсме Руссель. Колдунья над платьями
13 сентября 1976 года.
Бостон
Сколько себя помню, любой финал всегда пробуждал во мне щемящую печаль. Последние звуки песни, неотвратимо угасающие в тишине. Падающий занавес в завершении пьесы. Последняя снежинка. Последние слова перед прощанием.
Мне много выпало прощаний.
Сейчас все они вроде бы остались в далеком прошлом, однако совокупная их боль по-прежнему бередит душу. Наверное, я просто перебрала сегодня вина – от этого у меня такая меланхолия. Или же перебрала с жизнью, с ее потерями – уж слишком много осталось от нее шрамов. И, что примечательно, – меня как будто притягивают эти шрамы, эта своеобразная карта моих ран, что не ведет меня ни вперед, ни назад.
Я вновь приношу из чулана свою заветную коробку и ставлю на кровать. В смысле физическом она не слишком много весит, однако собранные в ней воспоминания несут груз совсем иного рода. Тот, что ложится на сердце тяжестью. Сделана она из плотного, добротного, серого картона с металлическими крепежами по углам и толстым шнуром, продетым в нее в качестве ручки. Задержав дыхание, я снимаю крышку и откидываю лежащую сверху в несколько слоев мятую папиросную бумагу, чтобы увидеть хранящееся под ней платье. Оно изрядно состарилось с годами – равно как и я. Там же, перевязанная ленточкой, покоится и пачка писем – в большинстве на французском, но некоторые и на английском. Их я прочту немного позже, что частенько делаю в такие ночи, как эта, когда меня угрюмыми тенями окружают зияющие в моей жизни пустоты. В этом ритуале есть свой порядок, последовательность, которую я никогда не меняю. Когда в твоей жизни столько всего вырвано с корнем, когда ты столько всего лишился – следует искать утешения хотя бы в ритуалах. Пусть даже и в печальных.
Я вынимаю из коробки платье и держу его в руках. Бережно, как держат дитя – или же как лелеют надежду. Как можно ближе прижимая к сердцу и, быть может, слишком ревностно. Подхожу с ним к зеркалу – и на какой-то миг из него взглядывает на меня она, та девушка, которой я была до того, как гитлеровские солдаты вошли в Париж. Исполненная надежды и наивных светлых грез. Однако уже через мгновение она исчезает. И вместо нее оказывается печальная женщина, которой я стала. Измученная жизнью и одинокая. Без единой мечты. Мой взгляд непроизвольно возвращается к коробке, к коричневому кожаному футляру, лежащему на самом ее дне. И от воспоминания, как я увидела эту вещь впервые, сжимается сердце. «Храни его у себя, пока я не вернусь домой», – сказал он, вкладывая мне в руки футляр в то последнее утро.
Отложив платье, я, наверное, уже в сотый раз расстегиваю несессер и провожу пальцами по черепаховому гребню и такому же рожку для обуви, касаюсь помазка для бритья и бритвенного станка. Все эти вещи настолько личные – и он собственноручно передал их мне. Из-под коричневой эластичной ленты вынимаю небольшой хрустальный флакончик – давно уже опустевший, – и отвинчиваю крышку, с тоской надеясь уловить оттуда изысканный мужской аромат, что так ярко отложился у меня в памяти. Запах соленой морской воды и лимонной цедры.
Энсон.
Вот только на сей раз – впервые за все время – от флакона не веет ни малейшим напоминанием о нем. Тридцать лет я подносила к носу пустой флакон, находя утешение в том единственном, что у меня оставалось – в его запахе. А теперь исчезло даже это.
Я готова расплакаться, но слез нет. По-видимому, я уже все выплакала. И теперь полностью опустошена. Возможно, это даже к лучшему. Возвращаю флакон на место и застегиваю футляр. Перевожу взгляд к оставшейся в коробке пачке писем, обычно завершающей мой маленький печальный ритуал. Сегодня я не стану их читать. Или, возможно, уже не прочту никогда.
Пора оставить это в прошлом. Пришла пора все отпустить навеки.
Я возвращаю футляр в коробку, затем складываю платье и бережно опускаю следом, расправляя рукава поверх лифа так, как укладывают руки покойного на похоронах. Полагаю, именно это сравнение сейчас как нельзя кстати. В последний раз с нежностью провожу ладонью по тонкой ткани, потом укрываю платье папиросной бумагой и опускаю крышку.
Adieu, Anson, mon amour. C’est la fin[1].
Глава 1
Рори
26 мая 1985 года.
Бостон
Не может быть, чтобы уже настало воскресенье! Только не это!
Рори хлопнула ладонью по кнопке будильника и снова откинулась на подушку, словно желая, чтоб этот день исчез. Однако через пять минут будильник затрезвонил снова, и это могло означать только одно: каким-то образом в ее жизни пропала еще одна неделя, рассеялась в мутном потоке будней – с едой навынос и старыми сентиментальными фильмами, с долгими, бесконечными ночами и одержимым чтением о счастливых финалах у других людей.
Когда она откинула одеяло и спустила ноги с кровати, на пол бухнулась книга в мягкой обложке. «Зимняя роза» Кэтлин Вудивисс, которую она одолела к четырем часам утра. Рори уставилась на раскрытую книгу, подбитой птицей валяющейся у ее ног. Прежде она никогда не питала страсти к любовным романам, теперь же едва ли не проглатывала их один за другим. Для Рори это была словно порочная утеха, заставлявшая ее испытывать легкий стыд – точно пристрастие к азартным играм или порнографии.
Подхватив с пола прочитанный роман, Рори отправила его в плетеную корзину, где лежало уже не меньше десятка таких же книг, ожидающих отправки в благотворительный фонд «Goodwill». У входной двери стояла еще коробка с книгами, третья лежала в багажнике автомобиля. «Пустые калории для мозга» – как называла это чтиво ее мать. Между тем глаза девушки скользнули к стопке новых корешков с заголовками, возвышающейся на ее ночном столике. Следующей ночью ее ожидала последняя книга Джоанны Линдсей.
Рори порылась пальцами в ворохе нераспечатанной почты, также лежащей на тумбочке возле кровати, среди которой затерялся и буклет с перечнем курсов магистерской программы, который она предпочитала не замечать, и наконец выкопала «Ролекс» из нержавейки с золотом, что подарила ей мать на окончание бакалавриата. Как и следовало ожидать, часы остановились. Дата в маленьком окошечке под увеличительным стеклом уже отстала на три дня. Рори переустановила время, завела часы и надела их на запястье, после чего мысленно нацелилась на чашку крепкого кофе. Без кофеина она однозначно не сможет встретить этот день.
Оказавшись на кухне, Рори обвела ее взглядом со все нарастающим чувством безысходности. Забитая грязной посудой раковина, переполненное мусорное ведро, остатки вчерашнего заказа из «Восточного Рая». Рори рассчитывала как следует прибраться на кухне после ужина, однако потом начали показывать «Плоды случайности»[2], и она была не в силах оторваться от экрана, пока Грир Гарсон и Рональд Колман наконец не воссоединились. К тому времени, когда Рори наконец наплакалась, она уже напрочь забыла про кухню. А теперь на уборку и вовсе не хватало времени, если она рассчитывала к одиннадцати часам оказаться в другом конце города.
Добавив в кофе сливок, она подумала было позвонить матери и отказаться от визита – сослаться на больное горло или мигрень, или на то, что якобы мутит, как от пищевого отравления. Однако за этот месяц она уже дважды избегала их традиционной встречи, что означало, что на сей раз она просто обязана туда поехать.
Стоя под душем, Рори мысленно готовилась к предстоящему «допросу с пристрастием»: к вопросам о ее дальнейшей учебе, о хобби, о планах на будущее. Вопросы эти от встречи к встрече никогда не менялись, и Рори с каждым разом все труднее было делать вид, будто они вызывают в ней какой-то отклик. Правда крылась в том, что у нее не было таких хобби, которые ей бы хотелось с кем-то обсуждать, что ее ужасала сама мысль о возвращении в колледж и что все ее планы на будущее сейчас оказались под большим сомнением. Тем не менее она всякий раз изображала бодрый вид и говорила нужные слова, поскольку именно их от нее и ожидали. И потому, что альтернатива этому – а именно полное погружение в глухую черную дыру, в которую ныне превратилась ее жизнь, – казалась слишком мучительной, чтобы о ней серьезно размышлять.
Рори прошлепала босыми влажными ногами в спальню, на ходу суша волосы полотенцем, и всеми силами попыталась удержаться перед привычным уже зовом, исходящим от ночного столика. В последнее время уже стало утренним ритуалом прочитать письмо-другое от Хакса, но сегодня на это просто не было времени. И, тем не менее, Рори все же выдвинула нижний ящик и вытянула хранившуюся там коробку с письмами. Сорок три конверта, подписанных его мелким порывистым почерком. Этакий спасательный трос, прочно привязывающий ее к Хаксу и не позволяющий ей пойти ко дну.
Первое послание оказалось в ее почтовом ящике всего через пять часов после того, как его борт покинул международный аэропорт Логан. Хакс отправил письмо ночной доставкой, чтобы быть уверенным, что оно прибудет вовремя. Второе он написал, уже сидя в аэропорту перед выходом на посадку, следующее – в самолете. Поначалу письма поступали почти что каждый день, затем частота их сошла к одному-двум в неделю. А потом они просто перестали приходить.
Рори взглянула на фотографию у самой кровати, сделанную в ресторане на Мысе в ближайший уик-энд после его предложения руки и сердца. Доктор Мэттью Эдвард Хаксли – или Хакс для всех, кто близко его знал. Как же она скучала по его лицу, по его смеху, по незатейливым шуткам и фальшивому пению, по его любви ко всяким мелким безделушкам и по его идеально приготовленной яичнице.
Познакомились они на благотворительном мероприятии по случаю открытия нового неонатального отделения интенсивной терапии при университете Тафтса. От его обаятельной улыбки у Рори буквально захватило дух – но именно то, какая необыкновенная личность скрывалась за той улыбкой, собственно, и решило исход дела.
Сын двух педагогов, обучающих детей с ограниченными возможностями, Хакс очень рано и на близком родительском примере постиг всю ценность служения обществу. Когда он учился на первом курсе университета Северной Каролины, на трассе I-40 в машину его родителей лобовым столкновением врезался лесовоз, выехавший на встречную полосу. После похорон, оставшись абсолютно без руля и без ветрил, с одной лишь безысходной горечью в душе, Хакс бросил учебу и провел лето на пляжах Аутер-Бэнкса, бездельничая в окружении местных серферов и глуша тоску «Капитаном Морганом».
Наконец он все же смог взять себя в руки, вернулся в университет, а затем поступил на медицинский факультет. Сначала он собирался стать терапевтом, однако после недели врачебных обходов в отделении педиатрии эти планы изменились. Закончив последипломную больничную подготовку, Хакс подписал контракт с организацией «Врачи без границ» на оказание помощи детям Южного Судана, чтобы почтить таким образом память своих родителей.
Это качество Рори любила в нем едва ли не больше всего. История его жизни была далека от идеальной. У Мэттью Хаксли не было ни своего трастового фонда, как у нее, ни загородного клуба для избранных. Он пережил страшные вещи – такие, что всколыхнули его до основания и выбили из колеи, – и все же он нашел в себе силы снова обрести твердую почву под ногами, нашел свой способ помогать людям. Когда настало время отъезда, Рори тяжело было провожать его в путь, однако она гордилась Хаксом и той миссией, которую он на себя принял, пусть даже его письма было тяжело читать.
В одном Хакс признался, что пристрастился к курению. «Здесь все до единого смолят по-черному. Наверно, чтобы не дрожали руки. Мы все уже неимоверно вымотались». В другом послании он написал о журналистке по имени Тереза, приехавшей делать репортаж для Би-би-си, о том, как та некоторое время поддерживала его связь с внешним миром. Писал Хакс и о своей работе, о бесконечных днях в импровизированной хирургической палате, о местных детях, покалеченных, осиротевших, перепуганных. Все оказалось куда хуже, чем он прежде мог себе представить, но как врач он приобрел профессионализм: стал более решительным и жестким и вместе с тем более сострадательным.
Темп их работы был изнурительным, душевное потрясение явно казалось сильнее, чем он мог адекватно выразить на бумаге.
«Мы настолько избалованы у себя в Штатах! Там мы не в состоянии осознать весь масштаб беззакония и варварства, той страшной, душераздирающей нужды, что существует в иных местах земного шара. Отсутствие элементарной человечности. Когда видишь, что здесь творится, то понимаешь, что все, что мы здесь делаем – и я, и каждый из нас, – всего лишь капля в море».
Это было его последнее письмо.
Прошла неделя, другая, третья – а ее письма к Хаксу так и оставались без ответа.
А потом, когда она однажды слушала Национальное общественное радио, причина его молчания внезапно стала ясна. Представительство США заявило, что в Южном Судане во время предрассветного нападения на госпиталь группа вооруженных повстанцев похитила троих: американского врача, медсестру из Новой Зеландии, а также британскую журналистку, работавшую там по заданию компании Би-би-си и журнала «World».
Только через семь дней официально подтвердилось то, что Рори и так уже поняла: что Хакс и был тем самым похищенным американцем. Но это все равно ничего не дало. На грузовике, который видели отъезжающим отдельные свидетели, не было никаких опознавательных знаков. Как не было и описания мужчин, которые силком, под дулом оружия вывели их из медицинской части. И никто не заявил об ответственности за нападение – что обычно происходит в течение первых сорока восьми часов. Похищенная троица как будто испарилась.
Минуло уже пять месяцев, но Рори все еще ждала. По данным Госдепартамента, к поискам пропавших были привлечены все возможные ресурсы, отслеживалась каждая зацепка, которых, впрочем, было не так уж много. Восемь недель назад на территории Ливии был проведен ночной рейд на заброшенную лачугу, где, по сообщению некоего лица, видели женщину, подходившую под описание похищенной журналистки. Но к тому времени, когда туда вошли, дом оказался пуст, и след его обитателей давно простыл.
По официальному заявлению Госдепа, они «продолжали сотрудничество со всевозможными гуманитарными организациями в целях найти похищенный боевиками персонал и обеспечить его безопасное возвращение на родину». Однако правда состояла в том, что никакой новой информации не поступало, а это означало, что перспективы благополучного исхода становились все более сомнительными.
С минуту Рори смотрела на коробку с письмами, едва противостоя желанию выудить из нее пару посланий и забраться с ними обратно в постель. Однако ей необходимо было побывать сегодня совсем в ином месте. Даже, на самом деле, в двух местах, учитывая, что она договорилась во второй половине дня встретиться с Лизетт в кондитерской «Сладкие поцелуи».
Двадцать минут спустя Рори подхватила в прихожей сумочку и ключи, еще раз напоследок взглянула на себя в зеркало. Белые слаксы и шелковая бледно-персиковая блузка на пуговицах без рукавов. Еще влажные волосы собраны в хвост. На ресницах немного туши, едва заметный блеск на губах, в ушах неприметные гвоздики с маленькими бриллиантами. Конечно, далеко не на уровне стандартов. Впрочем, с точки зрения ее матери, у нее ничто и никогда не дотягивало до уровня.
Глава 2
Рори
Стоило Рори войти в дом, как ее окутали ароматы свежемолотого кофе и сконов[3] с черникой. Из кухни она уловила негромкое жужжание маминой соковыжималки. Скинув в прихожей балетки, Рори поставила их у самой двери – носками к выходу, – на случай, ежели потребуется срочно ретироваться. Видит бог, подобное случалось уже не раз.
Как обычно, дом пребывал в безукоризненном порядке. С роскошными бежевыми коврами и старательно подобранной мебелью, он олицетворял собою состоятельность хозяйки и ее изысканный вкус. На стенах, естественно, красовалось «правильное» искусство – неизменные вазы с фруктами и кувшины с пышно распустившимися маками в тяжелых позолоченных рамах. И нигде ни пылинки, ни даже чуточку покосившейся картины.
Дом этот выглядел абсолютно так же, и когда Рори была маленькой – и все благодаря воинственно-незыблемым требованиям матери относительно порядка и чистоты. Не ходить в обуви дальше прихожей. Не засаливать руками стены. Не выносить еду или напитки за пределы столовой – за исключением тех случаев, когда в доме устраивалась вечеринка. А вечеринок, надо сказать, бывало здесь предостаточно. Чаепития с подругами, коктейльные вечеринки, званые обеды и, разумеется, мероприятия по сбору средств в благотворительные фонды ее матери – каждое из которых проводилось на высшем уровне, после чего дом тщательно вычищался командой профессионалов, всегда готовых явиться к Камилле по первому звонку.
Матушку Рори нашла на кухне – та переливала в кувшин свежевыжатый апельсиновый сок, характерно позвякивая своим «фирменным» золотым браслетом с подвеской. В брюках цвета хаки и белой накрахмаленной блузке она выглядела исключительно свежей и опрятной, тяжелые золотистые волосы были убраны назад в низкий хвост. Камилла точно сошла с обложки журнала домашнего стиля «Town & Country». Как обычно, макияж ее был безупречен: изящно подкрашенные глаза, чуточку подрумяненные щеки, легкий налет персикового блеска на губах. В свои сорок два года она еще вполне была способна вызывать восхищение у мужчин.
Когда Рори вошла на кухню, мать оглянулась.
– Ну наконец-то, – молвила она, окинув свою дочь быстрым, но придирчивым взглядом. – А то я уже начала думать, что ты снова не приедешь. У тебя что, мокрые волосы?
– Не было времени их просушить. Чем могу тебе помочь?
– Все уже приготовлено и, надеюсь, еще не остыло. – Она вручила Рори тарелку с идеально нарезанными ломтиками дыни и доверху полную чашу с клубникой. – Неси-ка это на стол, а я прихвачу все остальное.
Взяв в руки фрукты, Рори направилась к террасе. Утро выдалось просто идеальным: небо было поразительно голубым, легкий нежный ветерок обещал раннее лето. Внизу, куда ни глянь, раскинулся Бостон с его извилистыми улицами и беспорядочно торчащими макушками крыш. Вдоль реки тянулся Сторроу-драйв с нескончаемым потоком машин, виднелась полная яркой зелени Эспланада, поблескивала на солнце река Чарльз, усеянная яркими крохотными парусниками.
Рори бесконечно любила свой город со всеми его контрастами и противоречиями. С его богатой колониальной историей и живой, бурлящей мультикультурой большого «плавильного котла»[4]. Искусство, еда, музыка, наука – все здесь словно рвались вперед, оттирая друг друга локтями и пытаясь перетянуть внимание на себя. И все же было что-то особенное в том, чтобы лицезреть все это отсюда, сидя вдали от шума и суеты, что всегда, пока Рори росла в этом доме, ощущалось ею как некое маленькое волшебство. У нее появлялось чувство, будто внезапно для всех она может отрастить себе крылья и навсегда улететь.
В юности она часто мечтала улететь отсюда прочь – стать кем-то совсем другим, жить совершенно иной жизнью. Жизнью абсолютно собственной. С собственной карьерой, не имеющей никакого отношения к ее матери. С мужем, который абсолютно не похож на отца Рори. И у нее все это почти что получилось.
Почти…
Это слово камнем сидело у нее в груди, неизбывной тяжестью давя на сердце, делая непосильными даже совсем элементарные дела вроде похода в универсам или встречи с подружкой. Конечно, такая потребность удалиться от мира не выглядела нормальной. Однако для Рори она была вовсе не нова. Она всегда тяготела к интровертной области жизненного спектра, всеми стараниями избегая шумных вечеринок и прочих людных мероприятий, не говоря уже о том внимании, что неизменно приковывалось к ней как к дочери одной из самых выдающихся представительниц филантропической элиты Бостона.
Чтобы ни единый волосок не выбился из прически, чтобы не допустить никакой, даже самой мелкой, оплошности – такова была Камилла Лоуэлл Грант. Неизменно правильное облачение, правильный внешний облик, правильный во всех отношениях дом, правильные произведения искусства. Все было в ее жизни правильно – если только не считать постоянно изменяющего супруга и трудной, своенравной дочери. И тем не менее Камилла с достойной восхищения стойкостью несла свою нелегкую ношу. Почти всегда.
Устанавливая блюда с фруктами, Рори оглядела накрытый стол. Выглядел он, как иллюстрация из журнала «Victoria»: белоснежный островок скатерти с бабушкиным английским фарфоровым сервизом Royal Albert, льняные салфетки, с безупречной аккуратностью сложенные перед каждой предполагаемой персоной, а в центре стола – ваза с восковыми белыми гардениями, «фирменным» цветком ее матери. В общем, как всегда и во всем, – изумительное совершенство.
Начало традиции совместного бранча было положено в тот день, когда Рори исполнилось двенадцать лет, и очень быстро эта воскресная трапеза превратилась в еженедельный ритуал. Меню от недели к неделе менялось: к столу подавались или свежие фрукты с какой-то домашней выпечкой, или тосты с копченым лососем и мягким сливочным сыром, а иногда и безупречно приготовленный омлет с сезонными овощами. И лишь одно при этом было постоянным и неизменным: коктейль «Мимоза» из свежевыжатого апельсинового сока и идеально охлажденного шампанского «Вдова Клико».
Изначально предполагалось, что на этих встречах они смогут обмениваться последними новостями, рассказывать друг другу, как прошла неделя. Однако в последнее время их посиделки тет-а-тет сделались чересчур напряженными, поскольку Камилла всякий раз находила новые и не слишком деликатные способы намекнуть дочери, что, быть может, той пора уже двигаться по жизни дальше.
Рори покрутила пальцами кольцо на левой руке – с небольшим овальным рубином, у которого снизу проглядывала крохотная щербинка. С этим перстнем отец Хакса делал предложение его матери – это было все, что он мог тогда себе позволить, вернувшись простым солдатом с Корейской войны[5]. Хакс обещал Рори, что они вместе потом отправятся в магазин и выберут для нее настоящее помолвочное кольцо, однако именно с перстнем своей матери он хотел задать избраннице этот важнейший для себя вопрос. Тронутая его сентиментальностью, она предпочла оставить у себя именно это украшение, глубоко взволнованная тем, что Хакс доверил ей такую ценную для себя вещь. А теперь кольцо его матери было одним из немногого, что осталось у Рори от Хакса.
Когда из кухни показалась Камилла с двумя тарелками, Рори отодвинула эти мысли подальше.
– Фриттата со спаржей и грибами, – объявила мать, эффектным движением выставляя тарелки на стол.
– Выглядит восхитительно! – воскликнула Рори, занимая свое обычное место. Ее матушка никогда не слыла заядлым кулинаром – и тем не менее довольно хорошо знала, как управляться на кухне.
Камилла между тем вытащила из-под мышки несколько университетских учебных проспектов и вручила их Рори, после чего села напротив нее за стол.
– Они пришли еще на прошлой неделе, но ты тогда манкировала наш бранч. Еле сдержалась, чтобы не сказать почтальонше, что знать не знаю девушки по имени Рори, и не спросить, нет ли у нее почты для моей дочери Авроры.
Рори сухо улыбнулась:
– Тебе пора уже найти какую-то новую тему, мама. Эта шутка явно устарела.
– Рори – какое-то мальчишеское имя. А тебя зовут Аврора. И это очень красиво. Вполне подобающе леди.
– Подобающе престарелой леди, – парировала Рори. – И как раз папа его и сократил. И его такая укороченная версия ничуть не напрягала.
Мать даже фыркнула в ответ:
– Чтобы что-то могло напрягать, надо по меньшей мере находиться рядом.
Рори взяла со стола вилку, с вялой рассеянностью потыкала ею во фриттату. Да, так оно и было. Интересы ее отца всегда простирались где-то поодаль. Она не представляла, сколько у него на счету было «левых» похождений, однако подозревала, что мать знала, сколько именно. На протяжении долгих лет Камилла отслеживала каждую женщину, входившую ненадолго в жизнь Джеффри Гранта, скрупулезно добавляя новое имя в коллекцию, точно четвертаки в «ругательную банку»[6].
Очевидно, Камилла не развелась с ним из-за дочери, хотя Рори подозревала, что уик-энд в майамском курортном Дорале с двадцативосьмилетней секретаршей мог бы стать решающим ударом по их браку, если бы отец не умер в ее постели. Большинство светских дам не смогли бы оправиться от подобного скандала – от столь катастрофической развязки и столь лакомого для публики клише, – однако для Камиллы это стало жемчужиной ее коллекции измен, с гордостью приобретенным знаком чести.
– Ты, я вижу, ничего не ешь?
Рори взяла из вазочки с клубникой ягоду, принялась старательно жевать. Камилла тем временем достала из ведерка со льдом бутылку «Вдовы» и завозилась с пробкой. Через пару минут Рори потянулась через стол и забрала у матери шампанское:
– Позволь-ка, я открою, пока ты не выбила никому глаз.
Вскоре пробка с легким хлопком выскочила из бутылки. Рори налила шампанское в бокалы, добавив апельсиновый сок. Без слов, по привычке, они легонько чокнулись коктейлями, после чего обе принялись за еду.
За завтраком разговаривала в основном Камилла, со стороны Рори требовался минимум участия. Сплетни о пластических операциях и слухи о разводах. Сообщение о предстоящей поездке подруги в Ирландию. О том, что дают в следующем сезоне в Бостонском оперном театре. О тематике для новогоднего благотворительного бала, который Камилла вновь организовывает в этом году. В конце концов их незатейливая светская беседа неминуемо вторглась на уже знакомую, хотя и очень дискомфортную для Рори территорию.
– Я тут на днях случайно повстречалась с Диной Маршалл, когда отвозила в ремонт часы. Дениз, ее младшая дочь, осенью собирается в Бостонский университет. Намерена заниматься музыкой. На арфе, если не ошибаюсь. Я ей сказала, что ты в августе собираешься вернуться в Тафтс заканчивать магистратуру. А затем, возможно, отправишься в Париж на стажировку, которую мы с тобой уже обсуждали. Она просила передать тебе всяческие поздравления.
– Дениз занимается фортепиано, – сухо констатировала Рори. – На арфе играет Патриция.
– Да, точно! Конечно же, на фортепиано. – Камилла взяла со стола салфетку, старательно промокнула рот. – Ну а ты как? Ждешь возвращения в колледж?
Рори снова потянулась за шампанским, освежила содержимое бокала, на сей раз обойдясь без апельсинового сока. Не торопясь отпила немного, потом подняла глаза на мать:
– Я ничего уже не жду.
Вздохнув, Камилла переложила себе на тарелку один из сконов.
– Ты что, дуешься на меня, Аврора?
– Мне двадцать три года, мама. Я уже не дуюсь.
– В самом деле? А что, по-твоему, сейчас происходит?
Рори поставила бокал с «мимозой» и выпрямилась на стуле:
– Мы три недели с тобой не виделись. И ты даже не хотела спросить, что нового слышно о Хаксе?
Камилла быстро взглянула на нее:
– Ну, разумеется, хотела.
– Интересно, когда? Мы уже закончили завтрак. Мы поговорили о подтяжке лица у Вики Фостер, о том, какая потрясающая еда в Британии, о твоих планах в связи с благотворительным балом и о том, что дочка Дины Маршалл решила заняться музыкой. И ты так и не сумела выбрать момент, чтобы втиснуть в этот насыщенный разговор имя моего жениха.
– Ты же не думаешь на самом деле, что я стану за завтраком обсуждать такие серьезные вопросы?
– Какое отношение это имеет к завтраку?
Уголки рта у Камиллы слегка опустились, идеально изобразив легкую обиду.
– Я старалась проявить деликатность.
– Деликатность?! – От этого слова Рори даже стиснула зубы, как будто хорошие застольные манеры и впрямь были оправданием такого наплевательского отношения. – Мне не нужно от тебя деликатности, мама. Мне необходимо, чтобы ты обо мне беспокоилась. Но тебе все равно. И всегда было все равно.
У Камиллы округлились глаза.
– Ну что ты такое говоришь!
– Он никогда тебе не нравился. С самого первого дня ты вела себя так, будто видела в нем лишь некую стадию моей жизни. Будто надеялась, что рано или поздно я из этого вырасту – как, например, из тяги к футболу.
– Это неправда.
– Как раз абсолютная правда. Тебе не нравилось ни то, как он выглядит, ни его увлечение серфингом, ни тот факт, что он оставил частную врачебную практику. Но главная загвоздка – что тебе не нравится то, что он приехал из какого-то маленького прибрежного городка в Северной Каролине, о котором здесь никто и слыхом не слыхал. И что его родители учили детей в средней школе, вместо того чтобы организовывать карточные турниры и званые ужины.
Тут же во всем облике матери изобразилось фирменное выражение негодования: расправленные плечи, вздернутый подбородок и ледяной взгляд поверх идеального аристократического носа.
– Ты делаешь совершенно ужасные намеки.
– Я вовсе не намекаю, мама. Я прямо об этом говорю. Многие матери сочли бы такого человека, как Хакс, очень удачной партией для своей дочери – но только не ты! Ты ведь желала для меня кого-то с правильной, на твой взгляд, фамилией и со стикером «Mayflower»[7] на чемодане. А теперь, когда Хакс пропал без вести, ты видишь в этом возможность быстро все переиграть. Хотя мне и не очень понятно, с чего вдруг твой собственный брачный опыт дает тебе право выбирать мужа кому-то другому.





