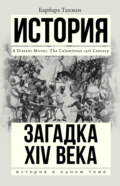Барбара Такман
Европа перед катастрофой. 1890-1914
Убийцу, «все еще державшего в руке дымящийся револьвер и не скрывавшего своего ликования», задержали. Им оказался Гаэтано Бреши, тридцатилетний анархист, ткач, приехавший из Патерсона штата Нью-Джерси в Италию специально для того, чтобы застрелить короля. Его акцию можно считать единственным примером пропаганды деянием, совершенным в результате заговора, хотя и не доказанного 62.
Патерсон был центром сосредоточения итальянцев и анархистов. Конечно, они устраивали сходки, на которых обсуждали «деяния» с целью свержения угнетателей. Без сомнения, рассматривалась и кандидатура короля Италии, однако нет подтверждений появившимся после покушения домыслам, будто его приговорили к смерти, как и догадкам, будто дискуссии подтолкнули Бреши на преступление. Образ заговорщиков, бросающих в подвале жребий, кому вершить акт правосудия или возмездия, будоражил воображение журналистов.
Один из таких репортеров написал, что Бреши подпал под влияние Малатесты, «вожака и вдохновителя всех заговоров, которые потрясли и ужаснули мир». Он утверждал, будто видели, как Малатеста спокойно сидел и что-то пил в итальянском баре в Патерсоне. Однако полиция не нашла свидетельств, которые доказывали бы, что Бреши когда-либо встречался с Малатестой. Но кто-то же ему дал или он сам приобрел револьвер и тренировался в стрельбе в лесу, пока жена с трехлетней дочкой собирала поблизости цветы. И кто-то снабдил его или он сам раздобыл деньги для покупки билета третьего класса на пароход компании «Френч лайн» до Гавра и на поездку из Гавра в Италию.
«Он был не настолько безумным, чтобы думать, будто после его акции сменится власть, – говорил репортеру Педро Эстев, редактор анархистского журнала в Патерсоне. – Но как еще вы дадите народу Италии знать о существовании такой силы, как анархизм?» Эстев, дружелюбный и интеллигентный человек, у которого на полках рядом стояли сочинения Эмерсона и Жана Грава, охотно согласился с предположением о том, что кто-нибудь из его читателей все же может подняться и пойти выражать протест «прямым действием».
Товарищи Бреши послали ему в тюрьму поздравительную телеграмму и носили значки с его изображением на отворотах пиджаков. На собрании в Патерсоне, в котором участвовало более тысячи человек, они утверждали, что не было никакого заговора. «Нам нет нужды устраивать заговоры или заниматься болтовней, – заявил Эстев, основной оратор. – Если ты анархист, то знаешь, что надо делать, и поступаешь так, как считаешь нужным».
Бреши постигла участь всех других приверженцев и исполнителей идеи. В Италии запретили смертную казнь, и его приговорили к пожизненному заключению с пребыванием первых семи лет в одиночной камере. Он не выдержал и года, покончив жизнь самоубийством.
В Соединенных Штатах газетные описания убийства короля Умберто читал и перечитывал американец польского происхождения по имени Леон Чолгош. Газетную вырезку он берег как драгоценность и брал с собой в постель каждый вечер, ложась спать. Ему было двадцать восемь лет, он был небольшого роста, хрупкого телосложения, и его светло-голубые глаза обладали какой-то особенной неподвижностью. Он родился в Соединенных Штатах вскоре после приезда в Америку отца с матерью, у него было еще пять братьев и две сестры, и все они жили на маленькой ферме в Огайо. По словам отца, он «выглядел более задумчивым, чем большинство детей», много читал, и в семье его считали интеллектуалом. В 1893 году, когда ему исполнилось двадцать лет, во время забастовки его уволили с работы на проволочной фабрике, и после этого, по словам брата, он «стал тихим и безрадостным». Молитвы и проповеди местного приходского священника не действовали, он порвал с католической церковью, предался чтению памфлетов, издававшихся «Вольнодумцами» (Free Thinkers), и пристрастился к политическому радикализму. Чолгош примкнул к кружку польских рабочих, принимал участие в обсуждении социализма и анархизма, говорили они, как он потом признавал, и «о президентах, отзываясь о них не очень хорошо».
В 1898 году его поразил какой-то недуг, и Чолгош ходил унылый и мрачный. Он забросил дела, замкнулся дома, брал с собой еду наверх в спальню, читал чикагскую анархистскую газету «Свободное общество» и утопию Беллами «Оглядываясь назад» и все время о чем-то думал. Иногда он выезжал в Чикаго и Кливленд на собрания анархистов, слушал речи Эммы Гольдман, беседовал с анархистом Эмилем Шиллингом, рассказав ему, что его беспокоит поведение американской армии, которая освободила Филиппины от испанцев и теперь воюет с филиппинцами. «Это не согласуется с тем, что нам толковали в школе о роли нашего флага», – сказал он Шиллингу.
Поскольку флаги анархистами не почитались, Шиллинг заподозрил неладное и опубликовал в газете «Свободное общество» предостережение: странный поляк может быть agent provocateur. Предупреждение появилось 1 сентября 1901 года, и оно оказалось ложным. Через пять дней Чолгош возник в Буффало и, стоя в очереди за рукопожатием на Панамериканской выставке, застрелил президента Мак-Кинли. Президент умер через восемь дней, и его место занял Теодор Рузвельт. Таким образом, анархист с наименьшим уровнем идейной подготовки совершил самое громкое деяние.
«Я убил президента Мак-Кинли, – написал Чолгош в признании, – выполнив свой долг. Он был врагом хороших людей, трудящихся». Чолгош рассказал репортерам, что слушал лекцию Эммы Гольдман, которая говорила, что «надо истребить всех правителей… и у меня голова разрывалась от боли, когда я думал об этом». И потом добавил: «Я не считаю, что нам нужны правители. Их надо убивать… Я знаю других людей, которые думают точно так же, что правильно убить президента и не иметь никаких правителей… Я не верю в выборы, они противоречат моим принципам. Я анархист. Я не верю в браки. Я верю в свободную любовь».
Анархистская идея лучшей жизни отсутствовала в миропонимании Чолгоша. Как и учеником пекаря Касерио, заколовшим президента Франции, им тоже завладела бредовая иллюзия, будто и на него возложена миссия убить главу государства. После суда и казни Чолгоша 29 октября на электрическом стуле к такому выводу пришел Уолтер Чэннинг, профессор-психиатр из Тафтса, сын поэта Уильяма Эллери Чэннинга 63. Его не удовлетворил официальный отчет, и он провел собственное исследование, заключив, что у Чолгоша «неуклонно развивалась dementia praecox [27], психическое расстройство, описанное французским психиатром Эммануэлем Режи в 1890 году. Согласно теории доктора Режи, психическому поведению цареубийцы свойственны «обдуманность и одиночество»: «Какими бы разумными доводами он ни руководствуется, они уступают место болезненной одержимости мыслью о призвании совершить великое деяние, отдать жизнь за справедливое дело и убить монарха или иную высочайшую особу во имя Бога, страны, свободы, анархии или какой-нибудь другой аналогичной идеи». Он действует предумышленно и вдохновенно. Он действует не внезапно и слепо, а готовится к акции тщательно и исполняет ее в полном одиночестве. Он – солист. Гордящийся и собой, и своей миссией, он всегда действует днем и при скоплении народа и никогда не применяет незаметные средства вроде яда, а использует оружие, демонстрирующее акт насилия. И совершив его, он не прячется и не убегает, а выказывает гордость содеянным, жаждет известности и смерти посредством казни или самоубийства и статуса мученика.
Описание верное, но для реализации даже бредовых иллюзий необходимы побудительные мотивы, атмосфера протеста и примеры. Все это в избытке предоставлял анархизм. Могли существовать сотни потенциальных Чолгошей, серия акций, совершенных анархистами от Равашоля до Бреши, подготовила и покушение на президента Соединенных Штатов.
Возмутилась вся общественность, а она состояла не только из богатых особ, но и тех, кто имитировал состоятельность или стремился к ней. Простой человек – мелкий буржуа, служащий, получающий зарплату, – не отделял себя от работодателей, что и рассердило Эмиля Анри, бросившего бомбу в кафе «Терминус». Он верил в то, что сама его жизнь и благосостояние зависят от собственников. Если угрожают им, значит, угрожают и ему. Его ужасает стремление анархистов уничтожить основы, на которых зиждится повседневное существование человека: государственный флаг, семья, брак, церковь, выборы, законы. Анархист превратился во всеобщего врага. Его зловещий образ стал символом всего порочного и разрушительного в жизни, олицетворением, как написал профессор политологии в журнале «Харперс уикли», «царя всех анархистов, архибунтовщика Сатаны». Доктрина анархизма, предупреждал журнал «Сенчури мэгэзин», «предвещает людям больше зла, чем какая-либо другая концепция межчеловеческих отношений»64.
Новый президент, способный и проявлять понимание, и предпринимать решительные действия, и изрекать банальности, назвал анархистов обыкновенными преступниками, только более «извращенными» и «опасными». В послании конгрессу 3 декабря 1901 года Теодор Рузвельт заявил: «Анархизм – преступление против всего человечества, и все человечество должно сплотиться для борьбы против анархизма»65. Он не является продуктом социальной и политической несправедливости, и его претензии на защиту трудящихся «возмутительны». В Соединенных Штатах уважительно относятся к «честному и добросовестному труду», и перед рабочими открыты все возможности для того, чтобы проявить себя. Он потребовал расценивать собрания, устные и письменные выступления анархистов подрывными, запретить им въезд в страну, а тех, кто уже находится в Соединенных Штатах, – депортировать. Конгресс должен «изолировать всех, кто разделяет анархистские убеждения или является членом анархистских обществ», и проповедь убийства должна считаться таким же нарушением международного права, как пиратство, с тем чтобы федеральное правительство наделить полномочиями для борьбы с анархистами.
После острых дебатов и не без протеста со стороны тех, кто возражал против посягательств на традиционное право свободного въезда в страну, конгресс в 1903 году принял поправку к иммиграционному законодательству, предусматривающую лишение этих прав лиц, проповедующих недоверие или оппозицию правительству. Поправка вызвала недовольство либералов и язвительные упоминания статуи Свободы.
Анархизм обычно предстает двуликим Янусом: с одной стороны, он ненавидит общество и государство, с другой – печется о судьбе человечества. Но широкой общественности известна лишь одна сторона медали: бомбы, взрывы, выстрелы, кинжалы. Она ничего не знает о заявке анархизма на то, чтобы вести человечество через спазмы насилия к Сладким Чертогам. Пресса, например, изобразила Малатесту злым гением анархизма, «молча и хладнокровно составляющим заговоры». Но он же, исходя из альтруистских принципов своей философии, передал по акту жильцам два дома, доставшихся ему в наследство от родителей. Публике неведомо было и о значении «пропаганды действием», поэтому ее удивляла бессмысленная жестокость акций. Они казались ей безумными, сатанинскими, совершавшимися ради удовлетворения своих прихотей. Пресса привычно называла анархистов «зверьем», «подвальными лунатиками», дегенератами, уголовниками, трусами, «фанатиками с извращенной психикой и патологическими отклонениями». «Бешеная собака – этот эпитет лучше всего подходит для характеристики анархиста», – писал «Блэквуд», солидный британский журнал 66. «Как можно уберечь общество от страшного сборища безумцев и преступников?!» – восклицал Карл Шурц [28] после убийства Кановаса.
Невозможно было ответить на этот вопрос. Выдвигались самые разные предложения, включая учреждение международной исправительной колонии для анархистов, насильственную изоляцию их в психлечебницы и депортацию, правда, не объяснялось, в какую страну.
Нашелся все-таки человек, попытавшийся понять анархизм. В разгар истерии, поднявшейся в связи с убийством президента Мак-Кинли, Лиман Аббот 67, редактор журнала «Аутлук» и поборник традиций Новой Англии, породивших аболиционизм, осмелился заявить: разве ненависть анархистов к правительству и закону не вызвана несправедливостью этого правительства и его законов? Пока законодатели будут обслуживать особые классы, «поощрять ограбление большинства во благо меньшинства, защищать богатых и игнорировать бедных», и анархизм будет требовать «искоренения всех законов, видя в них инструмент несправедливости». Выступая перед приятной компанией джентльменов клуба «Девятнадцатый век», он предложил, что «атаковать анархизм надо там, где находятся источники обид». Аббот отражал уже назревавшие в обществе настроения в пользу реформ, которые проявлялись и в благотворительных инициативах Джейн Аддамс, открывшей ночлежку Халл-хаус, и в социальных разоблачениях макрейкеров.
Убийством Мак-Кинли завершилась эра анархистского насилия в западных демократиях. Даже Александр Беркман в письме Эмме Гольдман из тюремной камеры признал бесплодность индивидуальных актов насилия, когда у пролетариата отсутствует революционное сознание. Эти слова у Гольдман, которая все еще верила в правое дело анархизма, «вызвали поток слез», она была «расстроена до глубины души» и, «чувствуя себя совершенно больной», легла в постель, взяв с собой его послание. Она по-прежнему оставалась убежденной анархисткой, пресса называла ее «королевой анархии», но анархизм лишился страстности, трансформируясь, как это произошло во Франции, в более реалистическое движение – синдикализм. В Соединенных Штатах он растворился в союзе Индустриальных рабочих мира, созданном в 1905 году. Хотя, конечно, в некоторых других странах анархизм оказался более жизнестойким.
В двух странах, расположенных на обочине Европы, – в Испании и России – взрывы бомб и убийства продолжались. В 1906 году террорист бросил бомбу в короля Альфонсо и его молодую английскую невесту, когда они справляли свадьбу: от взрыва погибли двадцать человек. Общественность ужаснулась от мысли о том, сколько же накопилось в стране злобы и ненависти, чтобы совершить такой чудовищный акт. В 1909 году правящий класс доказал, что он тоже умеет ненавидеть. После неудачного бунта в Барселоне, получившего название «Кровавой недели» [29], правительство казнило Франсиско Ферреру, радикала и антиклерикального просветителя, хотя он и не был истинным анархистом. Расправа вызвала бурные протесты во всей остальной Европе: произвол в Испании, как обычно, дал повод для шумного выражения либеральных настроений. В 1912 году испанский анархист по имени Мануэль Пардиньяс шел по пятам за премьером Хосе Каналехасом по улицам Мадрида и застрелил его, когда тот остановился у окна книжного магазина на площади Пуэрта-дель-Соль 68. Почему он это сделал? Ведь после казни Ферреры премьер-министр Каналехас уже пытался реформировать неограниченное всесилие церкви и лендлордов. Очевидно, ненависть испанских анархистов к своему обществу и государству тоже, как писал Шоу, «перехлестывала через край»69.
В России революционная традиция была давней и сильной, впитав недовольство масс безысходностью и несбыточными надеждами. Каждое новое поколение порождало бойцов для войны между мятежниками и деспотами. В 1887 году, когда были повешены анархисты Хеймаркета, в России на виселице вздернули пятерых студентов Петербургского университета за попытку покушения на царя Александра III. Их вожак Александр Ульянов утверждал на суде, что только террором можно бороться в полицейском государстве. В его семье было трое братьев и три сестры, все революционеры, и младший брат Владимир Ильич поклялся отомстить и, взяв себе имя Ленин, начал готовить революцию.
Нараставшие в девяностые годы народные волнения вселили в революционеров веру в то, что вот-вот поднимется восстание. Новый царь Николай II, оказавшийся и слабым и опасным автократом, категорически отверг призывы к конституции, назвав их «бесплодными мечтаниями», чем огорчил демократов и разозлил экстремистов. Повсеместно рабочие объявляли забастовки. Приближалось окончание столетия, и оно предвещало прощание с прошлым и пришествие «лучших времен».
Все группы протеста готовились к этому историческому моменту, крепили свои силы, разрабатывали программы. Однако между ними не было согласия, разгорался конфликт между приверженцами марксизма, настаивавшими на тщательной организации и подготовке, и сторонниками стратегии народников, полагавшихся на спонтанную революцию, которая вспыхнет в результате террористического акта. В 1897 и 1898 годах образовались два лагеря – марксистская социал-демократическая партия и народнические группы социалистов-революционеров, объединившихся в 1901 году в единую партию.
Признав необходимость организованной партии, социалисты-революционеры не были анархистами в чистом виде, но разделяли анархистские убеждения в том, что террор пробудит революцию 70. Они исходили из того, что революция вспыхнет подобно солнечным лучам, внезапно появляющимся из-за тучи, а дальше все получится само собой. Ассоциирование анархистов с выходцами из России объясняется отчасти пристрастием русских революционеров к бомбам, которые со времени убийства царя в 1881 году стали главным средством борьбы, и отчасти бессознательной силлогистикой: русские – революционеры; анархисты – революционеры; значит, анархисты – русские. Ортодоксальные анархисты, издававшие русскоязычные журналы в Женеве и Париже и придерживавшиеся концепций Кропоткина, не составляли сколько-нибудь значительную силу в самой России.
В 1902 году Максим Горький в пьесе «На дне» отразил все несчастья и горести России. «Человек рожден для лучшего!» – восклицает пьяница-шулер и, поискав иные слова для того, чтобы передать состояние своей души, повторяет: «Для лучшего». В 1901–1903 годах боевики социалистов-революционеров убили министра просвещения Боголепова, министра внутренних дел Сипягина, руководившего тайной полицией, и губернатора Уфы Богдановича, подавившего восстание горняков на Урале с чудовищной жестокостью. 15 июля 1904 года, в разгар Русско-японской войны, они лишили жизни второго министра внутренних дел Венцеля фон Плеве [30], самого ненавистного человека в стране. Ультрареакционер Плеве затмевал самого царя в стремлении сохранить самодержавие и не идти ни на малейшие уступки демократам. Для него важнее всего было уничтожить любые реальные и потенциальные очаги и источники распространения антипатии к режиму. Он подвергал массовым арестам революционеров, преследовал «староверов», препятствовал деятельности земств, местных органов самоуправления, устраивал гонения на евреев, насильственно русифицировал поляков, финнов и армян, лишь увеличивая численность врагов царизма и убеждая их в необходимости его свержения.
Один из методов отвлечения народного недовольства режимом он описал коллеге такими словами: «Мы должны утопить революцию в еврейской крови»71. В 1903 году на Пасху в Кишиневе был устроен погром. Подстрекаемые агентами, толпы русских жителей города на глазах безмолвных жандармов обрушились на извечных супостатов, избивая их, поджигая и грабя дома и лавки, оскверняя синагоги и раздирая в клочья священную Тору. Один раввин, пытавшийся уберечь драгоценное Пятикнижие, погиб под дубинками и сапогами. Кишиневский погром вызвал гневное осуждение во всем мире. В том же 1903 году террористов партии эсеров возглавил Евно Азеф, еврей, который был одновременно и агентом тайной полиции. Он организовывал и террористические акты, и информировал охранку, но не предупредил о готовящемся покушении на своего шефа. Убийство главного жандарма произвело фурор в России: удар был нанесен по шефу полиции, оплоту всей системы. Предупреждение было настолько зловещим, что преемник Плеве князь Святополк-Мирский приговорил убийцу к пожизненной каторге в Сибири, а не к смертной казни, надеясь, что эта мера менее способна спровоцировать месть.
Через полгода, в январе 1905 года, на площади перед Зимним дворцом войска расстреляли мирную демонстрацию петербургских рабочих, пришедших к царю с петицией о конституции. В Кровавое воскресенье полегло более тысячи человек. Террористы начали готовить акты возмездия, убийство царя и его дядей великого князя Владимира Александровича, которого обвиняли в расправе, и великого князя Сергея Александровича, оказывавшего большое влияние на царя. Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы, и его особенно ненавидели за свирепую жестокость 72, капризность и одержимость всевластием, граничившую с безумием. Согласно одному английскому обозревателю, он отличался «специфической немилосердностью» и даже среди русских аристократов прославился своей «порочностью». Хотя Азеф и был платным агентом полиции, он помогал и боевым отрядам добиваться успехов, без которых он стал бы менее ценен для охранки. В феврале 1905 года Сергея Александровича разорвало на куски бомбой, брошенной молодым революционером по имени Каляев, который продолжал стоять посреди месива в старом синем пальто с красным шарфом, забрызганный кровью, но невредимый. От великого князя, его кареты и лошадей остались лишь «бесформенные груды частей тела и обломков размером восемь-десять дюймов»73. В тот вечер царь, узнав страшные вести, пришел к ужину домой, ничего не сказал об убийстве, отужинал и, по описанию одного из гостей, «забавлялся, пытаясь сдвинуть мужа сестры 74 с узкой софы» [31].
На суде в апреле 1905 года Каляев, худой, осунувшийся, с запавшими глазами, сказал: «Мы два воюющих лагеря… два яростно противоборствующих мира. Вы представляете капитал и угнетателей; я – один из народных мстителей». Россия воевала на два фронта: с японцами и собственным народом, неповинующимся и открыто восстающим. «Что все это означает? История вынесла вам приговор». Осужденный на казнь, Каляев выразил пожелание, чтобы палачи совершили ее открыто и публично. «Учитесь смотреть надвигающейся революции прямо в глаза», – сказал он судьям. Однако его повесили в черном балахоне после полуночи в тюремном дворе и захоронили возле стены.
В октябре революция свершилась. Пропаганда деянием, убийством фон Плеве и великого князя Сергея Александровича помогла побудить массы к восстанию. Ее организовали не эсеры, не социал-демократы, не анархисты, она вспыхнула спонтанно, как и предполагал Бакунин, не доживший до этих дней. В соответствии с концепцией синдикализма она проросла из всеобщей забастовки рабочих и, перепугав режим, добилась от него конституции и учреждения Думы. Все эти новшества были впоследствии отменены, но синдикалисты поверили в эффективность «прямых действий» посредством всеобщих забастовок, и анархисты охотно вступали в союзы индустриальных рабочих. В России отряды террора совершили еще несколько убийств и потом расформировались после разоблачения Азефа в 1908 году. Ко времени убийства премьер-министра Столыпина в 1911 году полубезумный, пасмурный мир Романовых покрылся таким мраком, что трудно было понять, где истинные революционеры, а где agents provocateurs полиции.
Какими бы призрачными ни были помыслы анархистов, их акции обострили борьбу между двумя сегментами общества, между миром привилегированных классов и миром протеста. Одних они заставили задуматься, других – подтолкнули к тому, чтобы через синдикаты объединяться в организации трудящихся. Анархизм изначально не признавал никакой организованности. Это был последний крик души индивидуальности, последний порыв в массах, выражавший жажду индивидуальной свободы, последняя надежда на жизнь без подчинения командам, последний взмах кулака перед лицом наступавшего государства перед тем, как человека окончательно смяли государство, партия, профсоюз, организация.