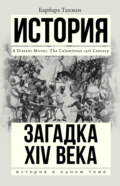Барбара Такман
Европа перед катастрофой. 1890-1914
Когда надо, он мог быть «душой компании… приятным собеседником»104, то есть при соответствующих внешних обстоятельствах. На званый обед в 1885 году лорд пришел усталый и голодный, проведя целый день на заседании комитета, и еще больше помрачнел и молчал в дурном настроении, когда вначале подали причудливые, но легкие французские блюда, а не что-нибудь посущественнее. Когда наконец принесли ростбиф, он воскликнул: «Ура, теперь можно и поесть!», подключившись сразу же к застольной беседе. Писатель Уилфред Уорд, другой участник этого званого обеда, отмечал, что лорд Хартингтон в отличие от мистера Гладстона, сидевшего за тем же столом, «всегда умел ткнуть пальцем в недостатки, которые обычно пропадали в риторике мистера Гладстона». Спустя восемнадцать лет Уорд снова повстречался с герцогом в британском посольстве в Риме и напомнил о званом обеде. Герцог с чувством воскликнул: «Конечно, как не помнить. Это когда нам нечего было поесть». Уорд заключил: прошло почти двадцать лет, а неадекватность французской снеди все еще не забылась.
Наследовав титул в 1891 году, герцог, не в пример Солсбери, продолжал посещать палату общин и «по обыкновению сидел, позевывая от скуки, в первом ряду галереи пэров» даже во время жарких вечерних дебатов. Титул герцога добавил ему забот. Он теперь владел поместьями в Дербишире, Йоркшире, Ланкашире, Линкольншире, Камберленде, Суссексе, Миддлсексе и в Ирландии, и ему приходилось просматривать всю материально-финансовую отчетность и решать все проблемы с агентами по недвижимости. К тому же он был одновременно еще лордом-наместником Дербишира, канцлером Кембриджского университета, президентом Британской имперской лиги и патроном различных церковных приходов, в которых надо было делать назначения. К этому перечню следует добавить должности директора или председателя компаний, в которых у него имелись инвестиции: в их числе – две железные дороги, сталелитейный завод, водопроводы, морская строительная фирма. Хотя герцог и не полагался на свои познания в бизнесе, но «когда вникал в суть дела», то, по мнению одного из сотрудников, «никто лучше его не мог констатировать и опровергнуть ложную посылку и найти верное решение». Его умственные способности не отличались быстротой мышления, и если он не мог понять какую-то проблему сразу, то требовал растолковывать ее до тех пор, пока она не становилась для него предельно ясной. Герцог занимался делами прилежно, однако истинную радость, по-видимому, испытывал, посещая свою конюшню скаковых лошадей в Ньюмаркете. Однажды в Э-ле-Бене он встретил У. Смита, лидера консерваторов в палате общин, проговорил с ним о политике полчаса, а потом сказал: «Как приятно в таком месте уделить немножко времени работе». Возможно, на отдыхе его одолевала скука даже больше, чем при исполнении служебных обязанностей.
Консервативное правительство в 1895 году герцог облагодетельствовал не только своим родовым именем и титулом, но и бесценным ресурсом общественного доверия, приобретенного за сорок лет деятельности на благо страны. Его честное служение государству было вне сомнений. Своекорыстие ему было настолько чуждо, отмечал редактор «Спектейтор»105, что «никто и никогда даже не помышлял приписать ему недостойные мотивы или заподозрить в том, что он действует в своих интересах»: «Если бы даже кто-то и попытался сделать нечто подобное, то в стране такого злопыхателя просто-напросто объявили бы сумасшедшим». Если герцог выражал свою точку зрения по какой-то проблеме, то для многих людей она служила ориентиром. Он так и не стал премьер-министром и ни разу не выиграл дерби, но, как писала «Таймс», «был главным авторитетом в формировании политических убеждений соотечественников». А сам он не осознавал степень своего общественного влияния: «Не понимаю, почему я должен говорить людям, что им делать. Они будут поступать так, как считают нужным, и я поступаю так, как считаю нужным. Они не любят, чтобы кто-то вмешивался в их жизнь». И когда принц, который тоже полагался на мнение герцога о людях и проблемах, обращался к нему за деликатным советом, герцог жаловался: «Я не знаю, как это получается, но всякий раз, когда вскрывается обман в картежной игре, в судьи призывают меня». Он стал, можно сказать, хранителем национального самосознания. Респектабельная и слегка меланхоличная наружность герцога привлекала внимание на любом торжестве или церемонии. Он был поистине «достоянием нации», говорил лорд Роузбери.
Среди министров лорда Солсбери, занявших отведенные им места на передней правительственной скамье в палате общин в 1895 году, были и два баронета, 9-й и 6-й, сэр Майкл Хикс-Бич, канцлер казначейства и сэр Мэттью Уайт Ридли, министр внутренних дел. Министра финансов считали ультраконсерватором и ярым поборником англиканской церкви, он представлял землевладельческий класс и обладал столь зловредным характером, что его прозвали «Черным Майклом». Рассказывали, как однажды, прочитав замечания депутата-либерала по бюджету, министр сказал секретарю: «Пойдите и передайте ему, что он свинья»106. Рядом с ними сидели два сквайра – мистер Генри Чаплин и мистер Уолтер Лонг, представители помещичьего сословия, нетитулованного дворянства, «презиравшего пэров, но посчитавшего своим долгом отстаивать интересы графств на первых всеобщих выборах»107. Мистер Лонг, самый молодой член правительства, ему исполнился всего лишь сорок один год, отвечал за сельское хозяйство, и о нем потом говорили, будто «за всю жизнь он не сказал ничего такого, что могло бы запомниться». Он «любил подремать, сложив руки крест-накрест и закинув голову на спинку сиденья, и на общем сером фоне особенно выделялось его красное, как листва в октябре, лицо». В то же время старший по возрасту мистер Чаплин запомнился тем, что «энергично, неусыпно и бдительно оберегал империю от мошеннических проделок оппозиции»108.
Мистеру Чаплину было тогда пятьдесят четыре года. Этот статный господин с большой и красивой головой, длинным носом, выпирающим подбородком, бакенбардами и моноклем был человеком «известным, легко узнаваемым» и одним из самых популярных политиков своего времени: «Все его хорошо знали». Он зримо олицетворял образ английского сельского джентльмена. Мистер Чаплин возглавлял департамент местного самоуправления, который занимался беднотой, жильем, городским планированием, здравоохранением и муниципальными проблемами. Характер его деятельности лучше всего описал Уинстон Черчилль, которому этот пост предлагали в 1908 году: «Я отказался, не желая, чтобы меня заперли в кухне, пропахшей супом, с миссис Вебб». Чаплин же относился к обязанностям и главы департамента, и члена парламента с чрезвычайной серьезностью и ответственностью. Он считал себя, как и избиратели, заступником драгоценной Британии и репетировал свои речи за живыми изгородями, дабы эффективнее исполнять эту роль. В его жестах и громоподобных заявлениях с передней скамьи в парламенте, по мнению одного из очевидцев, выражалась не тщеславность, а «спокойная и неистребимая убежденность в превосходстве правящего класса»109. В своих речах он разрешал самые затруднительные проблемы, будь то тарифы или система образования, с такой же легкостью и бесстрашием, с каким преодолевал канавы на охоте, и даже предлагал использовать биметаллизм для исцеления экономических недугов. Однажды после двухчасовых заумных рассуждений он, нахмурившись, склонился к мистеру Бальфуру и спросил:
– Как я выступил, Артур? 110
– Великолепно, Гарри, великолепно.
– Вы меня поняли, Артур?
– Ни одного слова, Гарри, ни одного слова.
Артур Бальфур, принадлежавший к роду Сесилов, племянник премьер-министра и его политический наследник, искусный полемист и кумир общества, был образцовым консерватором и партийным лидером в палате общин. В 1895 году ему было сорок семь лет, в 1902 году, когда дядя ушел в отставку, он стал премьер-министром. Рост более шести футов, голубые глаза, вьющиеся каштановые волосы, усы, рыхлое, невыразительное лицо – все это могло указывать на ранимость характера, если бы не неизменно спокойный, безмятежный, почти неподвижный взгляд. По его доброжелательно-бесстрастному лицу невозможно было понять, какие чувства испытывает этот человек и испытывает ли он их вообще.
Его редко видели сидящим прямо: он обычно принимал ленивую позу, откидываясь назад почти до горизонтального положения, словно пытаясь проверить, как писал парламентский корреспондент «Панча», «можно ли сидеть на лопатках»111. Он обладал всеми атрибутами привилегированности: приличным состоянием, голубой кровью, приятной наружностью, обаянием и «необычайно острым умом, какой нечасто обнаруживается в современной политике»112. Бальфур был философом на вполне достойном уровне, и его второй труд «Основания веры» американский мыслитель Уильям Джеймс прочел с «огромным интересом»113. В этой книге, писал он брату Генри, «больше истинной философии, чем в пятидесяти немецких трактатах, напичканных подзаголовками и мудреными терминами».
По обыкновению отрешенный и бесстрастный, мистер Бальфур тем не менее притягивал к себе людей. Сила его обаяния проявлялась хотя бы в том, что у любого человека, поговорившего с ним, оставалось о самом себе самое благоприятное впечатление. «Хотя он и отличался словоохотливостью, – отмечал Джон Бакан, – все же никогда не главенствовал в беседе, а, напротив, поддерживая оживленный разговор, позволял и другим показать себя с самой лучшей стороны». Проведя вечер в его обществе, писал Остен Чемберлен, «все уходили с чувством глубокого удовлетворения своим красноречием и поведением». Он умел обаять даже политических оппонентов. Он был единственным консерватором, кого Гладстон во время дебатов называл «моим достопочтенным другом», удостаивая этим уважительным эпитетом обычно лишь соратников. Женщины тоже не могли устоять перед его чарами. «Боже мой 114, – с придыханием говорила леди Констанс Баттерси, побывав у него дома в 1895 году, – какая же пропасть между ним и большинством других мужчин!» Марго Асквит понравились «утонченное обхождение» и «неотразимо очаровательный наклон головы»115 во время задушевного разговора с ней, а когда она еще была Марго Теннант и салонной звездой первой величины, то, по словам леди Джебб, могла «свернуть горы» ради того, чтобы выйти за него замуж. Когда же Бальфура спросили о возможности такого брака, он ответил: «Нет, это исключено. Я предпочитаю сам добиваться всего»116.
Старший сын леди Бланш Бальфур, сестры лорда Солсбери, был назван Артуром в честь герцога Веллингтона, выступившего в роли крестного отца. По мужской линии Бальфуры имели древнюю шотландскую родословную и своим немалым состоянием были обязаны прадеду Джеймсу Бальфуру, набобу Ост-Индской компании, нажившему его в конце XVIII века. Джеймс заимел в Шотландии поместье площадью 10 000 акров в Уиттинхеме у залива Ферт-оф-Форт, лес с оленями, речку с лососями, охотничий домик, получил место в парламенте и в жены дочь 8-го графа Лодердейла. Дочь от этого брака, тетя Бальфура, вышла замуж за герцога Графтона, так что Бальфур с учетом связей Солсбери, как говорил его друг, «мог называть своими родственниками половину дворян Англии». Его младший брат Юстас женился на леди Франс Кемпбелл, дочери герцога Аргайла, внучке герцога Сатерленд, племяннице герцога Вестминстерского, приходившейся золовкой принцессе Луизе, дочери королевы Виктории.
Отец Бальфура, тоже член парламента, умер в возрасте тридцати пяти лет, когда Артуру было семь лет, оставив на попечении леди Бланш, которая особенно отличалась религиозностью, свойственной всем Сесилам, пятерых сыновей и трех дочерей. Приучая Артура восхищаться Джейн Остин и «Графом Монте-Кристо», любимым чтивом брата, она воспитала в нем и чувство долга, тоже присущее всем Сесилам. Когда сын в Кембридже увлекся философией и пожелал передать брату наследственные права, а самому заняться наукой, мать пожурила его за слабоволие и стремление увильнуть от ответственности.
В Тринити-колледже Бальфур постигал науку о нравственности, этику. Он не смог получить степень бакалавра 1-го класса, но это никак не отразилось на его доброжелательной натуре и безмятежности душевного состояния. Он был дуайеном кембриджского общества, писала леди Джебб, «настоящим принцем в собственном исполнении и почти столь же избалованным». Фрэнк, один из его четырех братьев, был профессором эмбриологии и, согласно Дарвину, мог занять первое место среди английских биологов, если бы не погиб в Швейцарских Альпах в возрасте тридцати одного года 117. «Писаного красавца» Джеральда леди Джебб считала «превосходнейшим человеком», хотя ее племяннице он показался «слишком самодовольным». Юстас ничем не выделялся среди других посредственностей, а Сесил оказался «паршивой овцой в стаде» и, обесчещенный, умер в Австралии. Артур, по мнению леди Джебб, был «самым умным в семье, в которой все были неглупые… и почти все его обожали». Правда, леди Джебб отмечала в нем «эмоциональную холодность», и его единственное увлечение Мей Литтелтон, сестрой кембриджского приятеля и племянницей Гладстона, умершей, когда ей было двадцать пять лет, а ему – двадцать семь, «истощило все силы, имевшиеся у него в этом направлении». Этим обстоятельством, в частности, объяснялась холостяцкая жизнь Бальфура. Однако причиной тому скорее всего была не эмоциональная холодность, а желание иметь полную свободу и ни от кого не зависеть.
В числе его друзей были двое выдающихся ученых – его преподаватель Генри Сиджуик, профессор этики, и физик Джон Стратт, впоследствии 3-й барон Рейли, нобелевский лауреат и канцлер университета. Оба женились на сестрах Бальфура. В те времена интеллектуал отождествлялся с агностиком, и кембриджские друзья 118, знавшие о наследственной религиозности Бальфура, считали его «реликтом мышления старых поколений». Светские же приятели после опубликования в 1879 году его первой книги «Защита философского сомнения» решили, что он отстаивает агностицизм, и при упоминании его имени «принимали важный вид». В действительности, выражая сомнения в материальной реальности, автор утверждал право на духовную веру, изложив эту концепцию во второй книге – «Основания веры». Каждый воскресный вечер он устраивал семейный молебен в Уиттинхеме, где жили его незамужняя сестра Алиса и женатые братья с многочисленными детьми. Его заворожили иудаизм Ветхого Завета и судьба «библейского народа», и он был крайне озабочен положением евреев в современном мире 119. Племянница и биограф Бальфура еще в детстве переняла от него идею о том, что «христианская вера и цивилизация в неоплатном долгу перед иудаизмом».
В Лондоне никого так часто и охотно не приглашали на званые обеды и вечерние посиделки, как Бальфура. Пренебрегая неукоснительным правилом, обязывавшим лидера палаты находиться на своем месте и участвовать в заседаниях, он исчезал в обеденное время и появлялся через пару часов в вечернем костюме. Во всех дневниковых записях отмечается его присутствие на домашних приемах и званых обедах. «У Ротшильдов, – писал Джон Морли, – только Бальфур, partie carrée [12], всегда желанный гость». Он был среди двадцати гостей Гарри Каста, когда в доме наверху начался пожар, но обед и оживленные беседы продолжались, а лакеи, стоя навытяжку, держали ванные полотенца и оберегали дам и господ от воды, лившейся из брандспойтов 120. Его видели в Бленхеймском дворце у Мальборо на званом вечере вместе с принцем и принцессой Уэльскими, Керзонами, четой Лондондерри, Гренфеллами и Гарри Чаплином. Он был на пиршестве в Чатсуорте у Девонширов, где также присутствовали герцог и герцогиня Коннот, граф Менсдорфф, австрийский посол, уродливый, скабрезный и забавный маркиз де Севераль, посол Португалии, де Греи, Рибблсдейлы и Гренфеллы. Он был замечен в Хатфилде на приеме у Солсбери, где были также герцог Аргайл, мистер спикер Пил с дочерью, мистер Бакл из «Таймс», Джордж Керзон и генерал лорд Метуэн. Его заприметили и в Кассиобери, усадьбе лорда Эссекса, куда в воскресный день, завершавший лондонский светский сезон, заглянула на чай Эдит Уортон. Она увидела там «на лужайке под могучими кедрами цвет лондонского общества: мистера Бальфура, леди Дезборо, леди Эльхо, Джона Сарджента, Генри Джеймса и других представителей блистательного мира избранных, которых настолько утомили неустанные светские заботы последних недель… что они едва находили в себе силы для великодушной улыбки».
Но чаще всего Бальфура видели в Клаудзе, усадьбе баронета сэра Перси Уиндема, излюбленном сельском пристанище для «духов». В этой компании родственных душ его особенно интересовала леди Эльхо, одна из трех сестер-красавиц Уиндем. С ней, хотя она и была женой друга, Бальфур уже лет двенадцать благоразумно и осмотрительно поддерживал любовную связь, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма. Сарджента, писавшего портрет сестер в 1899 году, не взволновали какие-либо реалистические детали вроде бровей леди Чарльз Бересфорд. Леди Эльхо, миссис Теннант и миссис Адин изображены на софе в фарфорово-белых одеяниях и надменно-грациозных позах – олицетворение аристократической женственности.
Дамы общества «духов», противясь викторианскому идеалу женщин, хотели быть и грациозными, и интеллектуальными, и достаточно свободными для того, чтобы самим распоряжаться своей нравственностью. Единственную американку среди них, очаровательную Дейси Уайт, жену первого секретаря американского посольства, однажды приятель поздравил с тем, что она не дозволяет себе измениться под влиянием «всех тех, кто имеет любовников»121. В этом отношении «духи» ничем не отличались от филистеров клуба принца Уэльского. Все они так или иначе были вовлечены в конспирацию, позволявшую отступать от викторианской морали и сохранять благопристойность. Связь Бальфура с леди Эльхо одно время приняла столь серьезный характер, что обеспокоила друзей. Какие чувства испытывал супруг Хьюго, лорд Эльхо, наследник графа Уимиз и член сообщества «духов», хотя и молчаливый, нам не известно. Подобные отношения, как и роман герцога Девонширского, были нормой для тех, кого надежно оберегали от попреков и сильная натура, и высокое положение.
Бальфур стал членом парламента от семейного округа не столько по желанию, сколько по наследственному праву старшего сына и Сесила. К тому времени, когда в 1895 году он занял кабинет на Даунинг-стрит в качестве первого лорда казначейства и лидера палаты общин, сменив дядю, пожелавшего вести домашний образ жизни, его врожденная предрасположенность к политике переросла в страсть по мере приумножения опыта и власти. Но от этого бесстрастности и отрешенности в нем не приуменьшилось. На критику он реагировал беззлобно, как на забавного жучка, которого надо не ругать, а повнимательнее рассмотреть. «Неплохой малый, – говорил он об оппоненте. – У него любопытный взгляд на вещи. Небезынтересный»122. В душе Бальфур был и консерватором, стремившимся сохранить все лучшее в том мире, который знал, и либералом, по словам невестки, «тянувшимся к прогрессу». В нем чувствовалась «природная упругость юности»123, как говорил один из его приятелей, и «свежесть, ясность и оптимизм» умонастроения, по мнению другого. Позднее, уже в роли премьер-министра, он первым из глав правительств приехал в Букингемский дворец на автомобиле, а в палату общин в шляпе «хомбург».
Сам Бальфур относил себя к числу консерваторов, осознававших необходимость отвечать на вызовы рабочего класса. Однако вскормленные на привилегиях, они не могли ни на йоту поступиться своими интересами. Уже в первые годы парламентской деятельности Бальфур присоединился к четверым «радикальным» тори так называемой Четвертой партии лорда Рэндольфа Черчилля 124. Они занимали места на передней скамье, и Бальфур сидел вместе с ними, поскольку, как он объяснял, там было больше пространства для его ног, но скорее всего по причине общности взглядов. Четвертая партия играла роль овода в политике, получившей название «демократии тори», суть которой сводилась к вере в то, что политическую силу рабочего класса может обуздать партнерство с тори. Если рабочие поймут, заявлял лорд Рэндольф Черчилль в 1892 году, что «добьются своих целей и выгод» при существующем порядке, о сохранении которого должны печься все тори, то все будет хорошо. Если же консерваторы будут упорно отвергать их требования, «неразумно и недальновидно защищая существующие права собственности», то рабочий класс ополчится против них. Тори были в меньшинстве, и для них было крайне важно завоевать «голоса трудящихся масс».
В действительности Бальфур никогда не испытывал влечения к этой довольно разумной концепции, как, впрочем, и лорд Рэндольф, позабывший о ней, когда дело дошло до ее практического применения. Абстрактно Бальфуру нравилась демократия, и он допускал возможность расширения электората, прав рабочих и улучшения условий их труда, но не путем разрушения стен, ограждавших привилегии правящего класса 125. В этом и заключались и главная проблема, и главная уловка «демократии тори». Ее проповедники хотели одновременно и удовлетворить требования рабочего класса, и сохранить в неприкосновенности цитадель привилегий. Бальфур разглядел горькую правду истории человечества: прогресса и улучшений в жизни одних людей невозможно достичь без потерь для других. Но он продолжал абстрактно верить в то, что социализм никогда не завладеет рабочим классом, если «те, кто держит в своих руках коллективную силу сообщества, будут демонстрировать желание… устранять поводы для обид и недовольства». Когда же действительно возникала необходимость в практических мерах по улучшению условий жизни рабочих, он не проявлял ни энтузиазма, ни озабоченности их положением. «Что это такое “профсоюз”?» – спросил он как-то друга-либерала 126. Марго Асквит однажды сравнила его с дядей по чувству юмора, литературному стилю и пристрастию к науке и религии. Есть ли какая-нибудь разница между ними? «Мой дядя был тори, а я – либерал», – ответил Бальфур 127. Однако, судя по молчаливому согласию дяди с прежними шашнями племянника с «радикальными» тори и доверительным отношениям дяди с племянником, в их мировоззрении было больше единства, нежели разногласий.
Для современников Бальфур, безусловно, был загадочной личностью. Многих озадачивали парадоксальность его натуры, противоречивость мнений и нестандартность отношения к жизни и политике: и то и другое он никогда не воспринимал лишь в черно-белых тонах. В результате его нередко обвиняли в цинизме, а либералы – даже в порочности. Герберт Уэллс, изобразив его Ившемом в «Новом Макиавелли», написал: «Набирая очки в игре за партийные преимущества, Ившем иногда самым безнравственным и бессовестным образом использовал свой проницательный ум… Разве его это смущало? Разве для него хоть что-то имело какое-то значение?» Уинстон Черчилль тоже однажды употребил слово «безнравственность» в разговоре о нем с миссис Асквит 128. Она усматривала секрет невозмутимости Бальфура во времена кризисов в его «безразличном отношении к самым серьезным вещам и неверии в то, что счастье человечества зависит от того, как будут развиваться те или иные события». В действительности у Бальфура имелись базовые убеждения, но он обладал и способностью услышать аргументы всех сторон – бич мыслящего человека. Однажды, прибыв на званый ужин в очень знатный дом, где парадная лестница разделялась надвое, он минут двадцать стоял внизу, решая непростую логическую задачу – пойти по левой или правой стороне.
Когда в 1887 году Солсбери назначил племянника на трудный и опасный пост главного секретаря по Ирландии, Бальфуру пророчили фиаско. Его считали томным и апатичным интеллектуалом, а в прессе называли «принцем обаяния» и даже «мисс Бальфур». Ирландию терзала хроническая война между лендлордами и арендаторами, подстегиваемая агитаторами гомруля. Полиция ежедневно выселяла должников, а в ответ разъяренные толпы забрасывали ее камнями и поливали кипятком. Память об участи, постигшей пять лет назад лорда Фредерика Кавендиша, еще не выветрилась, и «все снизу до верху дрожали от страха». Бальфур, пренебрегая угрозами, совершил деяние, изумившее обитателей обоих островов. Он заявил, что намерен быть столь же «непреклонным, как Кромвель»129 в наведении законопослушания и таким же «радикалом, как любой реформатор» в искоренении несправедливости в земельных отношениях. Его решительность «врагов застала врасплох 130, – писал Джон Морли, – а друзей привела в восторг, какого еще не наблюдалось в политической жизни нашего времени». Он сразу прославился, в Ирландии его прозвали «кровавым Бальфуром», а в Англии избрали лидером партии.
После отставки У. Г. Смита в 1891 году Бальфур стал и лидером палаты общин. Полное пренебрежение опасностями, проявленное на посту секретаря по Ирландии, открыло в нем неизвестное доселе современникам качество – мужество или отсутствие в характере такого распространенного свойства, как подверженность страху. Джордж Уиндем, личный секретарь Бальфура, писал из Дублина о «почти комедийном» восхищении ирландских лоялистов своим шефом, объясняя это тем, что «подлинное мужество столь редкий дар, а страх причиняет столько страданий и несчастий, что люди готовы пасть ниц перед любым человеком, лишенным чувства страха». Отсутствие какой-либо нервозности и пугливости в характере Бальфура Уинстон Черчилль связывал с «прирожденной холодностью натуры», но признавал, что «еще не встречал более мужественного человека»131: «Если приставить к его лицу пистолет, то, думаю, даже это его не испугает».
Бесстрашие помогало ему и в дебатах. Бальфур никогда не тушевался ни перед оппонентами, ни в затруднительных ситуациях. По словам Морли, он руководствовался принципом д-ра Джонсона: «Надо демонстрировать уважительное отношение к противнику, то есть наделять его достоинствами, которых он не заслуживает». Говорил он по обыкновению «изобретательно и хитроумно, добродушно подшучивая над оппонентами»132. Хотя на публике Бальфур редко допускал обидные выражения, в частном порядке мог высказаться не только резко, но и оскорбительно. Однажды он сказал о коллеге буквально следующее: «Если бы у него было побольше мозгов, то он стал бы полоумным»133. В палате общин Бальфур обходился с оппонентами почтительно и любезно, но, когда на него нападали ирландские депутаты, он, выслушав их с безмятежной улыбкой, поднимался и отвечал им такими словами, которые имели эффект «шрапнели»134. Конечно, все это ему давалось не без душевного напряжения. Он признавался другу, что «очень плохо засыпает после тяжелых вечерних дебатов в палате общин»: «Я никогда не теряю самообладания. Но когда нервы на пределе, мне необходимо время, чтобы их остудить»135. Он восхищался Маколи, его манерой изложения фактов и стилем выступления. Речи самого Бальфура, которые он произносил не по заранее написанному тексту, всегда были спонтанными, непринужденными и тем не менее совершенными. Лорд Виллоби де Брук, молодой и активный член другой палаты, специально приходил послушать выступления Бальфура. Ему нравилось наблюдать за тем, как «идеи и аргументы излагаются в логической последовательности без каких-либо признаков их предварительной компоновки, как искусно, совершенно и легко протекает весь процесс мышления и выстраивания фраз и доказательств, и испытывать восторг от ораторского мастерства».
В действительности Бальфур весьма вольно обращался с фактами, чурался статистики, и память у него была далеко не идеальная, но его всегда выручали артистичность и находчивость. Когда предстояло обсуждение сложного законопроекта, он предусмотрительно брал с собой эксперта – министра внутренних дел или генерального прокурора, если вдруг начинал путаться в деталях, кто-нибудь из коллег шепотом давал подсказку. По описанию сэра Генри Луси, парламентского корреспондента журнала «Панч», мистер Бальфур делал паузу, одарял коллегу дружелюбным взглядом, в котором содержалась и определенная доза укоризны, и говорил весомо: «Именно так». После очередной заминки и подсказки сцена повторялась, но «именно так» звучало строже и коллеге давалось понять, что терпение не беспредельно, его простят и на этот раз, но лучше не допускать более таких промашек.
Он никогда не спешил и нередко вразвалку и с барственным видом появлялся в парламенте, когда уже практически истекало время, отведенное для ответов на запросы депутатов. Бальфур совершил настоящую революцию, когда перенес короткие заседания в палате общин со среды на пятницу, желая, видимо, нарастить уик-энд, который сам и придумал для того, чтобы предаваться любимой игре в гольф. «Эта чертова шотландская забава», – с отвращением говорил один англичанин о спортивном увлечении, ставшем чрезвычайно популярным благодаря Бальфуру 136. Сам Бальфур, пренебрегая всеми обычаями, играл в гольф даже по воскресеньям, делая исключение для Шотландии, и от него исходила такая магия, что общество с легкостью перенимало его вкусы и предпочтения, усвоив в том числе и привычку проводить в загородном доме уик-энд. Он не увлекался ни стрельбой из ружей, ни охотой, но, помимо гольфа, с азартом играл в теннис, разъезжал, когда позволяло время, на велосипеде, иногда преодолевая за один заезд по двадцать миль, и пристрастился к автомобилям. Его представление о том, как надо отвлекаться от дел, тоже было нестандартным. Когда сестра, леди Рейли 137, спросила приехавшего к ней в гости брата, какой вид развлечения для него предпочтительнее, Бальфур ответил: «О, что-нибудь занимательное. Например, поговорить о науке с умными людьми из Кембриджа». Любил он и музыку. Его эссе о Генделе опубликовал литературно-публицистический журнал «Эдинборо ревью», и Бальфур совершил музыкальный тур по Германии, во время которого обаял знаменитую и малообщительную реликвию фрау Вагнер.
Но под кажущейся апатичностью и бесстрастностью скрывалась невероятная трудоспособность. Он не только представлял правительство в палате общин, ему нередко приходилось дублировать дядю в министерстве иностранных дел. Когда в 1902 году Солсбери вышел в отставку, у лорда Эшера не было никаких сомнений в том, что его отсутствие с лихвой компенсируется «кипучей энергией Артура»138. Для сохранения этой кипучей энергии Бальфур старался по возможности заниматься делами в постели и крайне редко поднимался из нее до полудня.
Он много читал: одеваясь, заглядывал в научный труд, лежавший на камине; на ночном столике у него всегда имелся детектив; полки гостиной были заполнены философскими и теологическими трактатами; книгами была завалена софа, журналами – столы и кресла; губкой он перелистывал страницы французских новелл, принимая ванну. Бальфур не любил газеты. Он не подписывался на них, о чем презрительно написал мистер Бакл, редактор «Таймс». Однажды журналист У. Т. Стед в разговоре с принцем Уэльским заметил, что Бальфур замечательный человек, из тех, на кого можно положиться в драке, но чересчур индифферентный. «О да, – ответил принц, соглашаясь, – он не читает даже газет, вы же знаете»139.