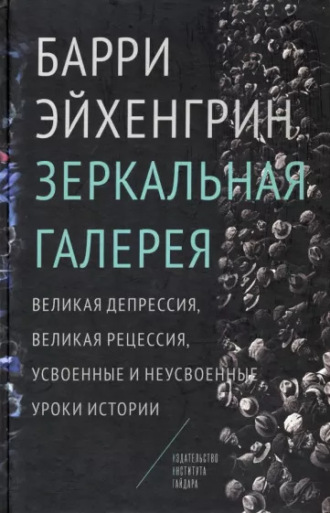
Барри Эйхенгрин
Зеркальная галерея. Великая депрессия, Великая рецессия, усвоенные и неусвоенные уроки истории
Barry Eichengreen
Hall of Mirrors. The Great Depression, the Great Recession, and the Uses – and Misuses – of History
© 2015, Barry Eichengreen
© Издательство Института Гайдара, 2016
* * *
Предисловие к русскому изданию
Россия относится к числу стран, сильнее всего пострадавших от глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2003–2007 годах российская экономика росла на 7 % в год, в 2008 году темпы ее роста снизились до 5 %, а в 2009 году, когда иностранные инвестиции иссякли, а экономики стран с развивающимися рынками начали давать сбои, и вовсе составили минус 8 %.
Поразительно, но России удалось избежать худшего. Спад производства остановился, а ВВП начал восстанавливаться уже в 2010 году. В отличие от Соединенных Штатов и других западных стран во время Великой депрессии 1930-х, в России не было четырех и даже более лет последовательного падения ВВП. Не произошло в ней и падения реальных доходов на 25 % и более, как в США в 1929–1933 годах. Показатели безработицы в ней не выросли до 25 % и более, как в США во время Великой депрессии и некоторых неблагополучных европейских странах вроде Греции в последние годы.
Разница между 1929–1933 и 2008–2009 годами объясняется более конструктивной экономической политикой, причем не столько в самой России, сколько в странах, которые служили для нее источником иностранных инвестиций и были потребителями ее энергоресурсов. Правительства на Западе, например в Америке, развернули массированные программы стимулирования экономики. Центральные банки, подобно ФРС, снизили процентные ставки до нуля и направили дополнительную ликвидность в свои финансовые системы. На Востоке китайское правительство запустило свою собственную программу стимулирования экономики, а Народный банк Китая впрыснул огромный объем ликвидности в финансовую систему своей страны.
Во всех этих случаях – даже в случае Китая – реакция правительства определялась опытом Великой депрессии в том виде, в каком его описывали историки. Принято считать, что Великая депрессия стала «великой» в результате вопиющих политических ошибок. Правительства урезали государственные расходы в самое неподходящее время, когда произошло резкое сокращение расходов в частном секторе. Центральные банки отказались выступать в качестве кредиторов последней инстанции. Основываясь на уроках истории, политики на этот раз поклялись показать себя лучше. В каком-то смысле им удалось сдержать обещание. Темпы роста мировой экономики после падения на 2 % в 2009 году вновь стали положительными уже в 2010 году. Конечно, не все было гладко, но властям по крайней мере удалось избежать новой Великой депрессии.
И Россия со своей стороны выиграла от этой стабилизации и восстановления в остальном мире. После стабилизации потоков капитала и рынков энергоресурсов российская экономика выросла больше чем на 5 % в 2010 году, больше чем на 4 % в 2011 году и больше чем на 3 % в 2012 году.
Положительные темпы роста – это хорошо (во всяком случае лучше, чем отрицательные), но в сравнении со славными 2003–2007 годами они все же вызывали разочарование. Затем в 2013 году, еще до конфликта на Украине, международных санкций и нового падения цен на нефть, рост российской экономики еще больше замедлился, снизившись до всего 1,3 %. В 2014 году темпы роста снова упали, а к 2015 году Россия опять погрузилась в рецессию.
Это не было уверенным восстановлением, обещанным нам теми, кто «извлек уроки истории». И объясняется это ровно тем же, чем и разочаровывающие темпы восстановления от Великой рецессии и глобального финансового кризиса в Европе и Соединенных Штатах. Неспособность Соединенных Штатов и Европы более уверенно восстановиться от глобального кризиса связана, в первую очередь, с преждевременным решением политиков отказаться от стимулирования экономики, все еще нуждавшейся в значительной поддержке, а также с их неспособностью провести более масштабные послекризисные реформы, особенно в финансовой сфере. И наиболее важную роль в этом преждевременном решении отказаться от политики, остро необходимой для стимулирования экономики, сыграл тот простой факт, что политики предотвратили худшее. Они избежали новой Великой депрессии. Они могли заявить, что самое страшное уже позади. Поэтому они могли задуматься о возвращении к привычной политике. Само это успешное предотвращение экономического краха в духе 1930-х обусловило их неспособность обеспечить более уверенное восстановление. Как я показываю в этой книге, успех становился залогом провала.
И то, что было справедливо для макроэкономической политики, также было справедливо и для финансовой реформы. Великая депрессия привела к полному краху банковской и финансовой системы в Соединенных Штатах. Этот крах дискредитировал существующий режим и привел к масштабной финансовой реформе. На этот раз, напротив, полного краха удалось избежать. Это укрепило убежденность в том, что изъяны существующей системы были не такими серьезными. Призывы к радикальным мерам звучали уже не столь убедительно. Это связало реформаторам руки. Это позволило банкам перегруппироваться. И это позволило несущественным разногласиям между политиками ослабить импульс к реформе. В результате ничего даже отдаленно напоминающего масштабную реформу в сфере регулирования 1930-х годов не произошло. Конечно, нельзя забывать о законе Додда – Франка о защите прав потребителей в области финансовых продуктов и сервисов 2010 года и последующих инициативах в сфере регулирования, среди прочего, Федеральной резервной системы и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Но по меркам 1930-х годов все это выглядит очень скромно. И вновь успех стал залогом провала.
То же самое можно сказать и о России. Тот факт, что страна избежала полноценного экономического и финансового кризиса в 2008–2009 годах, позволил политикам минимизировать потребность в более фундаментальных экономических реформах. Еще в 2003 году экономический рост в России стало сдерживать все более серьезное вмешательство государственной бюрократии и правящей элиты в экономику. Чтобы расти, рыночная экономика нуждается в верховенстве права, прозрачном и предсказуемом механизме обеспечения исполнения контрактов и ясно определенных правах собственности. В этом смысле с 2003 года Россия становилась все менее рыночной экономикой.
Кризис 2008–2009 годов мог стать катализатором радикальных реформ и переломить тенденцию, которая только усиливалась с начала 2000-х. Вместо этого кризис удалось успешно купировать. Это позволило, как это часто бывает в России, оставить все как есть. Я не хочу сказать, что было бы лучше, если бы политики отошли в сторону и позволили кризису развернуться в полную силу. Я хочу сказать, что успех действий политиков по стабилизации экономики имел непреднамеренные последствия как в России, так и на Западе.
Барри Эйхенгрин
Беркли, Калифорния
Ноябрь 2015 г.
Введение
Эта книга о финансовых кризисах. О событиях, которые к ним приводят. О том, почему правительства и рынки реагируют так, как они реагируют. И о последствиях.
Эта книга повествует о Великой рецессии 2008–2009 годов и Великой депрессии 1929–1933 годов – двух самых масштабных финансовых кризисах нашего времени. О том, что между этими двумя эпизодами можно провести параллели, хорошо известно, и не в самую последнюю очередь – лицам, задающим направление политики. Многие комментаторы отметили, что сложившиеся представления о Великой депрессии – то, что принято называть «уроками Великой депрессии», – сформировали реакцию на события 2008–2009 годов. Поскольку эти события так подозрительно напоминали события 1930-х, их стали рассматривать именно через призму Великой депрессии. Тенденция рассматривать кризис с точки зрения 1930-х была тем сильнее, если учитывать, что ключевые лица, определяющие политический курс, – от председателя Совета управляющих ФРС Бена Бернанке до главы Группы экономических советников Барака Обамы Кристины Роумер – изучали события 1930-х в свои ранние академические годы.
Усвоенные уроки истории помогли властям предотвратить худшее. После того как крах Lehman Brothers привел мировую финансовую систему к краю пропасти, они пообещали, что больше не позволят обанкротиться ни одной системообразующей финансовой организации, и выполнили это обещание. Они воздержались от политики под названием «разори своего соседа», которая стала причиной краха международных транзакций в 1930-х. Правительства нарастили государственные расходы и снизили налоги. Центральные банки «наводнили» финансовые рынки ликвидностью и предоставляли кредиты друг другу, проявив беспрецедентную солидарность.
В своих решениях они в значительной степени руководствовались выводами об ошибках своих предшественников. В 1930-х правительства не устояли против искушения протекционистской политики. Руководствуясь устаревшими экономическими догмами, они сократили государственные расходы в самый неподходящий момент и упрямо пытались сбалансировать бюджеты как раз тогда, когда экономика отчаянно нуждалась в бюджетном стимулировании. И неважно, на каком языке говорили чиновники – на английском, как Герберт Гувер, или на немецком, как Генрих Брюнинг. Мало того что принимаемые ими меры только усугубили спад, им даже не удалось восстановить доверие к государственным финансам.
Руководители центральных банков, со своей стороны, находились в плену доктрины «реальных векселей» и считали, что они должны предоставлять ровно столько кредитов, сколько необходимо для реальных потребностей бизнеса. Они выдавали больше кредитов, когда бизнес рос, и меньше, когда наблюдался спад, тем самым обостряя бумы и падения. Пренебрегая своей ответственностью за финансовую стабильность, они не выполняли функции кредиторов последней инстанции. В результате такой политики банки банкротились один за другим, оставляя бизнес без кредитных ресурсов. Цены бесконтрольно падали, долги стали неподъемными. В своем монументальном труде «Монетарная история Соединенных Штатов» Милтон Фридман и Анна Шварц возложили ответственность за этот крах непосредственно на центральные банки. Согласно их заключениям к экономической катастрофе 1930-х преимущественно привела некомпетентная политика центральных банков.
В 2008 году, вняв урокам Великой депрессии, власти пообещали действовать более разумно. Раз их предшественники, не снизив процентные ставки и не предоставив финансовым рынкам достаточно ликвидности, приговорили мир к дефляции и депрессии, в этот раз нужно было проводить стимулирующую монетарную и финансовую политику. Раз неспособность их предшественников остановить банковскую панику привела к финансовому краху, они будут действовать с банками решительно. Если в то время попытки сбалансировать бюджеты только усугубили спад, они применят бюджетное стимулирование. Если крах международного сотрудничества обострил мировые проблемы, они будут использовать личные контакты и международные организации, чтобы в этот раз обеспечить достаточно скоординированную политику.
В результате настолько отличающейся политики в 2010 году безработица в США достигла пикового уровня в 10 %. И хотя этот показатель по-прежнему был тревожно высоким, он оказался намного ниже катастрофического значения в 25 %, которое было зарегистрировано во время Великой депрессии. Количество обанкротившихся банков измерялось сотнями, но не тысячами. Финансовые дисбалансы были повсеместными, но полного и бесповоротного коллапса финансовых рынков, как в 1930-х, удалось успешно избежать.
В других странах ситуация была примерно такой же, что и в Соединенных Штатах. Каждая несчастная страна несчастна по-своему, а начиная с 2008 года наблюдались различные степени экономического «несчастья». Однако, несмотря на несколько рожденных под несчастливой звездой европейских стран, это «несчастье» не дошло до уровня 1930-х. Поскольку политика была более эффективной, снижение производства и уровня занятости, социальные неурядицы, тяготы и испытания носили гораздо менее выраженный характер.
По крайней мере, власти надеются, что именно так будут описывать их действия будущие историки. Великая депрессия стала результатом некомпетентной политики, но обществу, усвоившему этот опыт, удалось избежать еще одной Великой депрессии.
Или так говорят.
К сожалению, такая счастливая история слишком проста. Сложно смириться с невозможностью предусмотреть все риски. Королева Елизавета II во время своего визита в Лондонскую школу экономики в 2008 году задала собравшимся экспертам знаменитый вопрос, почему никто не смог рассмотреть надвигающийся кризис. Шесть месяцев спустя группа выдающихся экономистов отправила королеве письмо, в котором они просили прощения за «отсутствие коллективного воображения».
Параллелей можно привести достаточно. В 1920-х на рынке недвижимости Флориды и на рынке коммерческой недвижимости на северо-востоке и в центральных регионах США наблюдался бум. Стремительный рост на рынке недвижимости США, Ирландии и Испании в начале XXI века имел сильное сходство с этим бумом. Резко вверх шли биржевые котировки, отражая головокружительные ожидания будущей прибыли от входящих в моду компаний в сфере информационных технологий: Radio Company of America (RCA) – в 1920-х, Apple и Google – 80 лет спустя. В сфере кредитования тоже был зафиксирован взрывной рост, который способствовал буму на рынке недвижимости и на рынках активов. Расширялся спектр, мягко говоря, сомнительных практик в банковской и финансовой системах. Золотой стандарт после 1925 года и система евро после 1999 года сыграли свою роль в усугублении и трансляции экономических дисбалансов.
Кроме того, имело место наивное представление о том, что экономическая политика приручила экономический цикл. В 1920-х говорилось, что мир вступил в «новую эру» экономической стабильности благодаря учреждению Федеральной резервной системы в США и независимых центральных банков в других странах. Период, предшествующий Великой рецессии, также принято было считать эпохой «великого успокоения», когда нестабильность делового цикла была усмирена достижениями в политике центральных банков. Вдохновленные верой в то, что резких колебаний в экономической активности больше не будет, коммерческие банки увеличили использование заемных средств. Инвесторы более охотно шли на риск.
Можно было подумать, что любой, кто имел некоторое представление о Великой депрессии, смог бы увидеть параллели и их возможные последствия. Некоторые тревожные сигналы, несомненно, присутствовали, но их было немного, и они были не совсем отчетливыми. Роберт Шиллер (Йельский университет), который изучал рынки недвижимости в 1920-х, предупредил о развитии симптомов, по всей видимости говоривших о полномасштабном пузыре на рынке недвижимости. Но даже Шиллер не мог предвидеть катастрофических последствий его обвала. Нуриэль Рубини, прослушавший как минимум один курс по истории Великой депрессии в свои студенческие годы в Гарварде, указывал на риски, которые представлял собой растущий дефицит счета текущих операций США и увеличение американского долларового долга за рубежом. Но вместо краха доллара, о котором предупреждал Рубини, пришел совсем другой кризис.
Специалисты по истории и экономике Великой депрессии, надо признать, тоже преуспели не больше него. Экономическое сообщество в целом озвучивало только невнятные предостережения о том, что впереди катастрофа. Оно повелось на проповеди о «великом успокоении». Чиновники, убаюканные самодовольством и позитивным настроем рынков, не сделали ничего, чтобы подготовиться к надвигающейся беде.
Возможно, требовать от аналитиков предсказывать финансовые кризисы – это слишком много? Кризисы случаются не просто из-за кредитных бумов, пузырей на рынках активов и ошибочной веры в то, что участники финансовых рынков научились безопасно управлять рисками. Есть еще сила обстоятельств, которые никто не может прогнозировать, будь то неудачная попытка консорциума немецких банков спасти Danatbank, ключевую финансовую организацию Германии, в 1931 году или отказ Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании банку Barclays купить некоторые активы Lehman Brothers в тот роковой выходной в 2008 году. Кризисы, как и Первая мировая война, могут быть непредвиденным результатом специфических решений, принятых без осознания их широких последствий. Они могут возникнуть не только из-за системных факторов, но и из-за человеческого фактора – из-за безудержного честолюбия и сомнительных моральных принципов таких людей, как Роджерс Колдуэлл, которого в 1920-х часто называли южным Дж. П. Морганом, или как Адам Эпплгарт – спортивного, слишком уверенного в себе молодого банкира, который пустил Northern Rock, бывший малоизвестный строительный кооператив в Британии, по пути неустойчивого роста. Их действия не только привели к краху возглавляемых ими компаний, но и подорвали основы финансовой системы. Похожим же образом, если бы Бенджамин Стронг, суперкомпетентный президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, не ушел из жизни в 1928 году или Жан-Клод Трише не стал президентом Европейского центрального банка в результате франко-германской договоренности в 1999 году, монетарная политика могла бы развиваться по другому сценарию. И этот сценарий мог бы быть более удачным.
Также, в свете «счастливой истории», беспокоит и тот факт, что эта политика была не более эффективной и в плане сдерживания финансового краха, ограничения роста безработицы и поддержки мощного восстановления. Рынок субстандартного ипотечного кредитования рухнул в середине 2007 года, а рецессия в США началась в декабре того же года. Однако очень немногие эксперты (если таковые вообще были) могли предвидеть, насколько серьезно пострадает финансовая система. Они не понимали, насколько сильно будут затронуты производство и занятость. Великая депрессия была, прежде всего, банковским и финансовым кризисом, однако память об этом опыте не дала чиновникам достаточно информации и сил, чтобы предотвратить очередной банковский и финансовый кризис.
Возможно, само убеждение в том, что именно банковские крахи трансформировали обыкновенную рецессию в Великую депрессию, заставило власти ошибочно сфокусироваться на коммерческих банках, вместо того чтобы заниматься так называемой теневой банковской системой – хедж-фондами, фондами денежного рынка и эмитентами коммерческих бумаг. Базельское соглашение, устанавливающее стандарты для капитала международных финансовых организаций, делало упор на коммерческих банках[1]. Другие нормы также в основном касались коммерческих банков.
Более того, сфера действия страхования вкладов была ограничена коммерческими банками. Поскольку массовое изъятие вкладов физическими лицами, которое дестабилизировало банки в 1930-х, привело к созданию федеральной системы страхования вкладов, существовала убежденность, что массового оттока вкладов можно было уже не опасаться. Все видели фильм «Эта прекрасная жизнь» и предполагали, что современный банкир никогда не окажется в положении Джорджа Бейли. Однако страховая компенсация в 100 000 долл. была слабым утешением для компаний, балансы которых во много раз ее превышали. Она никак не способствовала стабилизации положения банков, которые существовали не за счет депозитов, а за счет заимствования огромных сумм у других банков.
Также страхование вкладов не создало доверия к хедж-фондам, фондам денежного рынка и специализированным инвестиционным компаниям. Оно никак не помогло предотвратить такую же панику, как и в 1930-х, в этих новых и инновационных сферах финансовой системы. Поскольку история Великой депрессии была призмой, через которую власти рассматривали события, они упустили из вида, насколько глубоко изменилась финансовая система. Пока они фокусировались на реальных и непосредственных угрозах, они просмотрели другие угрозы.
В частности, они не учли, к каким последствиям приведет крах Lehman Brothers, который они допустили. Lehman не был коммерческим банком. Он не принимал депозиты. Поэтому было невозможно представить, что его крах может ускорить массовое изъятие вкладов из других банков, подобно тому как банкротство банков Guardian Group Генри Форда в 1933 году привело к массовому изъятию вкладов.
Но это было неправильным пониманием характера теневой банковской системы. Инвестиционные фонды денежного рынка были держателями краткосрочных обязательств Lehman Brothers. Когда Lehman Brothers обанкротились, испуганные акционеры стали выводить деньги из этих денежных фондов. Это, в свою очередь, ускорило вывод крупными инвесторами средств из материнских банков этих денежных фондов. А затем привело к краху уже и так шатающихся рынков секьюритизации.
Позже секретарь Казначейства США Генри Полсон станет утверждать, что у них не было достаточно полномочий для кредитования неплатежеспособной организации типа Lehman Brothers, а также механизмов, чтобы безболезненно закрыть ее. Неконтролируемое банкротство было единственным выходом. Однако вряд ли проблемы Lehman стали неожиданностью. Регуляторы наблюдали за ним с самого момента спасения Bear Stearns – еще одного важного члена инвестиционно-банковского братства – шестью месяцами ранее. То, что Министерству финансов и ФРС не предоставили полномочий для решения проблем с неплатежеспособностью небанковской финансовой организации, стало единственным серьезным провалом кризисной политики. В 1932 году «Финансовой корпорации реконструкции», созданной для решения проблем банков страны, тоже не хватило полномочий для вливания капитала в неплатежеспособную финансовую организацию. Это ограничение было ослаблено только тогда, когда грянул кризис 1933 года, и Конгресс принял Чрезвычайный закон о банках. Председатель ФРС Бернанке и другие, скорее всего, знали об этой истории, однако это не изменило хода событий.
Частично этот провал объяснялся убеждением (также неверно сформированным из уроков истории), что последствия краха Lehman Brothers могли быть не очень серьезными. Однако он также отражал и озабоченность властей моральными рисками, поскольку спасение банков могло стимулировать принятие ими более серьезных рисков[2]. Из-за спасения Bear Stearns власти уже подверглись серьезной критике за создание моральных рисков. Позволить Lehman Brothers обанкротиться было способом признания этой критики. Ликвидационизм – идея, которая, по словам Эндрю Меллона, секретаря Казначейства при президенте Гувере, заключалась в том, что банкротства были необходимы для очистки прогнившей системы, возможно, и впала в немилость из-за катастрофических последствий в 1930-х, однако в более слабой форме она еще частично присутствовала.
И наконец, власти понимали, что любая попытка предоставить Министерству финансов и ФРС дополнительные полномочия встретит сопротивление Конгресса, который уже порядком подустал от «спасательных операций». Также ей будут противиться и республиканцы, которые отрицательно относятся к государственному вмешательству в любых формах. К сожалению, чтобы заставить политиков действовать, нужен был полномасштабный банковский и финансовый кризис, как в 1933 году.
И только после банкротства Lehman Brothers власти осознали, что они находились на грани очередной Депрессии. Лидеры промышленно развитых стран выпустили совместное заявление, что не допустят банкротства ни одной системообразующей финансовой организации. Конгресс США неохотно принял Программу выкупа проблемных активов для спасения банковской и финансовой системы. Одно за другим правительства предпринимали шаги по предоставлению капитала и ликвидности находящимся в сложном положении финансовым организациям. Были анонсированы масштабные программы по налогово-бюджетному стимулированию. Центральные банки «наводнили» финансовые рынки ликвидностью.
И все же результаты этих инициатив решительно нельзя было назвать триумфальными. Восстановление после кризиса в США было апатичным и разочаровывало во всех отношениях. В Европе дела обстояли еще хуже – ее накрыла вторая волна рецессии, а в 2010 году вновь начался кризис. Это было совсем не похоже на успешное и стремительное восстановление, обещанное теми, кто выучил уроки истории.
Некоторые утверждали, что восстановления после спадов, обусловленных финансовыми кризисами, неизбежно требуют больше времени, нежели восстановления после рядовых рецессий[3]. Рост происходит медленно из-за ущерба, нанесенного финансовой системе. Банки, озабоченные восстановлением своих балансов, неохотно выдают кредиты. Домохозяйства и компании, аккумулировавшие неподъемно высокую задолженность, ограничивают свои расходы, поскольку пытаются снизить долговую нагрузку до приемлемых уровней.
Однако правительство может предпринять шаги и в другом направлении. Оно может выдавать кредиты, когда их не выдают банки. Оно может оплачивать некоторые расходы населения и компаний. Оно может предоставлять ликвидность без риска роста инфляции, учитывая спад в экономике. Оно может позволить себе дефицит бюджетов, не создавая долговые проблемы, поскольку при неблагоприятных экономических условиях преобладают низкие процентные ставки.
И оно может это делать до тех пор, пока население, банки и фирмы не будут готовы существовать в обычном режиме. В период между 1933 и 1937 годами годовые темпы роста реального ВВП в США составляли 8 %, хотя правительство справлялось со своими задачами довольно посредственно. Для сравнения: в период между 2010 и 2013 годами рост ВВП составлял в среднем всего 2 %. Но это не значит, что рост после 2009 года мог быть в четыре раза выше. Насколько быстрым может быть рост, зависит также и от глубины падения в предшествующий период. Однако и американская экономика, и другие мировые экономики могли бы продемонстрировать более оптимистичные результаты.
Тем не менее не секрет, почему этого не случилось. Начиная с 2010 года США и Европа взяли курс на жесткую экономию. Расходы по Плану американского восстановления и реинвестирования (программа стимулирования экономики Барака Обамы) достигли максимального уровня в 2010 финансовом году, а затем неуклонно падали. Летом 2011 года администрация Обамы и Конгресс договорились о снижении расходов на 1,2 трлн долл. в течение десяти лет. В 2013 году закончился срок действия программы Буша по снижению налогов для состоятельных американцев, программы по снижению взносов сотрудников в Фонд социального обеспечения, а на страну обрушился Секвестр – снижение правительственных расходов на 8,5 %. Все это «откусило» большой кусок от совокупного спроса и экономического роста.
В Европе уклон в сторону жесткой экономии был более резким. Греции, где расходы были бесконтрольными, несомненно, требовались масштабные меры по экономии. Однако стабилизационная программа, которую страна начала в 2010 году под пристальным наблюдением Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, была беспрецедентной по своему масштабу и жесткости. Она потребовала от греческого правительства сократить расходы и повысить налоги на целых 11 % ВВП за три года – то есть, по сути, сократить десятую часть расходов всей греческой экономики. Еврозона в целом умеренно сократила бюджетные дефициты в 2011 году, а затем резко – в 2012 году, несмотря на тот факт, что она снова была в рецессии и другие формы расходов почти отсутствовали. Даже Великобритания, которая обладала гибкостью благодаря использованию национальной валюты и наличию национального центрального банка, начала амбициозную программу бюджетной консолидации, сократив государственные расходы и повысив налоги в совокупности на 5 % ВВП.
Центральные банки, предприняв множество исключительных шагов во время кризиса, также стремились вернуться к обычному режиму работы. ФРС провела несколько раундов количественного смягчения – многомесячных закупок казначейских облигаций США и ипотечных ценных бумаг – однако не решилась расширить объем этих закупок, хотя уровень инфляции и не достиг целевого показателя в 2 %, а рост продолжал разочаровывать. Разговоры о сокращении этих закупок осенью и летом 2013 года привели к резкому росту процентных ставок. Такое «лекарство» явно не способствовало бы выздоровлению экономики, которая все еще не могла выйти на темпы роста в 2 %.
И если ФРС не хотела идти дальше, ЕЦБ не терпелось отступить. В 2010 году он пришел к преждевременному заключению, что восстановление не за горами, и начал постепенно сокращать антикризисные меры. Весной и летом 2011 года он дважды повысил процентные ставки. Этого достаточно, чтобы понять, почему европейская экономика, вместо того чтобы восстановиться, испытала очередной спад.
Какие уроки, исторические и иные, объясняют такой необычный ход событий? С точки зрения центральных банков это, как всегда, был прочно укоренившийся страх инфляции. Наиболее глубоким этот страх был в Германии, которая не забыла о гиперинфляции в 1923 году. Страх Германии транслировался на европейскую политику, учитывая, что структура ЕЦБ напоминала структуру Бундесбанка, а его французский президент Жан-Клод Трише старался продемонстрировать, что он является таким же ярым сторонником борьбы с инфляцией, как и любой немец.
США не прошли через гиперинфляцию ни в 1920-х, ни в какое-либо другое время, если уж на то пошло, однако взвинченные комментаторы не переставали предупреждать о том, что Веймар не за горами. Уроки 1930-х, заключавшиеся в том, что, когда экономика находится на грани депрессии, процентные ставки нулевые, а мощности простаивают, центральные банки могут увеличивать свои балансы без риска раздуть инфляцию, были упущены из вида. Опытные руководители центральных банков, такие как председатель ФРС Бен Бернанке и по крайней мере несколько его коллег в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС, понимали в этом больше. Однако, несомненно, они находились под влиянием критики. Чем более истеричными были комментарии, тем громче в Конгрессе звучали обвинения в обесценивании валюты в адрес ФРС. Тем больше президенты ФРС боялись за свою независимость. Они торопились начать сокращать баланс ФРС до более стандартных уровней, в то время как экономика еще не пришла в более или менее нормальное состояние.
Эта критика стала более интенсивной, когда нетрадиционная политика «довела» центральные банки до рынков, где им было не место, таких как рынок ипотечных ценных бумаг. Чем дольше ФРС покупала ипотечные ценные бумаги – а она продолжала это делать и в 2014 году, – тем больше критики жаловались, что эта политика способствует раздуванию очередного пузыря на рынке недвижимости и в конечном итоге приведет к очередному краху. Этот страх стал символом опасений, что низкие процентные ставки стимулируют избыточное принятие рисков. Конечно же эти опасения носили тот же характер моральных рисков, что и те, которые привели к губительному решению не спасать Lehman Brothers. В случае с ЕЦБ опасения в отношении моральных рисков сконцентрировались не вокруг рынков, а вокруг политиков. Действия центральных банков по поддержке роста просто сняли бы давление с правительств, сохраняя перегрев на рынках, откладывая реформы и накапливая риски. ЕЦБ позволил загнать себя в угол, где ему пришлось стать воплотителем бюджетной консолидации и структурных реформ. А такая роль противоречила задачам экономического роста.


