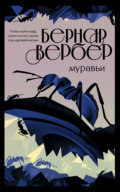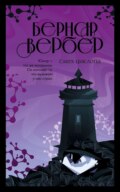Бернар Вербер
Империя ангелов
36. Венера, 2 года
Вчера я долго стояла перед зеркалом и гримасничала. Меня не портят даже гримасы, я все равно себе нравлюсь.
Родители надели на меня непромокаемые трусики из розового атласа и сказали, что в них я могу «писать» и «какать». Не знаю, о чем они. В ответ на мое недоумение мама показывает, что к чему. Я рассматриваю желтую жидкость, нюхаю, морщусь от отвращения. Непонятно, как такое красивое тело, как мое, умудряется выделять такую дурно пахнущую жидкость. Я очень сержусь: это несправедливо! И вообще, щеголять в подгузниках унизительно!
Видимо, писают и какают все люди без исключения. Так, по крайней мере, утверждают мама с папой, но я им не верю. Наверняка эта клевета распространяется не на всех.
У меня болит голова.
У меня часто бывают головные боли.
Случилось что-то важное – я забыла что. И пока не вспомню, голова будет болеть.
37. Игорь, 2 года
Мама хочет меня убить.
Вчера она заперла меня в комнате с широко открытым окном. От ледяного ветра я продрог до костей, но нет худа без добра: у меня развилась устойчивость к холоду. Я выдержал. А куда деваться, когда нет выбора? Знаю, если я заболею, она не станет меня лечить.
«Я тебя не боюсь, мамочка. Я все еще жив. Если ты не наберешься смелости и попросту не пырнешь меня ножом в живот, то, не обессудь, буду жить дальше».
Она меня не слушает. Лежит в постели и посасывает водку.
38. Изумрудные ворота
Мы с Раулем ищем другой путь в мир Семерок. Летим на восток, там возносимся к горной вершине, пытаемся через нее перемахнуть, но утыкаемся в невидимую преграду.
– Что я тебе говорил? Мир ангелов – тюрьма тюрьмой, – угрюмо цедит Рауль.
Перед нами как бы невзначай возникает Эдмонд Уэллс.
– Что это вы тут затеваете? – осведомляется он с усмешкой.
– Довольно с нас этой работенки. Наша задача неосуществима, – выпаливает Рауль, с вызовом уперев руки в боки.
Эдмонд Уэллс понимает, что дела плохи.
– Что об этом думаешь ты, Мишель?
Рауль опережает меня с ответом:
– Наши яйца проклевываются уже сваренными. Нам подсунули беспокойного неуклюжего Жака, поверхностную Венеру, склонную к нарциссизму, и Игоря, которого норовит прикончить родная мать. Те еще подарочки!
Эдмонд Уэллс на моего друга даже не смотрит.
– Я обращаюсь к Мишелю. Что об этом думаешь ты, Мишель?
Я не знаю, что ответить. Мой наставник напирает:
– Ты ведь не испытываешь ностальгии по жизни смертного человека?
Я оказался между двух огней. Эдмонд Уэллс обводит широким жестом горизонт.
– Ты страдал. Тебе было страшно. Ты болел. Теперь ты – чистый дух. Ты свободен от бренной плоти.
Говоря это, он прожигает меня взглядом.
Рауль пренебрежительно пожимает плечами:
– Мы полностью утратили осязание. Толком сесть и то больше не можем.
Он демонстрирует, как это происходит: падает, как бы пролетая сквозь несуществующее кресло.
– Зато мы больше не стареем, – напоминает Эдмонд Уэллс.
– Мы не замечаем течения времени, – спешит возразить ему Рауль. – Нет больше ни секунд, ни минут, ни часов. Ни ночей, ни дней. Времен года и тех нет.
– Мы вечны.
– Зато у нас больше нет дней рождения!
Обмен доводами ускоряется:
– Мы не ведаем страданий…
– Мы вообще больше ничего не чувствуем.
– Мы общаемся духовно.
– Мы больше не слушаем музыку.
Эдмонд Уэллс не собирается уступать:
– Мы носимся на головокружительных скоростях!
– Но при этом перестали чувствовать на наших лицах ласку ветра.
– Мы непрерывно бодрствуем.
– Зато нам больше не снятся сны!
Мой наставник все еще не прочь переспорить моего друга, но тот тоже не лыком шит:
– Больше никаких удовольствий, никакого секса.
– Зато мы не испытываем боли! – начинает повторяться Эдмонд Уэллс. – В нашем распоряжении доступ к любым знаниям.
– А книги? Нету! В рае даже библиотеки нет…
Этот довод задевает моего наставника за живое.
– Верно, книг у нас нет, зато… зато…
Он роется в памяти. Вот что он оттуда выуживает:
– Просто книги нам ни к чему. Жизнь любого смертного несет в себе захватывающую интригу. Это лучше всех на свете романов, лучше любого кино: наблюдать обыкновенную человеческую жизнь с ее яркими неожиданностями, сюрпризами, тяготами, любовными разочарованиями, успехами и неудачами. Причем все это – ПОДЛИННЫЕ истории!
На это Раулю Разорбаку возразить нечего. Но Эдмонд Уэллс не торопится торжествовать.
– Раньше я был таким, как вы. Я тоже бунтовал.
Он задирает голову, как будто заинтересовался дождевыми облаками. Проявляя уступчивость, он говорит:
– Сейчас я попробую удовлетворить ваше любопытство. Хочу открыть вам один секрет. Идемте.
39. Энциклопедия
РАДОСТЬ. «Долг каждого – культивировать в себе радость». Увы, многие религии забыли этот завет. В большинстве храмов царят тьма и холод. Литургическая музыка помпезна и мрачна. Священники закутаны во все черное. Ритуалы прославляют муки и соревнуются в изображении зверских сцен. Можно подумать, что пытки, выпавшие на долю пророков, доказывают достоверность их житий.
Разве не радость жизни – лучшая благодарность Богу, если Он существует, за то, что существуем мы? И если Он существует, то отчего столь хмур?
Единственные заметные исключения – философско-религиозный трактат «Дао дэ Цзин», предлагающий смеяться надо всем, включая себя самого, и госпелы – гимны, которые радостно распевают североамериканские чернокожие на богослужениях и на похоронах.
Эдмонд Уэллс,
Энциклопедия Относительного и Абсолютного Знания, том IV.
40. Игорь, 5 лет
Устав на меня покушаться, мамаша вроде бы отказалась от намерения меня укокошить. Знай себе пьет, грозно на меня косясь. И вдруг швыряет в меня свой стакан. Я вбираю голову в плечи, и стакан, как всегда, с оглушительным звоном разбивается об стену.
– Может, у меня и не выйдет тебя прибить, но долго портить мне жизнь тебе не удастся, – предупреждает она меня.
Мама накидывает куртку и тащит меня за руку, как будто собралась за покупками, но у меня есть подозрение, что она не намерена шнырять по магазинам. Подтверждение не заставляет себя ждать: она оставляет меня – вернее, бросает – на церковной паперти.
– Мама!..
Она удаляется большими шагами, потом вдруг возвращается и швыряет мне золотой медальон. Внутри фотография какого-то усача.
– Это твой отец. Найди его, и дело с концом. Он с радостью тобой займется. Пока!
Я сажусь в мокрый снег. Я должен продолжить жить, иначе никак. Начинается сильный снегопад, меня заметает снегом.
– Что ты здесь делаешь, малыш?
Я поднимаю замерзшую голову и вижу человека в военной форме.
41. Венера, 5 лет
Днем я рисую, ночью сплю, но беспокойно. Меня одолевают сновидения. Мне снится зверь, запертый у меня в голове и пытающийся вырваться наружу. Это кролик, он прогрызает изнутри мой череп. Не переставая грызть, он твердит одно и то же: «Надо, чтобы ты меня вспомнила!» Я то и дело просыпаюсь от страшной головной боли. Этой ночью боль еще сильнее, чем всегда. Я встаю и иду к маме с папой. Они спят. Как они смеют спать, когда у меня раскалывается голова? Наверное, на самом деле они меня не любят.
Я рисую свою боль, рисую существо, сидящее, кажется, у меня внутри и пожирающее меня заживо.
42. Жак, 5 лет
Мне страшно. Не знаю, откуда берется этот страх. Вчера вечером по телевизору шел так называемый вестерн. От страха и ужаса меня разбил столбняк. Я дрожал всем телом. Вся моя семья очень удивилась.
Сегодня утром прибегают мои сестры, они изображают ковбоев, чтобы меня напугать. Я убегаю в другой конец квартиры. Они ловят меня в гостиной. Тогда я бегу в кухню. Меня ловят и там. Я бегу в ванную. Сестры ловят меня в ванной.
– Сейчас мы тебя оскальпируем! – кричит младшая, Матильда.
Почему, почему она говорит такие злые слова?
Я убегаю в комнату родителей, сестры гонятся за мной. Потом они пытаются меня настигнуть в чулане для стирки, но я проползаю у них под ногами, вскакиваю, бегу. Я в ужасе. Где спрятаться? Меня посещает хорошая идея: в туалете! Я прячусь там. Для пущей безопасности я запираюсь на засов. Они колотят в дверь, но мне не страшно, дверь прочная. В туалете я чувствую себя как в неприступной крепости. Пусть стучат, мне нет до них дела. Внезапно все стихает. Я слышу разговор.
– Что происходит? – спрашивает папа.
– Жак заперся в туалете, – пискляво жалуются мои сестры.
– В туалете? Что ему там понадобилось? – удивляется мой отец.
И тут меня посещает вдохновение. Я произношу фразу, которую часто слышу от папы, когда он, беся маму, желает спокойно посидеть в туалете:
– Я читаю книгу.
За дверью тишина. Я знаю, что у нас дома слово «книга» мгновенно вызывает уважение.
– Может, выломать дверь? – ласково предлагает Матильда.
Напряженное ожидание.
Потом до моего слуха доносится папино ворчание:
– Раз он читает в туалете книгу, оставьте его в покое.
Так мне в голову врезается урок: когда дела совсем плохи, остается запереться в туалете и начать читать книгу.
Я сажусь на унитаз и озираюсь. Справа – стопка газет, выше – специально прибитая папой книжная полочка. Я беру одну из книжек. Страницы усеяны льнущими друг к другу буквами, мне их не расшифровать. Я перебираю другие книги, разглядываю обложки. Мне везет: здесь есть детский альбом с кучей картинок. Эта книга мне знакома, папа читал ее мне перед сном. Это история про великана, угодившего в страну лилипутов, и про лилипута в стране великанов. Кажется, этого человека зовут Гулливер. Глядя на картинки, я пытаюсь расшифровывать буквы и складывать из них слова. Эта задача мне по плечу. Я долго таращусь на великана, связанного толпой маленьких человечков по рукам и ногам.
Когда-нибудь, научившись читать, я надолго запрусь в туалете и буду читать, читать, пока совсем не забуду обо всем творящемся за дверью.
43. Четыре шара судьбы
Эдмонд Уэллс увлекает нас на северо-восток, в скалистую расселину. Он указывает на проход среди гор, и мы скользим по лабиринту тоннелей, пока не достигаем огромной пещеры, освещенной четырьмя сферами высотой в полсотни метров, парящими в двух метрах над полом.
Вокруг этих подвешенных в воздухе фосфоресцирующих арбузов снуют, как мухи, ангелы-наставники.
– Сюда наведываются только ангелы-наставники, – объясняет наш учитель. – Но раз уж вам позарез понадобилось увидеть то, чего не видят – и, кстати, не стремятся увидеть – все остальные ангелы, то я решил удовлетворить ваше любопытство.
Мы приближаемся к шарам. По размеру они не отличаются, но имеют разное наполнение.
В первом помещается душа минерального мира.
Во втором – растительного.
В третьем – животного.
Четвертый вмещает душу людского мира.
Я подхожу к первому шару. Внутри трепещет мерцающее ядро. Уж не душа ли это Земли, пресловутая Гея, та самая альма-матер, о которой толковали древние?
– Выходит, у Земли есть душа?
– Да. Все живет, и у всего живого есть душа, – подтверждает Эдмонд Уэллс. И небрежно уточняет: – А все, что наделено душой, желает развиваться.
Я завороженно застываю, любуясь четырьмя сферами.
– Это правда, что все наделено жизнью? Даже камни?
– Даже горы, ручьи и валуны. Но у них душа низшего уровня. Чтобы ее измерить, достаточно понаблюдать за мерцанием ядра. Понаблюдай – и постигнешь душу.
– Получается, – рассуждаю я, переваривая эту космогонию, – что минерал, находящийся на первой стадии, получает 100 очков, растение – 200, животное – 300, человек – 400.
– Измерь сам!
Я различаю душу Земли. Ее оценка – никак не 100 баллов, а гораздо выше, все… 163! Вторая сфера – со всеми лесами, полями, цветами – набирает не 200 баллов, а целых 236. Сфера животного царства тянет на 302. А человечество – всего на 333.
– Как же так? – удивляюсь я. – Человечество не набирает даже 400 баллов?
– То-то и оно, – кивает Эдмонд Уэллс. – А я что говорил? В этом и состоит весь смысл наших трудов: постараться помочь людям, чтобы они стали, наконец, настоящими людьми. Истинными Четверками. Но, как ты сам убеждаешься, люди не добираются до назначенного им места. Они еще не достигли даже середины расстояния между животной стадией 3 и мудростью 5. «Недостающее звено» – это про них. Как же мне смешно читать рассуждения Ницше о «сверхчеловеке»! Им бы сначала дотянуть до обычных людей!
Я почти вплотную подхожу к сфере человечества и вглядываюсь в шесть миллиардов шариков, каждый со своим мерцающим ядрышком.
Рауль Разорбак помалкивает, но я догадываюсь, что и он изрядно впечатлен разглядыванием этого скопища человеческих душ.
Стоя рядом с шаром, Эдмонд Уэллс объясняет:
– Перед вами вся ваша клиентура. Здесь разыгрывается сокровенная суть партии. Я считаю, что если человечество не уничтожит само себя в ближайшие столетия, то будет состоять из подлинных людей, настоящих Четверок. Но нам, ангелам, предстоит еще много поработать, чтобы поднять людей до этого уровня.
Наставник строит в наших умах график. Да он оптимист! У него человечество прогрессирует по экспоненте. Благодаря современным средствам сообщения и количеству путешествий, глобальной коммуникации, распространению культуры в планетарном масштабе, прогрессу доступных СМИ все быстрее наращивают влияние мудрецы (они же Пятерки).
– Полюбуйтесь, как жили люди раньше и как они живут теперь. Когда-то они боялись хищников, а теперь хищники сидят взаперти у них в зоопарках. Страшась голода, люди были вынуждены гнуть спину на тяжелых работах. Теперь эти функции переданы роботам и компьютерам. Человек имеет все больше свободного времени, чтобы думать. А когда человек думает, он задает вопросы.
Никогда еще шансы на резкий взлет человеческого сознания не были так велики, как на заре третьего тысячелетия. Когда-то, например в Древней Греции, ценились только «граждане», то есть свободные или освобожденные. Чужестранцами и рабами пренебрегали. Но со временем, потихоньку-полегоньку, права считаться людьми появились и у всех этих «маргиналов».
44. Энциклопедия
ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Всякий раз, когда люди расширяют понятие единообразия, зачисляя в него новые категории, это означает, что те, кого раньше ставили на низшую ступеньку, на самом деле достаточно схожи с нами, чтобы вызывать сочувствие. Новый эволюционный шаг делают не только они, но и все человечество.
Эдмонд Уэллс,
Энциклопедия Относительного и Абсолютного Знания, том IV.
45. Добрые и злые
Шар с людьми… Я понимаю, что сюда возвращаются наши яйца, когда устремляются на северо-восток. Понимаю и то, что такое слияние возможно только при сильном взаимном влиянии и гармонии. Отсюда фраза Эдмонда Уэллса, которой он мне все уши прожужжал: «Достаточно возвышения одной души, чтобы возвысилось все человечество». Не это ли – та самая «ноосфера» Тейяра де Шардена, где перемешивается сознание всех людей?
– Если мы, ангелы, палец о палец не ударим, смогут ли они развиваться сами по себе? – неожиданно спрашивает Рауль.
– Мы – пастухи, гонящие стадо в правильном направлении. Но оно и так уже бредет в нужную сторону благодаря прежним действиям ангелов.
– Раз так, то, может, пора предоставить их самим себе?
Эдмонд Уэллс даже не соизволит прореагировать на это замечание. Рауль не отстает:
– Каким будет следующий уровень развития у нас самих? Мир Богов?
Эдмонд Уэллс вскидывает брови:
– Вас, молодых ангелов, смешно слушать! Вам вынь да положь все сразу. Никак не избавитесь от прежних человеческих привычек. Внимательно посмотрите на ваши сферы. Вы убедитесь, что там присутствуют все рецидивы замашек смертных существ, которые все еще вам мешают. Перестаньте задавать ваши человеческие вопросы, ведите себя по-ангельски!
От возмущения наш наставник отворачивается от нас и торопится прочь. Подбегает к матери Терезе и давай ее отчитывать. Насколько я успел понять, среди клиентов матери Терезы фигурирует глава государства, которому она упорно подсказывает повысить налоги на крупные состояния. Эдмонд Уэллс внушает ей, что изводить богатых – не способ сделать счастливее бедных.
Я подкрадываюсь ближе, чтобы лучше слышать.
– Дорогая матушка, ваши рассуждения порой грешат упрощением. Как говаривал один из моих друзей, «одного успеха недостаточно, надо еще получать удовольствие от неудачи других». Он-то шутил, но вы всерьез исходите из подобных побуждений. Вы уверены, что человеку будет проще переносить свою нищету, если его судьбу разделит все человечество целиком? Нет, цель должна состоять, наоборот, в том, чтобы все люди обогатились!
На лице матери Терезы выражение упрямой ученицы, уверенной, что она, вопреки всему, всегда права.
Лично я считаю, что мать Тереза, проведшая всю земную жизнь среди туземцев, склонна воспроизводить свое прежнее окружение, только в нем находя для себя ориентиры. С бедняками она хорошо знакома, с богачами ситуация гораздо сложнее. Святой женщине пришлось бы интересоваться биржевыми курсами, причудами моды, светскими ужинами, престижными ресторанами, нервными депрессиями, великосветским пьянством, адюльтерами, талассотерапией – словом, всей мирской суетой.
Мать Тереза недовольно выслушивает упреки Эдмонда Уэллса и сообщает:
– Видимо, мне придется подбить моего президента на объявление кампании по сокращению рождаемости в неблагоприятных районах. Рожайте детей, только если можете о них позаботиться, иначе их ждут наркомания и проблемы с законом. Вы этого хотите?
– Старайтесь дальше, – говорит со вздохом Эдмонд Уэллс. – Вы делаете успехи.
Вижу, наш наставник – весьма терпеливый педагог. Он уважает – пускай по-своему – свободную волю ангелов.
Рауль распахивает руки и взлетает. Я следую за ним.
– Эдмонд Уэллс знает, кто такие Семерки. Ему известно, кто парит над нами.
– Нам он ничего не скажет. Ты уже видел, как он реагирует, – говорю я.
– Он и дальше будет держать язык за зубами. Но существует его книга…
– Что за книга?
– Его «Энциклопедия Относительного и Абсолютного Знания». Он начал ее составлять еще в своей земной ипостаси и продолжает в небесной. Сам знаешь, он то и дело цитирует из нее целые куски. В ней собраны все его познания, все, что он открыл, все, что представляет для него интерес. Первые три тома он подготовил еще на Земле, в них могут заглядывать смертные. Четвертый том пишет уже здесь, как раз сейчас.
– Чего он хочет этим добиться?
Мой друг делает мертвую петлю, потом опять подлетает ко мне.
– Эдмонду Уэллсу так важно распространять свою премудрость, что он не прекращает попытки материализовать свой четвертый том по примеру трех предыдущих.
– У него нет ни карандаша, ни ручки, ни пишущей машинки, ни компьютера. Сколько бы информации он ни накопил, она так и останется витать в эфире.
Но Рауля такими доводами не пронять.
– Не считаешь же ты его настолько могущественным, чтобы умудриться отобразить величайшие тайны рая в некоем материальном томе, спрятанном где-то на Земле?
Рауль сохраняет непоколебимость.
– Помнишь место в «Энциклопедии» под названием «Конец эзотерики»? Там черным по белому написано: «Ныне все тайны можно вываливать на всеобщее обозрение, ибо – скажем прямо – понимание дается только желающим понять».
Мы описываем круги над раем.
– Все тайны, за исключением тайны Семерок! Невозможно даже представить, чтобы Эдмунд Уэллс доверил землянину, человеку-медиуму, воспроизведение секретов рая в материальной книге…
Мой друг смотрит напряженно-выжидающе, как будто я сейчас скажу…
И я говорю:
– Кто знает…
46. Энциклопедия
КОНЕЦ ЭЗОТЕРИКИ. Когда-то люди, имевшие доступ к фундаментальным знаниям о природе человека, не могли ими делиться просто так. Поэтому пророки изъяснялись притчами, метафорами, символами, намеками, иносказаниями. Они боялись слишком быстрого распространения своей премудрости, опасались быть неверно понятыми. При помощи обрядов посвящения они тщательно отбирали тех, кто был достоин получить доступ к важным сведениям. Так строилась иерархия знания.
Те времена давно минули. Ныне все тайны можно вываливать на всеобщее обозрение, ибо – скажем прямо – понимание дается только желающим понять. «Жажда знаний» – мощнейший человеческий двигатель.
Эдмонд Уэллс,
Энциклопедия Относительного и Абсолютного Знания, том IV.
47. Игорь, 7 лет
Человек в форме служил в милиции. Он был красив, высок, силен, от него пахло чистотой. Он взял меня на руки, отряхнул от снега и отвел в ближайший сиротский приют. Наконец-то я избавлен от наихудшей угрозы – родной матери. Я нахожусь здесь уже два года.
В приюте живут дети, от которых отказались родители. Мы – отбросы общества, нелюбимые, нежеланные, те, кому вообще не следовало бы рождаться.
Мне наплевать. Главное, что я жив.
Это заведение похоже на приют для бездомных собак – с той разницей, что ветеринар сюда реже заглядывает, да и кормят скуднее.
Дети сплошь нервные. Я, на счастье, крепкий орешек. При возникновении проблем я без размышлений бью первым, преимущественно в живот. У меня репутация забияки, но, по мне, лучше пусть так: по крайней мере, меня боятся. Сначала страх, потом дружба. Я быстро смекнул, что обходительность принимают за слабость. Так что я совершено не обходительный паренек. Потому что я не слабак.
У нас спальня на четверых. Я и троица на «В».
Ваня – маленький украинец, которого отец-алкоголик слишком часто колотил об стену.
Володя у нас толстяк. Не пойму, как он умудрился растолстеть на здешней кормежке.
Василий – молчун. Если уж заговорит, то только о чем-то интересном. Жаль, редко открывает рот. Это он научил нас играть в покер.
Покер – это здорово. За один вечер ты сначала тонешь в несчастье, а потом взлетаешь на вершину счастья, все происходит очень быстро. Когда Вася играет, лицо у него каменное. «Главное, – поучает он нас, – не иметь хорошие или плохие карты, а научиться играть плохими». Еще он говорит: «Важны не карты у тебя на руках, а то, какие у тебя карты по мнению противника». За игрой – и не только – Вася постоянно жует веточку.
Он учит нас посылать ложные сигналы радости или разочарования, чтобы успешнее обманывать других. Его покерная школа многому меня научила, у меня развился талант наблюдателя. Мне это очень нравится. Мир полон мелких подробностей, содержащих все необходимые сведения.
Вася рассказывает:
– Некоторые профессиональные картежники так сильны, что даже не смотрят в свои карты, чтобы не выдать себя выражением лица.
– Как же они тогда узнают, кто выиграл?
– Это происходит в последний момент. Когда карты противника уже на столе, они переворачивают свои и видят расклад.
От Васи никто не отказывался. Родители не подвергали его побоям. Он сам сбежал в возрасте 6 лет. Его поймала милиция, но так и не дозналась, кто он и откуда взялся. Милиции неохота заниматься нудными делами беглецов, проще было определить его к нам.
Вася никогда не распространяется о своем происхождении. Вообще-то у него были богатые родители, но он не желает их видеть. Он сбежал от них просто так, ради приключения. Вася – отличный парень.
Иногда детей из приюта забирают приемные семьи, люди, мечтающие стать родителями. Сначала я тоже об этом мечтал: хорошо бы появились родители, решившие меня спасти… Но я быстро понял, что это ловушка. Слухи заставляют насторожиться. Болтают, что приемных детей обычно принуждают заниматься детской проституцией или трудиться в подпольных мастерских: шить футбольные мячи или мастерить игрушки для западных детишек.
Ох, как я ненавижу этих западных детей! На них горбатятся не только за пределами приюта, но и прямо здесь, в нашем подвале: нас заставляют собирать кукол и электроприборы. Эксплуатируют почем зря!
Когда кто-то собирает свои пожитки, чтобы уйти в приемную семью, над ним смеются и провожают вопросом: «Проституция или подпольный цех?» На самом деле нам завидно, ведь этот счастливчик, может быть, нашел родителей, а мы еще нет.
Вчера Петина шайка поколотила нашего Ивана. Он пришел весь в слезах. Петя заставил его показать наш тайник и забрал оттуда все наши сигареты. Он за это поплатится.
Мы торопимся в Петину спальню. Дверь не заперта, но внутри никого нет. Подозрительная тишина. Уверен, это западня.
Быстро поднимающийся к потолку клок паутины – недобрая примета. Так и есть, западня.
Поздно! Петя и его приятели спрятались под кроватями. Выскочив оттуда, они угрожают нам ножом с выпрыгивающим лезвием.
Примета не подвела.
Против ножа кулаки бессильны. Мы стоим понурые. Петя приказывает своим шавкам раздеть нас и сжечь нашу одежду. Теперь, говорит он, мы должны будем, воруя сигареты, половину отдавать им, иначе нам не поздоровится.
– Хотите мира, малявки, – платите.
Потом он поворачивается ко мне, тычет острием ножа мне в пупок и цедит:
– А тебе я когда-нибудь попорчу портрет.
С ножом мне не сладить. Мы бредем голые на виду у остальных детей. История нашего позора быстро облетает приют. Мы знаем, что потеряли лицо.
На дворе снег, скоро Новый год, но здесь никто не верит в Деда Мороза. Если бы он существовал, то у нас появились бы заботливые родители. Нам дарят по апельсину и кормят настоящей овечьей требухой, пусть и плохо промытой. Я чищу апельсин и загадываю желание на случай, если Дед Мороз меня услышит: «Хочу, чтобы Петю пырнули ножом в живот».