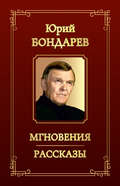Юрий Бондарев
Последние залпы
Второе орудие стояло на правом краю высоты.
– Стой! Кто топает?
– Капитан Новиков.
Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия; лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления:
– Кто это – Алешин? Что за новость? Ты часовой?
– Я, товарищ капитан, – возбужденно ответил Алешин. – Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоятся.
Новиков невольно усмехнулся.
– Сегодня, Витя, сами солдаты решают – спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата, не трепи им нервы.
– Слушаюсь, – охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил с оживлением: – Что они молчат? Надоело ждать! Скорей бы, товарищ капитан!..
Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, потухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зарева Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными, возбужденными глазами – резких весенних веснушек не было видно. И пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом: то ли шоколадом, то ли мятными галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел, никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной ощутимости будто приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев.
Алешин произнес с горячей досадой:
– Только ракеты кидают, надоело ждать! Даю слово, начнется бой, еще пять танков на мой счет запишете! Верите?
– Верю, верю…
Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.
– Вот что, Витя, шоколад я твой передал, – сказал Новиков. – Тебе – спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
– Да? Мне спасибо? От Лены? – переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко, обрадованно засмеялся. – Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказалась в медсанбат? Молодец!
– Да. Но завтра я все же отправляю ее в медсанбат. Или сегодня ночью. В зависимости от обстановки.
Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно угасла. Тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина.
– Не отправляйте, товарищ капитан! Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимает: перевязку там и… все, – захлебываясь, заговорил Алешин и умоляюще подался к Новикову. – Уедет она – и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом… или как там? Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово! Возненавидеть – это ерунда, конечно. Это так, со зла, вы тогда с ней не разговаривали.
– Поставь часового и иди в землянку, – с прежней строгостью сказал Новиков, подымаясь, заученным движением поправляя кобуру. – Часовые пусть меняются через два часа.
– Слушаюсь, все ясно, – опадающим голосом ответил Алешин.
И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И внезапно, чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в нем, Новикове, то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось против его воли, – просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого.
«Он подражает мне, как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера, – подумал Новиков почти с нежностью. – Но он не знает, что мы с ним едва ли не одногодки. Не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками. Но я не могу, не имею права. Наверно, и моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после войны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь: „Не может быть“. А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю».
– Спокойной ночи, Витя, – сказал Новиков и, против обыкновения, сильно пожал руку Алешина. – Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет – посмотрим.
– Черт с ним, товарищ капитан! – ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутому со лба козырьку. – Оборона хуже всего! Леночке привет!
Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова ни говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались от города, освещали всю высоту, лица, орудие, снарядные ящики. В тылу отдаленно рокотал бой, изредка сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись среди зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали мертво. И казалось, высота тесно сжата – сзади заревом, спереди – выжидательной тишиной. Там были немцы, танки, и кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков.
– Пойду отдохну, – буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову: – Изменится что-нибудь – разбудите.
– Слушаюсь, – вскриком ответил Ремешков и сморгнул, привставая. – Да разве тут заснешь?
Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца, потом позвал негромко:
– Лена, ты спишь?
– Я жду тебя… Иди сюда. Что там, наверху?
Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ему, как в теплый, качающий его ветерок.
– Окружение, да? Только лампу не зажигай…
– Лена, тебе находиться здесь нельзя, – сказал Новиков. – Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Около высоты. Я сам тебя отнесу. Оставаться здесь нет смысла.
– Ну вот, по голосу чувствую – нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
– Но мне – наоборот.
– Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть… Сними шинель, ты ведь устал, так будет лучше. Когда ты ушел, я подумала: вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
Она тихо засмеялась счастливым, теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что, дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней и, может быть, давно, – не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей…
Все оставшееся от того, прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки – четыре письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее, детское, это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему, дороже и взрослее – он испытал это впервые.
– Никогда я… такого не чувствовал, как к тебе, – сказал он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. – Ты веришь?.. Никогда!..
Он обнял ее. Она не поднялась, снизу руками обвила его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой округлость ее груди, гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы исступленно ласкали его волосы на затылке, родственно, преданно гладили его шею, скользили по плечам…
– Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой!..
– Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь… Что бы ни было – ты мой!..
Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. Тихий, обволакивающий шепот будто черными шерстинками стоял перед глазами Новикова, был бесплотен, тающ, беззвучен; и в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по лбу, по волосам его, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. Но после того, что впервые почувствовал он, – это короткое, казалось, неповторимое бредовое счастье обладания женщиной, он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении, в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости.
В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал, – он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро:
– Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.
– Жена… – повторила Лена медленно. – Как это ты хорошо сказал: жена… – Помолчала и договорила со злой горечью: – Но здесь не может быть ни жены, ни мужа.
– Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи. Даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось.
Лена не ответила, уткнувшись лицом ему в подмышку, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового, молодого тела; так пахло от него тогда, в блиндаже – терпкий знакомый запах пороха, он был еще весь пропитан им после утреннего боя. Долго лежала не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не признал, не принял. Тогда он сказал отрывистым, неузнаваемым ею голосом:
– Ты молчишь, Ленка? А мне все ясно.
– Все может измениться, пойми меня! – ответила она серьезно и страстно. – Все… Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Ты послушай меня, я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так: когда очень хорошо – начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?
Он не выдержал, обнял ее.
– Ты действительно чепуху говоришь, Ленка, – сказал Новиков спокойно. – Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.
Она осторожно гладила его шею, его грудь.
– Обними меня крепче. Очень крепко, – неожиданно попросила она шепотом. – Чтоб больно было…
Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, ощутимый знакомой тяжестью пистолета, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным, усиливающимся ливнем.
Сдавленный голос – не то Ремешкова, не то Степанова – толкнулся в дверь блиндажа:
– Товарищ капитан!.. Немцы!
И, услышав это «немцы», он, как бы мгновенно охлажденный, понял все.
Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:
– Ну вот, началось! Пошел!..
И вышел из блиндажа, застегивая шинель.
Побледневшее к утру зарево, холодно тлеющий над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего неба, – ничто детально и точно не было сразу намечено и выделено сознанием Новикова. Все это даже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он.
Вся мрачно теневая, темная еще, покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем, – черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны: в направлении свинцово поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле – в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть в первое мгновение он, удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их.
Ночь, еще непрочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Только по чугунному гулу, по длинно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по железному скрежету будто гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго шевелящейся, дрожащей от напряжения стальной пружины Новиков точно и безошибочно определил это новое направление на высоту.
Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. Как отсвет их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью с тыла высоты стреляли по орудиям прорвавшиеся из Касно танки, и Новиков, заметив эти сигналы, понял их: «Мы идем на прорыв, соединимся в городе».
Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно, хищно пожирая их, уже вползали в район минного поля перед высотой, – тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины.
– Что стоите, Степанов? К орудию! Бегом! – скомандовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мял, тискал свои мясистые щеки Степанов.
Стоял он рядом в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту, крупные губы прыгали, растягивались, он медлил с желанием выдавить из себя что-то; слов Новиков не разобрал.
– Бегом!
«Что это с ним? Спокойный ведь был парень! Нервы сдали, что ли?» – подумал Новиков досадливо и удивленно, видя, как побежал к орудию толстоватый в пояснице Степанов, как при разрывах нырял он большой головой, так что уши врезались в воротник шинели.
Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными даже на слух краями резали воздух над бруствером, звенели тонко и нежно. И этот противоестественно ласкающий звук смерти по-новому, до отвращения ощущал Новиков.
На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми, серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники. Порохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин; нетерпеливо перекашивая злые губы, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус под сошники. У мигом повернувшего лицо Порохонько острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения. Взгляд его коротко скользнул навстречу Новикову – будто он, Порохонько, ждал своего часа и дождался. Сразу стало горячо Новикову от этого взгляда. И, рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул:
– По места-ам! Заряжа-ай!
Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритых скулах, на подбородке, а в полуоткрытых губах выражение слепой торопливости. Скользкий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его.
«С этим парнем кончено, – удовлетворенно мелькнуло у Новикова. – Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову.
– Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, Порохонько?.. Товарищ капитан!.. – не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, крадучись, боком пятясь к панораме.
Досиня бледный, весь огрузший, потеряв прежнюю деловитость в движениях, был он, похоже, смят чем-то, подавлен, разбит. Неприятно отталкивали Новикова его опустошенно-светлые дергающиеся глаза – в них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял. Это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью тем чувством самосохранения, что, как болезнь, возникло у некоторых солдат в конце войны.
– Вы что раскисли? – Новиков взял за плечо Степанова, повернул к себе. – Возьмите себя в руки! Выбросьте блажь из головы! Забьете чушь в голову – убьет первым же снарядом! К панораме!
И уже с непрекословной силой подтолкнул наводчика к щиту орудия.
Степанов присел к панораме, потянулся судорожно-спешно к маховикам механизмов, а они, чудилось, ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напружилась, по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в Степанове напряжение, неточно рыскающие сдвиги прицела.
– Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите? – выплыл из-за спины голос Порохонько и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами.
Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, левый край ее продвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова – в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе, – было видно, как танки угрюмо-черными тенями переползали через нее, двигались фланговым обходом на город.
Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги.
Низина наливалась катящимся гулом, но мутно различимые квадраты танков еще не вели массированный огонь, – стреляли по флангам, как бы еще выжидательно нащупывая цели. И это тоже казалось необычным Новикову.
– К телефону Алешина! Быстро! – приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик, – белое лицо связиста засновало у аппарата.
«Если бы были орудия Овчинникова, если бы… – подумал Новиков, в эту минуту ничего не прощая Овчинникову. – Там, у озера, свободный, не прикрытый ничем проход…»
– Алешин, ты? – Он стиснул трубку. – Алешин…
Ответа не расслышал – тотчас ворвался в ровик гром артиллерийской стрельбы: выстрелы – разрывы, разрывы – выстрелы. На миг поднял голову: справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуловимой частотой сплетались там багровые выплески, – открыли огонь по танкам соседние батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою, и внезапная радость оттого, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей и удивившей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью:
– Видишь, Алешин, справа огонь? Соседи живут! По правым танкам не стреляй! Огонь по левым! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Все!
И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду:
– Внимание!.. Наводить по левым танкам… по головному!
Ракеты уже не сигналили больше, танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Новиков видел это без бинокля.
Левая оконечность дуги резко закруглилась – три крайних танка, набирая скорость, с вибрирующим воем моторов вырвались вперед, тяжело катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, смело вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, давя остатки орудия, и, когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду:
– По левому… огонь!
Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед, почти слитно, ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвилось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнуло в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки (едва заметил: как будто иззябшими руками потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно-стылым лицом), Новиков тряхнул как-то сразу заболевшей головой, встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачуще сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой, – непрерывно били танки.
А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сровнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита – ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядом.
– Степанов! – позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было.
Когда подбежал он к орудию, то увидел расширенные, мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом, одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а его тормошил, дергал за хлястик, кричал что-то весь закопченный дымом Порохонько.
– Что? Почему прекратили огонь? – крикнул Новиков. – Степанов!..
Но никто не ответил. Он наклонился, и кинулось в глаза: Степанов стоял на коленях, ткнувшись лбом в щит орудия, съеженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползало из-под разорванной пилотки, объяснило Новикову это странное несоответствие позы с тем, что произошло. Воронки зияли слева и чуть позади Степанова – следы снарядов на бруствере, убивших его.
– Отнесите в нишу, похороним потом, – сказал Новиков, почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в последние его часы. Но не было времени, душевных сил возобновить в памяти, где был прав и виноват он. Новиков чувствовал темное кружение в голове, позывало на тошноту, – видимо, контузило его в ровике.
– Отнесите в нишу, похороним потом, – повторил Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных, отрезвляющих нот: – По места-ам!..
И тут же исчезло, ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы – резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.
Он увидел в панораме уже как бы разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки: тяжелые танки, с ходу ведя огонь, сползались от центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три первых танка миновали позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя, скатывались в котловину.
– А-а, – только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его била внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы, и то, что делали его руки, глаза, будто отделилось от сознания, а оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился!» И все будто исчезло: на перекрестие прицела в упор надвинулся широкий, подымающийся из котловины покатый лоб танка, качнулся, дрогнул его длинный ствол, слепя, заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия – с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закушенной губе, Новиков поймал его опять, выстрелил и уже не смотрел, куда впилась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула там по широкой груди танка.
– Товарищ капитан! Быстрей! Быстрей!.. «Мессера» идут! Товарищ капитан, миленький!.. Быстрей!..
«Чей это голос, Ремешкова? Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков! Ни одного звука. Я не тороплюсь потому, что так надо, так вернее…»
Сколько он сделал выстрелов? Шесть? Десять? Двадцать? Нет, только девять… Но дуга все распрямлялась – где следы выстрелов? Танки идут… Снова крик разбух за спиной его, накаленный опасностью, а может быть, бешеной радостью, животный крик, он никогда не слышал этот неестественный голос Ремешкова:
– Тринадцать штук горят! Горят! Нет, четырнадцать! Алешин три смазал! Мы – шесть!.. – И крик этот точно скосило: – Пикируют! Сюда!.. Вот они! Товарищ капитан!..
Тонкий, режущий свист возник в небе; в грохоте, в треске разрывов он стал увеличиваться, расти над самой головой – наклонно к земле скользили в дыму узкие, как бритвенные лезвия, вытянутые тела «мессершмиттов». Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колючее пламя пулеметных очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулось косматое и высокое там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудие. С пронзительным звоном истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкав в утреннем небе, и оттуда косо понеслись, стали падать на высоту, вытянув черные жала пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брустверам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок – разрывы бомб встали вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, но почувствовал большой опасности, не лег, лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы; как во сне, просочился захлебывающийся голос Ремешкова:
– Товарищ капитан, ложитесь… ложитесь, разве не видите? Осатанели они! По головам ходят!.. Убьют вас… Пропадем без вас, товарищ капитан…
Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной, как дуновение ветра, как неточные удары бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел, как осиные тела истребителей падали в дыму над высотой на орудия.
А непрерывный писк, едва пробившийся сквозь окруживший огневую грохот, назойливо, требовательно звучал за спиной. Кажется, зуммерил телефон.
– Аппарат! – крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и сейчас же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста:
– Товарищ капитан! Алешин у телефона! Докладывает! Справа танки через минное поле прошли!
– Где прошли? Где?
Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали оттуда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы.
В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.
– Связист! Ясно видит Алешин эти танки? Ясно видит? Передайте мой приказ Алешину!.. – скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клекот пулеметов. – Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!
И, скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад, к траншеям боевого охранения.
– Товарищ капитан! Да что вы? Ложитесь! – снова возникли за спиной умоляющие вскрики Ремешкова. – Пикируют!
Новикова резко дернули за рукав гимнастерки. Ремешков, весь засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел рядом, вскинув серое лицо, в застывших от надвигающейся опасности глазах светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова, пули звеняще прошлись по огневой, запылили, зыбко задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними – и хвост истребителя стал взмывать над высотой, врезаясь в небо.
– Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? – говорил лихорадочно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу. – Что же вы так? Что же вы так?.. Товарищ капитан!..
Будто не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как впереди мимо занявшихся дымом машин медленно вползали в котловину танки, – вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали продвижение танков. Странно, напряженно дрожали брови Новикова. И Ремешков, который не видел эти танки, не мог знать, что чувствовал Новиков, придвинулся ближе к нему, поднял молодое обескровленное лицо, спросил:
– Худо вам, товарищ капитан? Ранило, а?
– К орудию! – сквозь зубы подал команду Новиков. – Заряжай, Ремешков! Где Порохонько? Заряжай! – И, садясь к прицелу, обернулся: – Порохонько, жив?
Порохонько лежал на спине среди станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей, крепкими зубами покусывая соломину, смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом.
– Огонь! – скомандовал Новиков.
Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.
Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Нажимая спуск, он чувствовал: горло жгло сухой краской орудия, он заметил – раскаленный ствол покрылся искристой синевой. Но ни о чем не думал, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город, ни одна мысль не была логичной, кроме одной: они прорывались к озеру.
– Уходят! – чей-то крик за спиной, и он смутно ощутил: случилось что-то в воздухе.