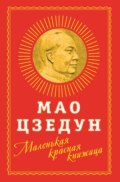Борис Кагарлицкий
Восстание среднего класса
А был ли призрак?
Кульминацией неолиберального наступления был распад Советского Союза. Технологическая революция оказалась вызовом, на который советская система ответить была не в состоянии. Оборонные производства и «закрытые» исследовательские институты могли производить чудеса техники, порой опережая западные разработки на целые годы даже после того, как разложившееся государство прекратило всякое финансирование. Но массово внедрить информационные технологии в повседневную жизнь жесткая и косная система оказывалась не в состоянии.
Отказавшись от реформ в конце 1960-х годов, советская бюрократия обрекла себя на зависимость от Запада. Технологические новации и потребительские товары для населения оплачивались за счет экспорта нефти и газа. Советский Союз постепенно интегрировался в мировую экономику в качестве сырьевого придатка европейского капитализма. Верхом мечтаний советской элиты стало присоединение к элите западной. Смена системы на Востоке Европы была инициирована именно бюрократической элитой.
В первой половине XX века Россия, а затем Советский Союз стали символом социалистических надежд. В конце столетия по Восточной Европе и бывшим советским республикам прокатилась неолиберальная волна. Разрушение социального государства произошло здесь в беспрецедентных масштабах, поставив в некоторых случаях под вопрос элементарные условия цивилизованного существования для большинства народа.
Крушение СССР сопровождалось глобальным кризисом левых. Международное коммунистическое движение, видевшее в Советском Союзе свой идеал, перестало существовать. Показательно, что выжили в основном те партии, которые уже в конце 1970-х годов отмежевались от «советского брата», за что были прозваны «еврокоммунистами».
Меньше всего пострадали морально и психологически те из левых, кто изначально отказывал Советскому Союзу в праве называться «социалистическим».
Однако этим вопрос не исчерпывается. Ибо, если социалистический характер советского строя был более чем сомнителен, его революционное и социалистическое происхождение остается очевидным. Именно это генетическое родство и позволяло советской системе на протяжении многих лет более или менее успешно притворяться социализмом.
Моральный ущерб от поражения СССР понесли все левые, от социал-демократов до троцкистов. Даже социалисты и марксисты в Восточной Европе, которые в 1970-е и 1980-е годы боролись за изменение системы, подвергались репрессиям, сейчас чувствовали себя не победителями, а побежденными. Их язык, лозунги, культура были дискредитированы. А с другой стороны, отказ от своей традиции и языка был для левых самоубийственным. Перестать говорить о социализме, отказаться от прошлого значило не «обновить» движение, а просто покинуть идеологическое поле битвы, оставив его неолиберальным пропагандистам.
Многочисленные и высокооплачиваемые авторы объявили историю оконченной, а призрака революции – окончательно изгнанным. Его надлежало не только изгнать, но и забыть. Он должен был исчезнуть без следа. Окончательную победу над марксистским «призраком» требовалось закрепить, полностью удалив из общественного употребления любые следы социалистической традиции и языка. Ведь политическое мышление не может существовать без традиции и языка. Лишенные их, побежденные классы становятся как бы глухонемыми, политически несамостоятельными. Маркс писал о том, что, обретая самосознание, пролетариат из «класса в себе» превращается в «класс для себя». Отняв самосознание, можно вновь превратить класс в бессмысленную массу, «рабочую силу», способную только продавать себя по дешевке на рынке труда.
К концу 80-х годов поражение индустриального пролетариата в Западной Европе и США было свершившимся политическим фактом. В Восточной Европе следует говорить уже не о поражении, а о катастрофе. Господствовавшая на протяжении десятилетий коммунистическая система лишила трудящихся способности к самоорганизации. Троцкий говорил в 1930-е годы, что бюрократия политически экспроприировала пролетариат. Уйдя со сцены в конце 1980-х, государственные коммунистические партии оставили трудящихся без организации, без идеологии и даже без собственного языка.
Гонки на спуск
Левые потерпели идеологическое поражение, профсоюзы оказались в кризисе. Все то, что рабочее движение считало своими историческими завоеваниями на протяжении XX века, было поставлено под сомнение. Это не означало, однако, будто промышленный рабочий должен был исчезнуть на Востоке и Западе как социальный тип. Это отнюдь не было задачей неолиберальной контрреформы. Тем более это не было и не могло быть целью технологической революции. Но соотношение сил в промышленности между работодателем и работником радикально меняется.
Начинается то, что профсоюзные активисты назвали «гонка на спуск», бег по нисходящей. Каждое предприятие, каждая отрасль, каждая страна поставлена перед фактом жесточайшей конкуренции. Рынок труда становится глобальным, но только для капитала. Перемещаясь из страны в страну, деньги ищут самого дешевого работника. Трудящимся остается только одно: отказаться от своих социальных завоеваний, смириться со снижением жизненного уровня, согласиться с ужесточением эксплуатации в надежде тем самым сохранить свое рабочее место. В гонке участвуют работники, а побеждает всегда капитал. Каждое предприятие, снижая свои социальные издержки, заставляет всех остальных делать то же самое. В гонку включаются государства. Если в 50—60-е годы XX века правительства конкурировали между собой, добиваясь повышения жизненного уровня граждан, то теперь они столь же яростно соревнуются в деле его снижения. Это проходит безнаказанно, ибо сами граждане, играющие по новым правилам, признают, что иной альтернативы нет.
Впрочем, в «гонках на спуск» участвуют далеко не все. Если бы все общество стремительно и равномерно деградировало, неолиберальная модель не продержалась бы не только десяти лет, но и десяти месяцев. Параллельно с социальной деградацией традиционного промышленного пролетариата поднимается новый средний класс. И на первых порах этот средний класс не только не страдает от происходящего, но, напротив, многое выигрывает.
Чем более рассредоточено производство, тем больше людей обеспечивают его управляемость. Это менеджеры, персонал, работающий в офисах, системные администраторы.
Это рабочие места для «среднего класса». Огромную армию «белых воротничков» на первых порах гораздо легче контролировать. Здесь царит бюрократическая дисциплина и командный дух. Здесь, как и в любой административной системе, главным стимулом становится продвижение по службе и соответствие требованиям организации. Коллективный конфликт между работниками и работодателями по вопросам зарплаты и условий труда сменяется индивидуальным соревнованием между сотрудниками компании, стремящимися подняться наверх.
Неолиберальная контрреформа стала возможна благодаря поддержке среднего класса. Но ведь сам средний класс сделался массовым именно в результате социальных реформ середины XX века. Он отнюдь не является продуктом рыночной экономики, которая в течение всей эпохи «классического» капитализма неизменно воспроизводила поляризацию между богатыми и бедными, буржуа и пролетариями. Перераспределительные программы, всевозможные формы социального страхования, государственные инвестиции в образование и здравоохранение, рост правительственных расходов на развитие создали условия для формирования среднего класса. Массовые средние слои в странах Восточной Европы и Латинской Америки были продуктом государственной перераспределительной политики в еще большей степени, чем на Западе.
Социальная арифметика изменилась. Перераспределительные меры в 1940-е годы создавали средний класс, заставляя тесниться богатых. В 70-х годах речь уже шла о том, чтобы сам средний класс вносил свой вклад в то, чтобы улучшить положение социальных низов. И хотя, как выяснилось задним числом, именно средний класс и являлся главным получателем благ капитализма, он проявил удивительное и на первый взгляд самоубийственное нежелание эту систему поддерживать. Консолидировавшись к началу 60-х годов, средние слои уже почувствовали себя самостоятельными. Они осознавали свое положение в обществе как само собой разумеющееся. В 40—50-е годы миллионы людей на Западе и Востоке Европы поддерживали государственные социальные программы, видя в них средство для того, чтобы улучшить свое положение. А в 70-е годы новое поколение среднего класса уже воспринимало свое положение как должное. Напротив, оно стремится освободиться от опеки государства, раздраженно реагируя на бюрократическую неэффективность, гнетущее однообразие официальных процедур и надоевшую за много лет риторику социальной справедливости.
В 1960-е годы реформированный капитализм и переживший «оттепель» коммунизм соревновались в строительстве потребительского общества. Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая на XXII съезде, говорила, в сущности, о том же, что и реклама «американского образа жизни». Коммунизм мыслился как изобилие, торжество потребления. Материальный достаток, становящийся равнозначным счастью. Капитализм и коммунизм тех лет пронизаны одними и теми же идеями. Но это были ценности и идеалы уходящего поколения, пережившего лишения и ужасы двух мировых войн и тоталитаризма. Молодое поколение мечтало о чем-то большем, чем материальное благополучие и личная безопасность. Бунт 1968 года во Франции и движение «Пражской весны» в Чехословакии были порождены стремлением к свободе, которое, проявляя себя по-разному, овладевало людьми и на Западе, и на Востоке. Однако 60-е годы кончились неудачей. «Пражская весна» была раздавлена советскими танками, студенческие выступления захлебнулись.
Именно в это время формирующийся неолиберализм предлагает среднему классу новое понимание свободы – как потребления. Ценности потребительского общества, против которых восставали студенты, совместились с идеалами протестующих. Свобода свелась к разнообразию, к многоцветию товаров и услуг, к возможности выбора. Потребление из массового должно было превратиться в индивидуальное. Обществу, которое не смогло реализовать свою свободу в социальном преобразовании, предлагалось осуществить ее в совершенно иной сфере. Коллективное действие сменялось индивидуальным наслаждением.
Право выбора, обещанное неолиберальной идеологией, не просто осуществляется на свободном рынке. Оно оказывается путем к наслаждению. Суть потребления не в удовлетворении материальных потребностей, а в самореализации, самоутверждении. Товарные знаки уже не просто связываются в сознании покупателя с репутацией фирмы. Они становятся символами бытия, образами, с которыми связываются социальные и культурные идеалы.
Можно сказать, что потребительская культура преобразовала себя в ответ на вызовы 60-х. Точно так же, как контрреформация XVI века опиралась на культурные достижения Ренессанса, неолиберальная реакция по-своему продолжала и развивала образы молодежного бунта. Именно потому, что неолиберализм впитал в себя импульсы «бунтовщических 60-х», он смог преобразить капитализм. Неолиберализм не только перекупил, совратил, развратил множество интеллектуальных и артистических кумиров «великого десятилетия», он стал на эмоциональном уровне своеобразным синтезом протеста и конформизма. Анархистские лозунги борьбы против государства обратились в призыв покончить с бюрократизированным социальным страхованием. Ненависть к любой власти сменилась готовностью подорвать власть правительства ради свободы корпораций. Призыв к социальному освобождению сменился готовностью «освободить» талантливых и динамичных предпринимателей из-под гнета тусклых и тупых чиновников. Рынок был провозглашен единственно значимым пространством свободы.
Именно это стало третьим, по-своему решающим направлением неолиберальной контрреформы. Новая идеология потребления стала господствующей. Говоря словами Грамши, завоевала гегемонию.
Культурная гегемония неолиберализма обеспечила контрреформе поддержку среднего класса. Коллективный эгоизм более благополучной части общества был освящен моралью, идеологией и эстетикой. Технологическая революция добавила социальному эгоизму еще и «историческое оправдание». Лидер итальянской партии Фаусто Бертинотти, описывая ситуацию 90-х годов, говорил про «одиночество рабочего». Растущий «постиндустриальный» средний класс в массе своей не испытывал большого сочувствия к страданиям социальных низов. Люди, считавшие себя успешно вписавшимися в новую экономическую модель, воспринимали происходящее как естественный процесс. Те, кто остался за бортом, принадлежали к «уходящей экономике». Те, кто процветал, считали себя «новой экономикой». Все происходит само собой. Никто не виноват. Промышленный рабочий обречен был страдать просто потому, что оказался «фигурой прошлого».
«Ничего личного», – как говорят киллеры в голливудских фильмах.
Глобальный рынок труда менял и облик низов. Массовая иммиграция из бедных стран превращает низкооплачиваемые профессии в удел этнических меньшинств и «инородцев». Миллионы людей, находящиеся на низшей ступеньке социальной иерархии, оказываются не только лишены гражданских прав, но зачастую и просто являются нелегалами. Уже с XIX века этот подход к трудовым отношениям был успешно опробован в США. Результатом стала хорошо известная слабость профсоюзного движения. Конкуренция между общинами подорвала классовую солидарность. В последнее десятилетие XX века та же модель была применена в Европе.
Социальные противоречия превращаются в вопрос межэтнических отношений и оказываются неразрешимы как таковые. Как, впрочем, и проблемы этнические, ибо разрешить их можно лишь путем социального преобразования, которое даже не обсуждается.
«Две нации!» – говорил радикальный журналист Дизраэли, описывая социальные контрасты викторианской Англии. Но тогдашние «две нации» говорили на одном языке, принадлежали к одной расе и религии. В эпоху глобализации слова Дизраэли приобретают новый конкретный смысл. Формируется этническое разделение труда. Социальные низы этнически и культурно оказываются как бы «вне общества». Соответственно их несчастья, даже если на них кто-то обращает внимание, воспринимаются уже не как проявление социального конфликта, а как результат расовой или культурной дискриминации. Вместо того чтобы бороться за права низкооплачиваемых работников, сердобольные либералы добиваются законов о правах религиозных меньшинств, гуманного обращения с беженцами и права для мусульманских девочек носить чадру на школьных занятиях. Солидарность заменяется благотворительностью и религиозной терпимостью.
Общество распадается на массу маргиналов, организованный, но относительно малочисленный рабочий класс, все более разрастающийся средний класс.
Эта социальная структура кажется абсолютно безопасной. Рабочий класс перестает быть «опасным классом» просто потому, что в жизненных центрах системы его становится мало. Рабочие уже не могут захватить власть в Берлине или Париже, ибо не составляют там большинства. Маргиналы могут взбунтоваться, но бунт– не революция. Его может разогнать полиция.
А поскольку маргиналы зачастую еще и инородцы, мигранты и нелегалы, их легко можно самих сделать козлами отпущения, обвинить во всех бедах общества, натравить на них крайне правых. Неофашистские партии вновь становятся востребованы, получают финансирование и доступ к средствам массовой информации. Однако в отличие от 20-х и 30-х годов XX века правящая элита вовсе не собирается допускать крайне правых к власти. Такая опасность возникает лишь тогда, когда традиционные господствующие классы смертельно напуганы и не видят иного способа остановить революцию. На сей раз страх перед революцией преодолен. Однако ультранационалистические организации приобретают новую роль – теперь уже в качестве элемента социального контроля. Терроризируя инородцев, они поддерживают сложившийся этно-социальный порядок, не давая культурному конфликту перерасти в классовый. Пусть левые и политкорректная интеллигенция мобилизуются для противостояния националистам. До тех пор, пока подобное противостояние носит сугубо «культурный» характер, оно не опасно для системы.
Часть 2 Постиндустриальная революция
Культурная стандартизация
Культурная стандартизация не сводима к «американизации». Но в основе ее лежат именно американские нормы и правила. Дело не только в том, что Голливуд вытесняет, например, национальную кинопродукцию, но и в том, что любые успешные альтернативы Голливуду создаются по тем же меркам. Для того чтобы национальные культурные продукты окупались и приносили настоящую прибыль, они должны успешно продаваться на американском рынке и на глобальном рынке, подчиненном голливудским стандартам. Чем больше стандартизируется культура, тем больше она превращается в разновидность бизнеса, тем больше ее создатели и потребители оказываются заложниками корпораций.
Культурная стандартизация происходит не впервые в истории. В конце концов уже эллинистический мир являл собой пример того, как нормы, первоначально сложившиеся в мире древних греков, проникли в Египет, Персию, а затем, вместе с римскими легионами, распространились по всей Европе.
И все же масштабы нынешней культурной интеграции беспримерны. Средний класс в странах периферии всегда был ориентирован на нормы и правила стран центра. Еще в XIX веке, после восстания сипаев в Британской Индии, колониальные власти поставили своей целью создание там среднего класса, который, будучи индийским по крови и цвету кожи, будет британским во всем остальном. Колонизаторы преуспели в этом, хотя победа оказалась пирровой: через некоторое время колониальный средний класс, усвоивший европейские понятия о правах и свободах, стал требовать политической независимости.
В конце XX века победоносный транснациональный капитал повторяет ту же операцию в масштабах планеты. Зависимые страны получают новый средний класс, по культуре и образу жизни принадлежащий Западу. Лидеры западных держав и транснациональных компаний убеждены, что этот средний класс станет их опорой «на местах», проводником их интересов, а заодно и резервуаром кадров для корпораций. Ведь перед ним открывается беспрецедентная перспектива социальной мобильности. Усвоив определенные нормы поведения, выходцы из стран «периферии» могут сделать карьеру в мировых столицах, попасть в руководящие органы международных финансовых институтов, а если особенно повезет – войти в правление фирм с громкими именами. Разумеется, подобный успех достается единицам из миллионов, но он становится символом новых возможностей, открытых для многих.
Американский социолог Билл Робинсон, описывая эволюцию правящих элит в Латинской Америке 90-х годов, обнаружил возникновение нового класса – транснациональной буржуазии. Ее власть и собственность уже неотделимы от власти и собственности глобальных корпораций, ее процветание напрямую зависит от состояния мирового рынка. Транснациональная буржуазия воспринимает себя не как элиту своей собственной страны, а как часть глобального правящего класса, кровно заинтересованного в том, чтобы «своя» страна, не дай бог, не выбилась из общего ряда, не отклонилась от «единственно верного пути». Это ударный отряд крестоносцев «мировой цивилизации», непримиримых к любым проявлениям самобытности и свободомыслия. В отличие от прежних элит, тесно связанных с национальной культурой, традициями и образом жизни, новая транснациональная элита воспринимает себя скорее как часть мирового правящего класса. Местная принадлежность для нее – случайное, второстепенное обстоятельство. Ее капитал и бизнес неотделимы от транснациональных корпораций, штаб-квартиры которых находятся за тридевять земель. Эти люди возглавляют местные отделения транснациональных компаний или имеют собственные фирмы, являющиеся формально независимыми, но по существу превратившиеся в филиалы тех же международных гигантов. Они вовлечены в глобальные финансовые спекуляции. Предел их мечтаний – должность в головной конторе корпорации где-то в Нью-Йорке или в Лондоне, а заодно и небольшая доля в ее огромной собственности.
Стиль жизни транснациональных элит мало меняется от того, базируются ли их представители в Лондоне, Лусаке, Москве или Буэнос-Айресе. В известном смысле «периферийные» столицы даже лучше. Даже в самой нищей стране Африки есть несколько столичных кварталов, с бутиками и ресторанами, ничем не уступающими парижским. Другое дело, что в нескольких сотнях метров начинается совершенно иной мир, в котором кусок мыла может быть предметом роскоши (и в этом отношении ситуация стала несравненно хуже, чем два десятилетия назад). Но соседство двух миров далеко не всем кажется проблемой. Ведь до тех пор, пока жители нищих кварталов ничего не требуют политически, они остаются лишь дешевой и доступной рабочей силой. Значит, жители «благополучного» мира получают все услуги гораздо дешевле, нежели их «братья по классу», живущие на Западе.
Однако для того, чтобы транснациональная буржуазия могла эффективно управлять, ей нужны массы, разделяющие те же ценности, но куда более укорененные в повседневной жизни собственной страны. Короче, ей нужен такой же глобальный средний класс.
В конце 1980-х и первой половине 1990-х годов «социальный проект» транснационального капитала можно было считать блистательно удавшимся. Новый средний класс не просто формировался на «периферии», не просто усваивал западную культуру и ценности, он воспитывался в духе высокомерного презрения к «отсталым» местным массам, старшему поколению, «не умеющему адаптироваться к новой жизни», традиционной культуре и национальной истории, оказавшейся «на обочине мирового процесса». Отвергнув ценности народнической интеллигенции, он отождествлял себя с элитой, противопоставляя себя «маргиналам». В Восточной Европе и Латинской Америке этот средний класс воспринимал себя как опору рыночных реформ. Он искренне верил в собственную избранность.
Его идеология и самооценка основывались на банальном принципе: средний класс – фактор стабильности. Политики как заклинание повторяли: увеличивайте средний класс, и общество будет стабильнее. Более того, они сами в это верили.
Средний класс наслаждался новыми возможностями, вступая в «мир развлечений», и, вопреки пророчествам скептиков, не испытывал ни малейшей скорби по поводу утраченного. Он воспринимал свои достижения как безусловно заслуженные: мы самые умные, самые компетентные, самые адаптивные. Короче, будучи лучшими, эти люди обречены были на успех, тогда как неудачи огромного большинства соотечественников виделись закономерным наказанием за «отсталость» и «некомпетентность». Крайним выражением этой идеологии стало заполнившее русскую речь словечко «совок», призванное характеризовать все черты советской жизни и поведения, оказавшиеся препятствием для достижения успеха в прекрасном новом мире. Презрение к «совку» стало основой морали и идеологии среднего класса.
Будущее представлялось как постепенное изживание «совка», за чем последует неизбежное процветание и превращение большинства населения страны во все тот же средний класс по западному образцу. Утопичность подобной перспективы на первых порах ускользала от сознания. Поскольку именно сверхэксплуатация «периферии» создает возможность поддерживать стабильность в «центре», средний класс в «незападном» мире обречен оставаться меньшинством, по крайней мере, до тех пор, пока господствуют принципы неолиберального капитализма. Возникало неразрешимое противоречие. Объективная реальность не оставляла никаких шансов на развитие среднего класса, а идеология требовала его неуклонного расширения. Но, хуже того, поддержание подобных идеологических иллюзий являлось одним из главных условий жизнеспособности системы.
Для того чтобы себя поддерживать, система должна себя постоянно подрывать. Стратегия расширения среднего класса оказалась для неолиберального капитализма бомбой замедленного действия.