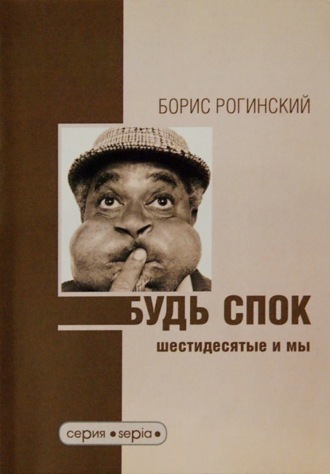
Борис Рогинский
Будь спок! Шестидесятые и мы
© Рогинский Б., 2019
© «Юолукка», 2019
От автора
Глен Гульд в белой рубашке с расстегнутым воротом наяривает IV контрапункт, мурлыча мелодию себе под ноc. В беззвучном парке ветер, любовники целуются, из кустов на них направлен пистолет. Голявкин с башенного крана над Каспийским морем рисует «Город на эстакаде». Военная переводчица Татьяна Левина гибнет в камышах на китайской границе. Джеральд в коротких штанишках покупает у грека бронзовок на ниточках. Кудрявый шут выпучивает глаза и приставляет флейту к причинному месту. Патефон играет танго: «Ты меня ждешь, ты у детской кроватки не спишь», террорист в темных очках поднимается по скрипучей лестнице. Работница Пушкинского музея спускается к пристани на Мойке и садится в лодку. Тосиро Мифуне бросает кинжал и пригвождает к стенке убегающий осенний листок. Ты что, не слышишь, как дождь кац-кац по пожарной лестнице, жизнь может быть такой сладкой, пьянее, чем вино. Летчик накануне катастрофы пьет компот, косточки от чернослива выкладывает в форме эскадрильи. Вдрызг пьяный ветеринар принимает роды у коровы, ливень, хозяин-сектант держит над ним кепку. Рид Грачев рисует красные кружки на полях ультиматума. Четверо юношейв черном скачут, как оголтелые вороны, по газону. Герману Лопатину заламывают руки на Невском и подсаживают в пролетку. В Тарту солнечно, студенты угощают ленинградок бутербродами с килькой и смеются. Брат Лев отстал, он засмотрелся на зеленую звезду, а мальчики, бросаясь снежками, вбегают в капеллу.
* * *
Шестидесятые? Не совсем точно. Во-первых, хронологические границы не совпадают, началось чуть не в сороковые, а когда кончилось? В 64-м? В 68-м? Или, наоборот, тогда все началось? Во-вторых, само это слово обросло чем-то не тем, как днище старого судна.
К нему прилипли постоянные эпитеты, из которых самый невинный: «наивные». Ну да, девяностые – лихие и т. д. Нельзя ли взглянуть по-другому? За полвека до календарного наступления эпохи, о которой речь, поэт (мог ли он думать об этом?) определил ее и ее героев:
Вот ворона на крыше покатой
Так с зимы и осталась лохматой…
А уж в воздухе – вешние звоны,
Даже дух занялся у вороны…
Вдруг запрыгала в бок глупым скоком,
Вниз на землю глядит она боком:
Что белеет под нежною травкой?
Вот желтеют под серою лавкой
Прошлогодние мокрые стружки…
Это все у вороны – игрушки.
И уж так-то ворона довольна,
Что весна, и дышать ей привольно!..
Эта лохматая с зимы ворона (похожие на нее люди, музыка, книги, фильмы) – первый и главный предметпредлагаемых читателю заметок. Отец говорил автору в свое время: «Ты шестидесятник». Автор, конечно, им не был, хотя весьма хотел. Не хватало легкости и энергии, открытости и ясности, безоглядности. Его герои, этой и прошлых книг, за редкими исключениями, связаны с этой эпохой: Юлий Даниэль, Домбровский, Окуджава, Рид Грачев, Татьяна Галушко, Лев Васильев, Юрий Давыдов, Ян Андерсон, Василь Быков, Олег Охапкин. Речь идет не только о наших, ну хорошо, назовем их так, шестидесятых, но и о западных, где, как и у нас, многое в 68-м, вопреки распространенному мнению, только началось. Первый альбом «Джетро Талл» и «Глухая пора листопада» вышли как раз тогда, а первая книга Хэрриота и «Смуглая леди» Домбровского – в 69-м. И так далее.
Кто такие – люди шестидесятых? Это ведь и «колокольчики», в рейдбригадах ловившие хулиганов и верившие в Маркса и Бернштейна, и Рихард Васми с Жорой Фридманом, в те же годы хилявшие по Сифилис-стрит и Триппер-штрассе в канадских куртках и ботинках-говнодавах, верившие в Хлебникова и Диззи Гиллеспи.
Это и Виктор Клемперер, умерший стариком в 60-м, и в том же году отчисленный из Орехово-Зуевского педагогического института Венедикт Ерофеев. Это и воевавшие Окуджава и Роальд Даль, и видевшие войну во младенчестве Олег Охапкин и Джорж Харрисон. Важно ли, печатались ли эти люди, сотрудничали ли с режимами? Вот и Окуджава, и Клемперер, да, печатались, да, сотрудничали. И Шукшин, и Василь Быков. А вот Венедикта Ерофеева не печатали. У Домбровского напечатали один роман, а второй пришлось издавать за границей. Что ж, получается, до ввода войск в Чехословакию он, как и многие, был человеком шестидесятых, а потом перестал им быть? А все, кому жить довелось по западную сторону занавеса, а значит, проблем с цензурой было меньше? Нет, ни мировоззрение, ни возраст, ни хронология, ни география, ни возможность компромисса с властью не годятся для определения.
Человек шестидесятых – это персонаж, для которого жизнь (именно так, со строчной буквы) важнее всего, что можно написать с заглавной: Искусства, Творчества, Религии, Бога, Убеждений, Общества, Призвания, Народа, Государства… Истины. Виктор Франкл (безусловно, человек шестидесятых) даже изобрел иезуитское положение, гласящее, что создать что-либо значительное можно только, не ставя себе значительной цели, не фиксируясь на этой цели, точно так же, как заснуть можно только, не думая о том, что надо заснуть. Ага, скажете вы, а что делать с «Главное – это величие замысла»? Во-первых, это из личного письма. Во-вторых, Бродский в диалогах с Соломоном Волковым говорит противоположное: «Антигероическая поза была idée fixe нашего поколения». И поза эта, хорошо, пусть всего лишь поза, гораздо убедительнее всех котурнов, на которые столько раз вставал Бродский – для того, чтобы как раз из этого своего поколения выделиться. Вспоминая Бродского, надо сказать, что человек шестидесятых, вопреки распространенному мнению, – одиночка, сколь бы ни были важны для него связи с людьми. Он никогда не может принять одну из сторон, неважно – две их или несчетное количество. Для него любая война – гражданская, то есть та, на которой нет правых и виноватых. Именно поэтому «я все равно паду на той, на той единственной гражданской». Эти пыльные шлемы, конечно, из Платонова и Петрова-Водкина, их переживание истории отчасти породило шестидесятые у нас: история трагична. Человек со своей человечностью один перед ее железным лицом. Ему не за что спрятаться, он должен противостоять ужасу жизни один. Отсюда постоянное ощущение тревоги. Шаламов был человеком шестидесятых годов, а Солженицын, на взгляд автора, – нет. Последний знал, за кого и за что надо воевать. Первый верил только в себя и в свою память, он был, как мы знаем, «участником последней великой проигранной битвы». Как тут не вспомнить беднягу Мачека, убитого в первое утро после победы. Чьей?
Человек шестидесятых состоит из времени, разума и любви. Или иначе: из памяти, решимости и отчаяния. И смеха, конечно. Все. Об этом читай у Лема: «Извечная вера влюбленных и поэтов в силу любви, которая переживает смерть, это преследующее нас столетиями finisvitaesednonamoris – ложь. Однако эта ложь всего лишь бесполезна, но не смешна. А вот быть часами, отмеряющими течение времени, теми, что поочередно то разбивают, то собирают снова и в механизме которых, едва конструктор впихнет в них колесики, вместе с их первым движением начинает тикать отчаяние и любовь, знать, что ты репетир муки, тем глубочайшей, чем она от многократного повторения становится комичнее?» (финал «Соляриса», 1960).
Человек шестидесятых поставил жизнь на карту. Так что ж, проиграл? «Старик, ты гений!» Оказалось, что не факт. Поэтому и Хэм, и Сент-Экз, и Сэл, и кто там у них еще был? Тот же Лем? Вайда? Камю? – все они всего лишь экспонаты чужой наивности и сентиментальности? Пусть так. Кто знает. Да и важно ли это?
Второй предмет этой книги составляет судьба поколения, к которому принадлежит автор. На этих людей (родившихся на рубеже шестидесятых – семидесятых) нельзя не смотреть с определенным скепсисом. Судьба их вообще должна была сложиться довольно счастливо. Их юность пришлась на 87–93-й годы, и, что бы кто ни говорил – автор и сам брезглив – а все же это было время свободы, и свобода определила лицо поколения. Все это символически кончилось, когда жизнь вступила в новое тысячелетие. Если точнее, у нас на год раньше (Вторая Чеченская война), на Западе – на год позже (атака на небоскребы). И не эпоха виновата, что поколение автора не нашло себе места в ней. Впрочем, и поколение тоже не виновато. Похожим образом сложилась судьба «детей революции» – родившихся в 1890-е и оказавшихся не у дел в год великого перелома, кто чуть раньше, кто чуть позже. Но тем было что сказать напоследок: «Зависть», «Чевенгур», «Смерть Вазир-Мухтара», «Четвертая проза», «Город Эн», «Виктор Вавич»… Сверстникам автора сказать нечего. Среди них много талантливых, но нет гениальных. Им нечего предъявить миру, кроме совершенно особенного типа личности. Типа, настаивающего на своей независимости? – нет, вряд ли. Самостоятельности? Нет. Небанальности? Неточно. Праве, только праве на небанальность. Этот тип с любовью и тревогой изображен в романе Мариам Петросян, которому в настоящей книге посвящена «Палочка за всех». Да, среди них много просто кайфодеров, но все-таки больше эскапистов.
Кто бежит от хандры, как Онегин, кто от ожившего истукана, как его бедный тезка, кто в Америку, как Свидригайлов, кто в науки – по следам крыловского философа, кто в семью, или нет, точнее, в искусство – по следам Позднышева. Вообще воронья эпоха нравилась поколению автора. Он отлично помнит, как сам он, в бакенбардах, шейном платке и вельветовом пиджаке сидит в фундаментальной библиотеке Герценовского пединститута и читает Шпенглера. Или Рескина. И многие его друзья были такими: жили, как будто рядом нет ни Кинчева, ни Горбачева, ни Цоя, ни Ельцина, ни Бутусова, ни Гребенщикова: слушали почти то же, что и их ровесники – герои Мариам Петросян: «Прокол Харум», «Дженезис», «Кинг Кримзон», «Пинк Флойд» (до 69-го года), уже упомянутых «Джетро Талл», «ЭЛП», «Вельвет Андеграунд» и так далее. Кто-то вообще предпочитал оперу. Не чуждались психоделического опыта. Они не хотели жить в своем времени, в том, что у Мариам Петросян называется «наружностью», не были приспособлены к нему. Это белоручки, не готовые даже к самым простеньким компромиссам, не по нравственным, а по эстетическим соображениям.
Бегство – не поступок. Что же в нашей современной действительности – поступок? И что это за действительность, в которой поступок так мучительно сложен? О поступке первым задумался Рид Грачев (ему посвящена открывающая эту книгу работа). Проблеме действительности и поступка посвящены «Разговоры после времени» о Светлане Алексиевич. В конце книги автор уже на основе собственного опыта пытается ответить на эти же вопросы («Не расскажу, что там я видел…»).
Важен вопрос о стиле. Стиль – не только тип самосознания и способ самовыражения, но и вопрос адресата, собеседника, которого мы выбираем. Вопрос Другого, да, того Другого, что с заглавной буквы. Люди все более или менее одинаковы, и порой кажется, что нужно искать новых слушателей. Единственного подлинного Другого автор нашел средиживотных. С них (если не считать отпечатков руки) началось искусство. Для них играл Орфей. Об этом – звериный цикл диалогов. Тут не отказ от человеческой аудитории или пренебрежительное к ней отношение. Нет, просто для того, чтобы говорить с людьми, нужно побывать в зверином обществе.
Также хотелось бы объяснить, как в этой книге понимается объективность. Это не абстрагирование от материала, это абстрагирование от себя. Критик должен умереть в том, о чем он пишет. Критик не должен навязывать свои вкусы и свою философию тем, кто ему нравится, и обвинять тех, кто ему не нравится из-за несхожести мировоззрений. Критик должен обладать радио-протеевскими качествами, ловить волну своего героя и стараться вещать где-то на соседних частотах. Ни в коем случае критик не должен задаваться вопросами: Толстой или Достоевский, Брюсов или Бальмонт, Мандельштам или Пастернак, Ахматова или Цветаева, Солженицын или Шаламов и т. д. Это как кого ты больше любишь – папу или маму. Конечно, для себя втихомолку можно решить кое-какие из этих вопросов, но не выносить на суд публики. Автор вообще писал только о тех, кто ему близок и кого он любит, о других ему скучно.
В поисках стиля и объективности чего только не перепробуешь. Например, что, впрочем, и не ново, стилизовать свои работы под речь их героев. Так возникли публиковавшиеся в предыдущих сборниках, но включенные для полноты картины в этот работы «Письма заложникам» и «История паруса». Можно также ввести несколько разных голосов, чтобы ничего никому не навязывать. Так были придуманы четыре звериных диалога, «Палочка за всех» и «После времени». Еще в книгу включены более или менее академические статьи о Роальде Мандельштаме и Льве Василеве, впервые опубликованные как послесловия к их сборникам; две краткие рецензии – на прозу Бориса Иванова и Самуила Лурье (обоих уже нет, но в рецензиях сохранено настоящее время, это как бы из диалогов в царстве мертвых); сообщение о невозможности интерпретации самого любимого автором стихотворения Олега Охапкина – и все это тоже были поиски того, как писать и к кому обращаться. Было бы со стороны читателя очень гуманно отнестись к подобным экспериментам снисходительно и со вниманием, так как вопросы стиля и объективности действительно первостепенны.
И последнее. «И ведь тоже думал: обломаю много дел, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану». Что может помочь именно сейчас не вилять хвостом перед лицом неизбежного – неважно, смерть это или так называемый дух времени? Здесь мы возвращаемся к эпохе, задавшей тон этой книге. В многоумном докладе Бориса Останина и Александра Кобака она названа эпохой молнии в противоположность последовавшей за ней эпохе радуги. Так вот в эпоху молнии (или вороны) сверстники автора еще даже не совсем родились. Они были тогда задуманы. Их воспитывали по книге, написанной в 46-м году, но вышедшей у нас в 61-м и переизданной накануне рождения автора – в 71-м. Это было творение доктора Бенджамина Спока, борца против ядерного оружия, войны во Вьетнаме, за легализацию марихуаны и абортов, и, кажется, помогавшего призывникам откосить армию. Книга называлась «Ребенок и уход за ним».
«Я боюсь причинить ему боль, если я буду обращаться с ним неправильно», – так часто говорят молодые матери. Не волнуйтесь! Ваш ребенок гораздо крепче, чем вам кажется.
Надо помнить, что вы давали ребенку свеклу, чтобы не волноваться зря и не думать, что это кровь.
Я думаю, в первые 2 месяца можно совершенно не волноваться относительно избалованности.
Пусть вас не волнует, если кукла испачкается или истреплется. Помойте, почистите ее, но не выбрасывайте из гигиенических соображений.
Если ваш ребенок проглотил какой-нибудь гладкий предмет типа сливовой косточки или пуговицы, вы можете не волноваться.
И т. д.
Оттуда, с солнечной стороны улицы, ворона косит глазом на стружки, а доктор – друг симулянтов – как подмигивал родителям, так подмигивает теперь и детям: да, пусть жизнь стократ пуста, бездумна и бездонна, вы-то совсем не беспомощны! Не забывайте, откуда вы родом!
Было такое выражение: «Будь спок». Не к той ли самой книге оно восходит: если что, не волнуйтесь. Пусть вы доверяете только своей тревоге, только не давайте ей сковать вас. Самое первое, самое главное: возьмите себя в руки. Попытайтесь осмыслить. А потом можно и действовать.
Эпоха та

Тревога[1]
Вдруг он принялся ходить из угла в угол, и это было его удачей: он двигался по комнате в точности как арестант, ему удалось подобрать верную аналогию к своему положению. <…> Он расхаживал взад-вперед по комнате и ждал, что произойдет с ним в итоге этого самостоятельного поступка.
Из угла комнаты, оклеенной красными обоями, кое-где порванными, на нас идет человек. Фигура подростка. В серых брюках и белоснежной рубашке, с закатанными рукавами. Тень от его спины и отогнутого большого пальца – рука у рта, с сигаретой – растет у него за спиной. В чуть сощуренных глазах – вопрос, ирония, пожалуй, боль, но прежде всего – сосредоточенность. На том, что он видит перед собой? Ни в коем случае. На том, что внутри, – не похоже. Нам этого не разгадать. Возможно, единственная цветная фотография Рида Грачева. Конец шестидесятых. Одна из последних фотографий, где мы видим его таким, каким знали его друзья. Скоро Рид Грачев перестанет писать прозу, эссе и стихи. Останутся только два рассказа, над которыми он работал десятилетиями, диалоги с лечащим врачом, протесты, заявления, открытые письма. И рисунки. Кажется, Рид Грачев отлично знал тогда, что с ним происходит. Он стремился оставить четкое свидетельство, осмыслить то, что же все-таки с ним произошло, в чем причина – в общем ходе вещей или в его собственных поступках.
«Помидоры», один из самых ранних рассказов, 1959 год:
Затем она стала подбрасывать помидор в воздух. Алый шарик взлетал над прилавком, блестя глянцевитым боком. Тень прятала женщину. Казалось, помидор подпрыгивает сам.
…Мужчина вылез из машины и подошел к женщине. Она что-то сказала ему…Он ударил ее по лицу. Женщина отступила, стараясь не наклонить ведро. Тогда он ударил ее еще раз. Женщина поскользнулась и упала. В руке она держала ручку ведра. Она не выпустила ее при падении… Помидоры покатились по колее. Из рыжей воды торчали их алые макушки. Женщина встала на колени в грязь и стала собирать помидоры. Она вытирала их подолом, обнажая розовую некрасивую ногу, и осторожно опускала в ведро. Мужчина стоял сзади и смотрел на нее.
«Облако». Поранив руку, рабочий впервые начинает смотреть в небо:
Иван пошел по тротуару из досок к своему дому. Теперь он увидел солнце слева. Оно было красное, плоское и заметно опускалось за лес на горе. Ивану показалось, что солнце вертится быстро-быстро, и там, где к нему прикоснулся резец, вьется тонкая красная стружка. Потом Иван увидел, что солнце зажато в патроне, в черном патроне, но догадался, что это у него темнеет в глазах.
«Адамчик». Цех мебельного завода:
Пружины качались, немо разевали рты. Низенькие, высокие, кривые, прямые пружины уползали в красных вспышках сигнальной лампы, и Адамчик набрасывался на следующие <…> Белая стрелка на щите двигалась чуточку быстрее, и чуть чаще вспыхивали красные сигнальные лампы <…> В этом расстоянии умещалось тридцать матрасных рамок и много женщин вдоль конвейера, сигнальный щит с белой стрелкой и тревожные вспышки сигнальных ламп.
«Снабсбыт». Кошмар командировочного:
Снабсбыт ехидно засмеялся и начал краснеть. «Только не краснейте, – сказал Мухин, – а то я…» Стало темно, только светилась сигарета Снабсбыта. Мухин заметил, как из-за самого Снабсбыта выходят еще двое с сигаретами в губах, и сказал, тяжело двигая языком: «Часы у меня уже сняли тот раз… у «Великана»… Разве не помните?» Его ударило в лоб, наискось.
Письма Рида Грачева рубежа шестидесятых-семидесятых годов. Письма друзьям, страшные, ультимативные: ты борешься вместе со мной или участвуешь в круговой поруке против меня, против жизни, против человечности:
Я не сплю уже около 600 суток, давая повод лечить меня от бессонницы или же от психических расстройств, вызванных ею. Но, страдая от невыспанности, от усталости, от физического недомогания, я не страдаю морально, не страдаю духовно, не повредился ни в рассудке, ни в чувствах. И не потому, конечно, что я не сплю. Я не сплю оттого, что здравому человеку свойственно в подобной обстановке бодрствовать даже и в ущерб здоровью, а обстановка эта заключается в том, что среда наша с тобой общая – а она не бескультурна, скорее, наоборот, культурна – состоит из бессовестных людей.
Жестокие слова. А по краям – совсем не суровые, печальные рожицы, наверное, маленькие автопортреты, нарисованные алым и черным фломастерами.
Красные обои. Красный фон.
Да, здесь идет речь лишь о красном цвете, не о судьбе, не о так называемом художественном мире, не об эволюции, не о философских взглядах, не о литературном контексте, не об эпохе. Этот красный цвет тревожит, увлекает – куда? О чем предупреждает? Или это просто случайная выборка? К внутреннему миру Рида Грачева, к его сочинениям подходить очень страшно. В одном из эссе он рассказывает об авторе, принесшем в издательство рукопись.
«– А вы от кого?» – осведомились там. «Как от кого? Я от себя». – «А мы от себя не принимаем». Рукопись, однако, прочли, она понравилась, но напечатать ее так и не удалось, несмотря на заступничество многих заметных в культурелюдей. Автор перестал писать и умер. История прямо из Хармса. Но в чем же дело?
Разумеется, если бы все заступники этого литератора отстаивали именно тот угол зрения, с которым он писал, если бы они потрудились его осознать, никакие секретарши и прочие камни преткновения перед этим бы не устояли. Но они отстаивали его творчество не в его основе, а поскольку оно им нравилось. Неубедительность аргументов защитников привела к гибели художника.
Вот с этого страха мы и начинаем. Понять не то, что нам и так понятно, близко в Риде Грачеве, а то, что он хотел сказать миру «от себя» – вот нелегкая задача составителей книги. В те же годы, когда писал Рид Грачев, Юлий Даниэль в письмах из лагеря непрестанно молил своих корреспондентов: «Не выдумывайте меня!».
С чем шел к людям Рид Грачев? Именно из осмотрительности, чтобы не выдумывать писателя, начнем с того, что просто бросается в глаза, с чем можно быть простым зрителем, читателем. С цвета – просто цвета.
«Помидоры» – это немой цветной фильм. Сюжет его примитивен: муж привозит на «Москвиче» жену, та садится в ларек и пытается продать помидоры. Они прекрасны – просто золотые яблоки. Но находится всего один покупатель. Жена аккуратно складывает помидоры в пирамидки, играет с ними. Так продолжается несколько дней, наконец приезжает муж, пьет водку, бьет женщину, и они уезжают. Этот рассказ едва ли не самый таинственный у Рида Грачева. Эстетства тут никакого нет, слишком напряженно и драматично. Но и конфликт вроде бы ни нравственный, ни социальный не занимает автора. Возвращаясь год от года к этому рассказу, все яснее понимаешь: ужас просто в том, что никто из людей здесь никому не нужен. Не нужны и золотые плоды. Муж бьет жену просто так. Все случайно. В этом немом мире нет никаких связей между людьми и природой. И чем прекраснее плоды, тем очевиднее это тоскливейшее, почти платоновское одиночество всего на Земле. Это не концепция, иллюстрируемая рассказом, не «то, что хотел сказать автор», во всяком случае, отделить переживание красного цвета от тревоги за мир людей невозможно.
Но не будем наивны. Рид Грачев и в 59-м и позже был человеком мысли. Больше, чем его сверстники, он испытывал жажду осмысления. Об этом говорят его философские эссе. Есть, правда, представления о так называемых этапах творчества: сначала рассказы и стихи (1958–1965), потом переводы (1964–1966), потом эссе (1965–1969). Но работа с архивом писателя говорит, что все было не совсем так. Большинство рассказов и эссе писались одновременно. Работе же над переводами (Камю – «Миф о Сизифе», Сент-Экзюпери – «Южный почтовый», «Письмо заложнику») предшествовало долгое и внимательное чтение. Так что разделить творчество Рида Грачева на «до-рефлексивный» и «рефлексивный» периоды невозможно. Рассказы и эссе, «творчество и понимание», как обозначил их сам писатель, были не этапами, а нераздельными составляющими его пути. Как же все это соединить, не опошлив рассказы моралью, а эссе – желанием автора разъяснить содержание рассказов?
В «Облаке» красное солнце – зловещий и одновременно радостный образ пробудившегося сознания. Радостный – потому что Иванов очнулся от автоматизма своего существования, стал жить – чувствовать (пока еще не думать), как живой, подлинный человек. Зловещий – потому что его сочтут безумцем. Да может быть, и не без оснований, слишком уж много сразу ворвалось в его примитивное сознание, и еще неизвестно, сумеет ли оно справиться с этим.
В «Снабсбыте» краснеющее лицо директора и фантастического Снабсбыта, огоньки сигарет – воплощениестрахов героя, от которых ему предстоит избавиться на пути к вочеловечению.
В «Адамчике» вместе с красными лампами в мир едва родившегося для жизни среди людей, доверчивого к миру, постоянно всему удивляющегося человека, клубка нежности и агрессии, – приходит время. Это не внутреннее время души, а время конвейера, пустое и механическое. Время человечности, событийности еще не настало, пока – лишь мертвящий белый циферблат и беспокойные, требовательные лампы. Против такого времени бунтует юный автобиографический герой в рассказе «В пятьдесят втором году». Его злой воспитатель Темп (говорящее имя!) дарит ему карманные часы, но герой отказывается их носить, вешает их на окно в комнате дарителя, а потом роняет и разбивает, вызвав бешенство Темпа. А в «Буднях Логинова» опустошенному, при жизни почти умершему герою снится сон с десятками остановившихся наручных часов, будто бы взывающих к его жалости. Душа пробуждается, но шанс подлинного времени уже упущен.
Разрушение всех связей между людьми и изувеченное время («Я вспомнил: «Thetimeisoutofjoint», – распалась связь времен, свихнулось время, время вышло из сустава, оно вывихнуто») – едва ли не главные темы эссе Рида Грачева: «В момент, когда я пишу эти заметки, более, чем когда-либо я чувствую, что наступила полная эмоциональная смерть мира… Безлюбие – вот то состояние, которое мы теперь достигли».
Утрачено сознание. Утрата сознания – и отдельным человеком, и обществом равнозначна остановке времени. Остановилось время, наступило безвременье. То, что в плане индивидуальном проявляется как безлюбие, на уровне общества оказывается безвременьем. Безлюбие и безвременье – вот практические результаты двух третей двадцатого столетия.
(«Реальность человека»)
Кажется, красные всполохи в прозе Рида Грачева – тоже об этом.
Ну и что? Установили параллель между прозой и публицистикой – подумаешь! Но дело в том, что это не параллель. Это нераздельное единство – пусть здесь лишь на одном примере.
Но вот еще один. В эссе «Значащее отсутствие» писатель говорит о тех вещах, которых уже нет (от выбитого зуба до убитого философа), – лишь на памяти о них держится современное общество. Для Рида Грачева сознание «значащего отсутствия»– это совесть. Потеряв ее, точнее, память о ней, человечество погибнет сначала интеллектуально, а потом физически.
Мы убрали последние мишени, и луг стал таким, каким он был сто лет назад.
Луг, на котором пасутся коровы.
Луг, над которым жаворонки поют по утрам.
Луг, под которым буравят землю кроты.
Нам хотелось так думать об этом луге. Но все мы знали, что это не так. Потому что луг пересекали заросшие травой канавы. Раньше здесь было поле. На нем рос ячмень, а по канавам бежала вода. Потом канавы заросли травой, и на поле появились ямы.
…Может быть, от первого взрыва загорелся ячмень. И когда люди бежали по полю, под их ногами горели колосья. Люди падали на горячую землю.
Потом, когда взорвался последний снаряд, стали стрелять из винтовок и пулеметов. По земле стлался дым, и пахло паленой соломой. Люди падали и не вставали больше.
Одному из них пуля попала в грудь. Он бежал и не мог остановиться. Он шагнул еще раз. Вторая пуля ударила его. Она пробила левый карман гимнастерки. Но солдат бежал, он не мог остановиться и сделал еще один шаг. И тогда его ударила третья пуля. Она летела сбоку и пробила его каску. Она ударила его в лоб, и тогда он упал.
И стало тихо, так же тихо, как было вечером последнего дня лагерных сборов.
(«Колокольчики»).
Что выросло здесь из чего: нравственное переживание из поэтического, философское из нравственного? Редко удается проследить эти пути, но почти каждый образ у Рида Грачева, если рассматривать его не отдельно, а в общем миросозерцании писателя, имеет будто бы три слоя: незамутненный, внимательный взгляд на мир – голос осмысляющей совести – рациональное осмысление проблемы. О своем творчестве Рид Грачев говорил по-разному: «Я записываю ряд своих впечатлений – и больше ничего (звукоряд… гармошка… шарманка?) – Я шарманщик!». Или: «Я обращаюсь к человеческой совести каждого причастного к литературному делу человека: речь идет не о пустяках». «– Для меня существует моя совесть, – ответил я, – и я жив, пока живет моя совесть». Ага! – сказали тут молодые писатели шестидесятых, окружавшие его и преклонявшиеся перед его талантом, – ты начинаешь чего-то требовать от нас. Требовать осмысления. Требовать нравственного суда. Требовать современности. Но не получается ли, что требования совести – просто модернизированный вариант «народности и партийности» в литературе? Известна полемика между Ридом Грачевым и Андреем Битовым. Битов писал в «Записках из-за угла» (глава «Открытое письмо писателю Р.Г. из Ленинграда»): «Мы [т. е. Р.Г. и его единомышленники. – Б.Р.], говорит он, вперед ушли, мы литературу мысли создаем, новая система координат у нас, информация-фуяция, а у тебя система координат старая, ты всечувствишки да ощущеньица, ты мертвый уже». Всей душой хочется согласиться с Битовым, который отстаивает право писателя на полную свободу и независимость, даже независимость от нового времени и от своих ближайших единомышленников. «И догонять я вас не хочу. А тем более дышать вам в затылок. Я сам себе в затылок дышу, и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гонюсь и сам от себя то отстаю, то нагоняю. Вот ведь загадка какая».
Интересно, что похожий спор, также в середине шестидесятых, происходил между Бродским и Аронзоном:
Бродский: Стихи должны исправлять поступки людей.
Аронзон: Нет, они должны в грации стиха передавать грацию мира, безотносительно к поступкам людей.
Все дело не в том, что Рид Грачев и Бродский требовали служения народу, а в том, что они не мыслили своего творчества без рациональной составляющей, а осмысляющим началом, во всяком случае, для Рида Грачева уж точно, была совесть. Он не видел возможности противопоставить художественное и нравственное, так называемое этическое и так называемое эстетическое, главное и случайное, потому что писал всегда только о главном и побуждаемый только совестью. Поэзия случайного, мимолетного, обращенного не к людям, а к себе или к Богу была абсолютно чужда ему. По-другому он просто не мог. В этом уникальность его писательского дара. И он не понимал, как могут другие писать иначе. Из этого рождалась отчужденность, которая становилась все глуше. К тому времени, когда Рид Грачев почти перестал писать, у него было немного читателей, совсем не было единомышленников, зато было множество сочувствующих. Это не могло не переживаться им как катастрофа. В конце шестидесятых катастрофа пришла и с другой стороны, но об этом позже.



