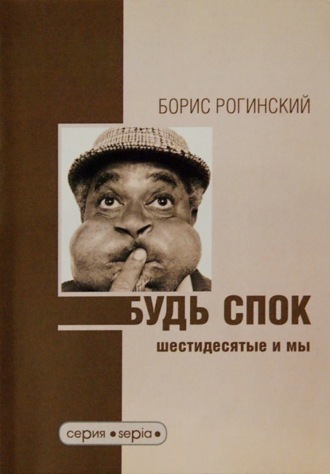
Борис Рогинский
Будь спок! Шестидесятые и мы
С мертвецами против живых
Анджей Вайда и наследие шестидесятых[3]
Последняя сцена «Катыни» скандальна. Из-за нее фильм не рекомендуют смотреть детям и даже подросткам. Из-за нее, как я подозреваю, многие поклонники Вайды посчитали этот фильм ходульным, слабым, вообще нехудожественным. Человека выталкивают из машины, накидывают на шею петлю, другим концом той же веревки связывают руки, пихают к краю ямы и пускают пулю в затылок. Так повторяется много раз почти без вариаций. Бульдозер заравнивает ров с трупами. Конец фильма. Но что еще хуже, так это металлические лотки. Старших офицеров расстреливают в подвале. Потом их трупы по этим вот лоткам вытягивают наружу для захоронения. По мне, так осклизлые кровавые разводы на металле во много раз страшнее выстрелов и даже бульдозера. Фильм кончается полным разрушением, поражением, гибелью под будто бы в издевку возвышенную музыку Кшиштофа Пендерецкого. Впрочем, в самом последнем кадре: глина из-под ковша бульдозера постепенно заваливает труп, и музыка умолкает, только рев двигателя. И никакие мужественные поступки выживших героев фильма, никакие молитвы и четки в руках жертв не меняют общего итога.
Но посмотрим на финалы других фильмов, вроде признанных безоговорочно. В «Канале» гибнет отряд: единственный выбравшийся из ада канализации поручик Заноза спускается обратно. Не так кроваво, но, быть может, еще безнадежнее. Поляков этот фильм не порадовал: они ждали увидеть героев, а увидели безумие и смерть. Последние кадры «Пепла и алмаза», если посмотреть непредвзято, по безобразию своему, и нравственному, и художественному, сопоставимы с «Катынью». Напомню: Мачек-таки убивает секретаря Щуку, когда в этом уже нет никакого смысла. Перед смертью Щука обнимает Мачека – убитый обнимает убийцу, причем ни о каком христианском прощении коммуниста Щуки, конечно, говорить не приходится, просто так получилось. Утром Мачека случайно подстреливают, и он, окрасив черной кровью простыню, сушащуюся на веревке, умирает на куче мусора, издавая при этом утробный, нечеловеческий рев вперемежку с детским плачем.
Герои (точнее, жертвы) «Катыни» гибнут, оставляя народ сиротами, оставляя по себе память, которую не прочь использовать как русские, так и немцы в целях пропаганды, а значит, это такая память, которую лучше всего утратить, чтобы не стать коллаборационистом. Чтобы не быть на подозрении у начальников жизни. Чтобы не мучиться неизвестностью или позором (повторяю, они умерли как жертвы, а не как герои).
Тема сиротства звучит и в «Пепле и алмазе». Мать-родина не признала Мачека: все помнят, что темные очки он носит в знак неразделенной любви к ней. Его отцом мог бы стать Щука, ведь реальный, несимволический сын Щуки Марек из того же отряда Волка, что и Мачек. И на свидание с ним идет Щука, когда Мачек стреляет в него. Предсмертные объятья, мне кажется, и означают эту отцовско-сыновнюю связь. Так Мачек становится круглым сиротой.
Сиротство было уделом и самого Вайды, и его поколения: это его отца убили в Катыни или Харькове, и всю жизнь Вайда готовился к этому фильму, собирал свидетельства, обдумывал, примеривался, рос. И дело тут не только в Польше: поколение военных детей и подростков в Советской России тоже росло без отцов: сгинувших кто на войне, кто в лагере, а зачастую и без матерей. Мне кажется, именно поэтому так остро и ясно воспринимаются фильмы Вайды у нас. По крайней мере, воспринимались в шестидесятые. Но дело не только в том.
Еще один сирота военной поры, Рид Грачев, писал:
Ничто не возникает из «ничего». <…> Выбитый зуб – это пример значащего отсутствия. Причем это не формальный пример: убитый мудрец – это тоже пример значащего отсутствия. И убитый отец, и убитая мать. И убитый ребенок. И вырубленный лес, и пересохшая река… Значащее отсутствие есть отсутствие какого-то присутствия, то есть явления или элемента, без которого жизнь была бы немыслима, невозможна.
Безотцовщина на обломках человечности, среди провалов и пропастей, между канализацией и железнодорожной свалкой – судьба этого поколения. По Риду Грачеву, отвернуться, забыть, что были отцы, что была интеллигенция, была свобода совести, было право на жизнь, был поступок, была история, состоящая из этих поступков, – забыть, потому что «надо жить дальше», это и было главным искусом военных сирот. «Как только мы сделаем вид, что ничего такого не существует и не нужно, наш мир полетит ко всем чертям», – писал он. Не об этом ли «Катынь» («– Так ты что же, с мертвецами против живых? – Нет, я с убитыми против убийц».)? Не об этом ли «Пепел и алмаз», заглавное стихотворение которого я позволю себе напомнить, хоть его вроде все и знают, и пусть это не лучший перевод, но именно он звучит в фильме:
Когда сгоришь, что станется с тобою:
Уйдешь ли дымом в небо голубое,
Золой ли станешь мертвой на ветру?
Что своего оставишь ты в миру?
Чем вспомнить нам тебя в юдоли ранней,
Зачем ты в мир пришел? Что пепел скрыл от нас?
А вдруг из пепла нам блеснет алмаз,
Блеснет со дна своею чистой гранью…
Это не просто о том, какую память по себе оставит человек: ради такого не стоило бы и фильм снимать. Это именно о значащем отсутствии, пробоинах в жизни, которые человек должен закрывать жизнью, разумом, телом. Как Мачек, как Щука, как поручик Заноза, как гибнущий хор Катыни.
Сама Польша, страна, не раз исчезавшая с карты Европы, сделалась как бы воплощением идеи значащего отсутствия:
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
Эссе Рида Грачева было написано в середине шестидесятых, и это тоже не случайно. «Пепел и алмаз» только предчувствует катастрофу, «Катынь» подытоживает ее смысл. Между ними – посередине творческого пути Вайды – «Всё на продажу», фильм о человеке, который исчез. Он начинается там, где кончается «Пепел и алмаз», но только здесь гибнет не персонаж, не герой, а актер, то есть сама возможность появления героя. Фильм о том, как жить без Збышека: как снимать фильм, как смотреть друг другу в глаза, как делать вполне обычные вещи: как, например, кататься зимой на карусели – без Збышека. Мир «Пепла и алмаза»– пусть и хрупкий, но цельный, и смерть героя эту цельность только утверждает. Мир «Всё на продажу» расползается. Его нечем скрепить. Даже волей режиссера. В этом чувстве пустоты есть свое жутковатое очарование. Актеры, режиссер и все остальные здесь играют самих себя, и поэтому никакая художественная истина, никакой катарсис не может вытянуть зрителя из засасывающей воронки. Но, конечно же, Вайда не был бы Вайдой, если бы оставил нас без надежды: в конце фильма Даниэль Ольбрыхский все-таки находит в себе мужество играть того, кого должен был играть Збигнев Цыбульский, так же, как Мачек встал под огонь на место Щуки. Фильм возвращается из небытия.
Покуда мы говорили только о России и Польше, но ведь в шестидесятые, прославленные теперь как самая беззаботная и полная надежд эпоха, холодком пустоты веяло отовсюду. Холодок этот рождал гибельный азарт, в самых крайних своих проявлениях поднимающийся до дерзости героев античной трагедии. «Всё на продажу» вышел в 1968, «Блоу-ап» Антониони – двумя годами раньше. Фотограф, случайно ставший свидетелем убийства в ветреном тревожном лондонском парке, пытается докричаться до людей, рассказать им о преступлении, заснятом им на пленку, но мало того, что совершенно безуспешно, наутро он приезжает в парк и не находит тела, вся пестрая жизнь как будто говорит ему: а ничего и не было, тебе и твоему якобы беспристрастному объективу все показалось – травы меньше курить надо! В парк приезжает грузовичок с клоунами. Они принимаются понарошку играть в теннис: ни ракеток, ни мяча у них нет, между тем зрители (тоже клоуны) жадно следят за каждым движением игроков и за полетом мяча. «Мяч», вылетев с корта, падает к ногам фотографа. Клоуны жестами и взглядами просят вернуть «мяч». Фотограф колеблется какое-то время, а потом очертя голову принимает игру и делает вид – нет, не делает вид, а по-настоящему бросает игрокам несуществующий мяч. В последних кадрах мы слышим хлопки – мяч отскакивает от ракеток.
Последняя песня на главной западной пластинке шестидесятых – «Оркестре клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (1967) – созвучна «Фотоувеличению»:
Я прочел сегодня в газете – ну и ну! —
О счастливчике, преодолевшем барьер,
И хоть сообщение было довольно грустным,
Мне вообще-то оставалось только рассмеяться.
Я видел фотографию:
Он зазевался в машине, не заметил, как переключился
светофор.
И в самом конце:
Я прочел сегодня в газете – ну и ну! —
Про четыре тысячи дырок в Блэкберне, графство Ланкашир,
И хоть дырки были довольно маленькие,
Пришлось их все пересчитать.
Теперь известно, сколько нужно дырок, чтоб заполнить «Альберт-холл».
После этого мы слышим чудовищное, хаотическое крещендо, завершающееся торжествующим аккордом на четырех роялях.
Снова смерть, фотография, снова пусто́ты, на этот раз внимательно пересчитанные.
Виктор Шкловский в гневной статье «Верните мяч в игру» обвиняет Антониони и Феллини («8 ½») в суетности и буржуазном нарциссизме, в любовании своим бессилием. Пафос его разделить трудно, но одно он определил верно: мяч действительно в эту эпоху стремительно уходил из игры. Образ пустоты преследовал и Рида Грачева, и Антониони, и Вайду, и Леннона.
Но вернемся теперь к расстрельной яме, бульдозеру и кровавым лоткам. Я ничего не могу с собой поделать: «Катынь» оставляет во мне не ужас, но скорбь, соединенную почти что с радостью. Так же как «Пепел и алмаз». Можно назвать это катарсисом, но как добивается его Вайда, я не совсем понимаю. Очевидно, дело здесь в просветляющей силе памяти, которая удерживает значащее отсутствие, то, что закрывает пустоту и не дает ей поглотить наш мир. С этим же как-то (опять же я не уверен, что понимаю, как) связана неразделимость нравственного и художественного у Вайды. Потому при том отчаянии и ужасе, которыми полны последние кадры «Катыни», только такая неразделимость, почти античная, может вызвать слезы просветления.
Вспомнив об античности, я снова возвращаюсь к мыслям о шестидесятых и о том, что они оставили нам. В недавно вышедшей книге Д.В. Панченко об «Илиаде» есть очень точное определение: Гомер сочетает экзистенциальный пессимизм с онтологическим оптимизмом. Это точно то, что можно сказать о шестидесятых и Вайде: смерть Мачека, Збышека и польских офицеров безобразна и бессмысленна. Смерть не может быть иной, эстетизировать ее не хотели ни Гомер, ни Вайда. Но человеческая память, воплощенная в искусстве, нетленна – в это они верили свято.
Проза

Письма заложникам[4]
У меня идиотское ощущение, что у «вас» (т. е. на воле) теплее. Может, потому, что последнее, что было, – лето. Лето красное. И действительно, несмотря ни на что, ни на что, это было удивительное лето. Я мог бы, наверное, написать большую книгу об этом лете: «попойки и дуэли, вечерние прогулки при луне»; пешие мои хождения по центру, одинокие и неодинокие; поездки по дурацким окраинным маршрутам – были такие, в одиночку, без цели, просто так; плохой кофе в магазинных буфетах, странные, внешне все в делах, – дни. Все это лето было вдребезги разбившейся попыткой одиночества. И какое счастье, что она не удалась! То, что осталось в моей памяти от этого лета, – а осталось, мне кажется, решительно все, – это не коллекция эпизодов, а теплые и живые лица и голоса, я их вижу и слышу, и достоверность моих ощущений подтверждается письмами: будто я подхожу к дому, где тепло, и людно, и звучно, и в замерзшие окна кто-то продышал для меня кружочки, чтоб я мог смотреть и согреваться. Какие зимние у меня пошли сравнения…[5]
Почему же «такие зимние»? Слова и образы той эпохи имеют свойство: с первого взгляда все кажется удивительно понятным – действительно холодно в Мордовии в декабре, действительно одиноко человеку в лагере, он тоскует и вспоминает, любит, ждет писем. Хотел на воле одиночества – не в его природе оно было. Можно пойти дальше: холодно и в лагере, и в стране, и в мире в конце 68-го, что-то распадается, что-то навсегда замерзает. И даже этих объяснений можно было не писать: все ясно из стремительного и вдруг сбитого ритма письма, из картин как будто обратно прокрученной кинопленки. Да, но что ясно? Вот это-то «другими словами» сказать невозможно. Не свести к чему-то более простому.
Ясно только вот что: человек идет по холоду к теплу, и между ним и тем миром стена, в ней – окно, оно затянуто морозом, только продышанные кружочки. Тут что-то большее, чем метафора лагеря. Слишком остро. Многое из того, что было очевидно для Даниэля и до некоторой степени для его адресатов, теперь, по прошествии десятилетий, и не самых прозрачных, вызывает какие-то смутные вопросы, которые и сформулировать нелегко. Все отзывы на книгу стихов и писем Даниэля не то что положительные – теплые, человечные, какие-то нелитературные. Ведь написаны они почти все людьми, знавшими Даниэля, зачастую адресатами этих писем или просто читавшими их. А таких людей немало:
Согласно правилам, заключенный строгого режима имел право посылать не более двух писем в месяц, и только ближайшим родственникам. А вот в лагерь, равно как и в тюрьму, мог писать кто угодно и сколько угодно. Это означало, что, получая великое множество писем с воли, Даниэль имел возможность отвечать своим корреспондентам лишь в одном общем письме, адресованном жене, а после ее ареста в 1968 г. – сыну. <…> Автор обращается то к одному, то к другому, то ко всем сразу, – но знает, что каждая строчка его будет прочитана многими.
(А.Ю. Даниэль. Предисловие).
Обаяния Юлия Даниэля хватило до наших дней. Анализ почти всем показался чем-то недостойным. Может быть, так и надо. «Все это (не только эти стихи и не только стихи) – иллюстрация ко мне», – писал он. Хочется приблизиться к этому человеку, притягательная сила и его стихов, и прозы, и переводов, и просто памяти о нем, и главное, теперь – этих писем – всего, что он оставил в этом мире, увеличивается. А разгадка одна – живой человек. Все время хочется думать и думать дальше, почти над каждой строкой. Нет, не расшифровывать, а как-то именно призадумываться, вглядываться сквозь «кружок» – туда, на мороз.
Начинается все с вопроса: зачем? Именно не за что (все знают: Синявского и Даниэля посадили за их прозу, напечатанную на Западе), а все-таки зачем?
На это Даниэль с той же видимой простотой отвечает (может, сам не осознавая этого – речь идет о том, как он с Валерием Ронкиным придумывал рифмы к слову «ж. а»): «…и ржали мы так, что любой сочувствующий немедленно перестал бы быть таковым, услышав нас, а только сплюнул бы, сказавши: «Мало, видать, им припаяли!..» «Опять все так просто. Припаяли, чтобы не ржали. Раз еще ржут, значит, мало припаяли. Как же понимать это «ржали»? Иллюстрациями к этому полнятся письма, от первого, только что по прибытии в лагерь, до последнего, почти накануне выхода из Владимирской тюрьмы.
Стало быть, Новый год? <…> О, это упоительное зрелище: начнет перекидываться снегом всякая шпана, вроде нас, а там пошло-поехало, и в конце концов убеленные сединами и осиянные лысинами начинают мальчишничать. Кинет такой Мафусаил, а потом его по инерции за снежком так и поведет… А снег сырой, липкий, как раз для снежков. <…> Сиротская зима – а нам того и надо.
Ага, вот чего им надо. О праздновании Пасхи:
И, представьте себе, к вечеру в лагере было весело. Песни, много музыки – целые оркестры, шум, шутки. И все это страшновато. Невооруженным взглядом видны самовзвинчивание, самоутверждение, самоуговаривание: «Мы шумим! Мы шутим! Мы поем и играем! Нам весело!» А слышится: «Мы шумели! Мы пели! Нам было весело!».
Но а сам автор, хочется спросить, взвинчивал себя, когда писал:
Таким образом, что мы видим на этой интересной картинке? На этой интересной картинке мы видим одного бывшего литератора, который бодро шагает ножками к лучезарному будущему, легкомысленно отшучиваясь (отплевываясь) от всяких мелких житейских неурядиц типа неудачного места жительства, несамостоятельного решения квартирной проблемы и прочих незначительных деталей бытия.
Сколько в этих словах от бравады, сколько от кокетства или лукавства?
А может, действительно, в политическом лагере в шестидесятые совсем не так плохо и не так страшно было?.. Может, и нет никакой трагедии, как порой усиленно и, надо сказать, убедительно уверяет нас автор? ГБ рассматривала Даниэля как слабое звено в «заговоре», считая Синявского «закоренелым». Поэтому на Даниэля в лагере нажимали гораздо сильнее, пытаясь сломать его. По письмам Даниэля очень трудно это представить. «Лагерные условия Юлий, на мой взгляд, переносил гораздо тяжелее, чем я да и многие другие з/к. Состояние небритости доставляло ему чуть ли не физическое страдание, угнетающе действовало отсутствие ярких красок. <…> Как и все мы, Юлий тяжело переживал отрыв от своих многочисленных московских, но и не только московских друзей. Страдал он от отсутствия женского общества. <…> Очень тяжело переживал обыски, всякое насильственное прикосновение к своему личному», – вспоминал Валерий Ронкин[6].
Сам Даниэль много размышлял над этим: что же, собственно, не так, почему плохо?
Те, кому чаша сия досталась раньше, чем мне, и больше она была по объему, и горше было ее содержимое, – те, вероятно, читая мои письма, скажут или подумают: «Э-э, ничего страшного, так-то жить можно: и кофе, и постельное белье, и еда все-таки сносная, и хватает времени и сил играть во всякие бильярды и волейболы, и дни рождения справлять <…>«[и так могут подумать многие читатели «Писем»– и в этом неожиданно сойтись с узниками сталинских лагерей. – Б.Р.]. Все верно: жить можно. Нет больше уничтожения. Есть унижение. Оно не в стрижке наголо, не в чтении интимных писем чужими людьми, вообще оно не извне, не от начальства и правил; я думаю, что меня никто и никак унизить не может. Меня унижает, как это ни дико звучит, потакание моим слабостям – лени, пустомечтательству, мимикрии. И кроме того, унизительно предположение, что мои литературные и прочие взгляды можно опровергнуть таким образом. Право же, иногда у меня возникает желание всерьез поговорить с каким-нибудь умным человеком, который стоит на противоположных позициях, – только действительно умным. Должны же быть такие! Но до сих пор мне они не попадались.
Мне кажется, таких людей никогда не было, нет и не будет. Теми, кто сажал Даниэля и Синявского за публикацию книги на Западе, а 18-летних латышей – за сепаратистскую болтовню, руководил некий особенный инстинкт власти – инстинкт, но не замысел. «Припаяли»– чтоб не ржали, чтоб не пели, не думали о себе много. Не за сопротивление власти, не за антисоветчину – А. Даниэль в предисловии совершенно верно заметил: «Всякий советский человек прекрасно понимал, какой закон нарушили два литератора. Художнику при советской власти было позволено довольно многое, гораздо больше, чем принято теперь считать. Но одно запрещалось категорически: игнорировать право государства на контроль над творчеством». И это игнорирование – гораздо опаснее для власти, чем листовки, бомбы. Потому что жить, постоянно давая право на контроль, жить не просто так, для радости, для общения, для стихов, для сочинения рифмы к слову «ж. а», для снежков, а жить, «всегда думая о начальнике» (по совету Конфуция), считая себя жертвой или носителем интересов силы, – для того чтобы выжить физически и сделать здоровое потомство, – это как раз то, чего требует тирания от всех своих подданных. Не жить, а выживать. И инстинктивная цель системы (только в частном случае – лагеря) – заставить человека признать право сильного и существовать в вечных помыслах о нем. Пусть этого сильного они зовут жизнью: «Жизнь диктует!» Сущность тирании – и лагерей шестидесятых годов, и прочих лагерей (уничтожения, фильтрационных, рабочих) – одна: отделить людей друг от друга, заставив только выживать. В крайнем случае для этого можно сделать из человека борца с системой. Убивать после этого в эпоху Даниэля уже не признавалось необходимым. А Даниэль писал просто:
Я здесь живу – понятно? Я не могу и не хочу выбирать, как мне себя вести. Здесь для меня существует лишь одна линия поведения – остаться собой.
Как человеку остаться собой, как жить? При этом без геройства – не выбирая, как себя вести, а так – как ведется? Любое обобщение выглядит в разговоре о Даниэле довольно беспомощно, но я задаю эти вопросы, потому что они важны совсем не только для лагерной ситуации. Как стоять за себя, оставаясь собой: спонтанным, естественным, сугубо частным человеком?
Я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы пребывать в своем естественном лежачем положении <…>. Я лежа спал, читал, ел, пил (и выпивал), любил, работал, помирал, принимал друзей, стрелял. Даже, если можно так выразиться, «сидел лежа».
Как получается у такого человека не тонуть и не плыть по течению, не терять ни на минуту достоинства в условиях постоянных унижений внутренних и – что ни говори – внешних? Даже акции протеста в лагере давались Даниэлю с трудом. Валерий Ронкин рассказывал, что по прибытии в новый лагерь зеков по очереди стали вызывать к начальству. Борясь за право называться политзаключенными, все они договорились рапортовать: «Политзаключенный имярек явился».
Объявление себя политзеком считалось недопустимой дерзостью и влекло, как правило, кары. <…> Юлий смущался этого титула, политиком себя не считал, врать и притворяться не умел. На вызов к начальству он попал не первым. Несколько человек, вызванных ранее и отрекомендовавшихся «политзеками», настолько ошарашили наших будущих «воспитателей», что, когда вошел Юлий и сказал: «Здравствуйте, я Юлий Даниэль. Вы меня вызывали?»– это грубейшее нарушение лагерной обрядности прошло незамеченным[7].
В этот раз – да. В другие разы бывало хуже, страшнее. Болела искалеченная на фронте рука. Был карцер, были месяцы штрафного изолятора. Было искусственное питание во время голодовок. Была, наконец, Владимирская тюрьма.
«В первые годы после освобождения некоторые ожидали от Юлия Даниэля, что он, герой самого известного политического процесса в новейшей советской истории, станет теперь активным общественным деятелем, включится в напряженное противостояние диссидентов и властей, – пишет А. Даниэль. – Он вежливо, но твердо отклонял всякого рода посягательства на свою независимость. К общественной активности других проявлял сдержанный интерес, не позволяя себе ни осуждать, ни одобрять ее. Кажется, он испытывал к этой активности смешанное чувство симпатии и настороженности. Впрочем, он познакомился и подружился со многими из тех, чьи имена стали известны именно благодаря их диссидентской активности. Сам же Даниэль диссидентом не стал, и я хорошо помню, как одна дама из числа его друзей, отчаявшись втолковать ему, как изменились общественные оценки и общественное поведение за пять лет, которые он провел в заключении, махнув рукой, сказала: «Ну что с тобой толковать – ты же человек эпохи до Синявского и Даниэля!».
В чем же дело? Переменил революционные взгляды, как Достоевский после каторги? Видел в диссидентстве нечто поверхностное, ненужное, политически или морально себя не оправдывающее? Нет, и дело даже не в эпохе «до Синявского и Даниэля» (в ту эпоху еще какие борцы были!). Просто с самого начала, еще до ареста, диссидентство было для него чем-то другим, он не был к этому расположен внутренне.
Почти во всех местах, где Даниэль говорит о свободе и ответственности, слова его звучат не сентенциями и не метафорами. Всегда в них присутствует некая разнонаправленность… нет, не «двоемыслие», не двусмысленность, не амбивалентность. Что-то другое. Может, остроумие?
Интересно было бы организовать на всяких гуманитарных факультетах кафедры сопромата. Преподавателями <…> я назначил бы бывших з/к. Ну, и лабораторные занятия: испытания на прочность, на гибкость, на способность вступать во всякие там химические реакции, на эту самую, как ее, валентность (кажется, у меня она высокая?)
Осознавал ли Даниэль, насколько его речь в письмах бывает афористична? Вряд ли: сознательно он только критиковал собственную «мудрость» (ведь в произнесении афоризма уже есть что-то плоское: или всерьез на века, или претензия на остроумный экспромт):
А все-таки мои сентенции типа «Стержень мира в равновесии добра и зла…» кажутся мне дешевкой, болтовней. Как могут одновременно, на одном клочке земли жить люди, которые шлют мне письма <…>, и люди совсем противоположной категории? <…> Или мне придется стать ящиком, чемоданом с двумя отделениями: в одно буду складывать любовь, а в другое – ненависть? И раз и навсегда отказаться от попыток что-нибудь понять в этой карусели, плюнуть и оставаться тем, чем был, – инструментом?
Слова о чемодане и инструменте – тоже афоризмы. Значение их, наверное, такое: пока не решишь, что побеждает в конце концов, добро или зло, остаешься никем.
То, в чем меня обвинили, на 90 % – вранье, а если бы я не сделал остающихся 10 %, каждый из вас был бы вправе плюнуть мне в физиономию.
На призывы друзей «не дразнить гусей», т. е. не нарываться на неприятности:
Мне от собственного благоразумия, простите, блевать хочется. Если что-нибудь может исковеркать мою душу, заставить меня потерять самого себя, необратимо измениться – то это оно, родимое – благоразумие <…> Единственная моя надежда, что я не окончательно паду к самым высотам здравого смысла, в том, что я все же принимаю противоядие – работаю.
Работа – это стихи и переводы. Искусство Даниэль считал главным в своей жизни, и с ним-то у него сложились очень непростые отношения. Как прозаик, писавший под псевдонимом Николай Аржак, он известен не достаточно. «К своему поэтическому дару Юлий Даниэль относился еще более скептически, чем к своим возможностям беллетриста» (А. Даниэль). Стихи писал только в неволе. Переводы, выходившие под псевдонимом Ю. Петров, осмысливались как ремесло и хлеб. И все же:
…Я – художник. Как видишь, я не из скромных, я задираю нос, я присваиваю себе самое высокое звание из всех существующих. Но силы, жизнестойкость, жизнелюбие, оптимизм – только от этого – от искусства; даже в том случае, если я – плохой художник.
Что же значили эти слова для Даниэля: искусство, художник? В статье «Существованья светлое усилье (Юлий Даниэль)»[8] Галина Медведева пытается разобраться в том, что произошло с Даниэлем в лагере – в том числе, и как с художником. Эволюция Даниэля видится ей приблизительно так: фрондирующая беллетристика – само-стояние (остаться самим собой) – самопознание (и метафизический спор с властью). Это очень ценное и глубокое обобщение, тем более что сделано оно человеком, знавшим того, о ком речь. Но что-то тут упущено. Если искусство (беллетристика) уступило место некоему экзистенциально-философскому повороту, то почему же мысли об искусстве, о поэзии, о художнике не прекращаются чуть не до последнего дня заключения? Самопознание, конечно, тоже имело место, но как о нем Даниэль писал? – «…так вот сидишь, познаешь сам себя (ничего особенного, кстати, там внутри не оказалось)». И гораздо позже – и серьезнее: «Один из самых противных моментов моего бытия – это вынужденная сосредоточенность на самом себе». Кажется, он недолюбливал интровертированную литературу: «Алла Григорьевна, я «Иосифа и его братьев» не читал, я вообще не люблю Манна, мне бы чего побуссенаристей, я человек простой, обожаю про шпионов»…
Конечно, Даниэль времен лагеря уже не смог бы написать «Говорит Москва» (хотя и эту повесть, и «Искупление» мне трудно назвать «фрондирующей беллетристикой»). С другой стороны, действительно было что-то фрондирующее почти во всем, что он писал и позже, вплоть до лучшего из его переводов – «Корсара» Байрона. Чтобы как-то разобраться в этом, приведу еще несколько цитат (вот уж их автор бы поиздевался: «Даниэль об искусстве»).
Например, про празднование зеками дня рождения Яна Райниса – с рассказами о поэте, чтением стихов и переводов, цветами, открытками, кофепитием:
Наверное, это и есть «чистое искусство»– чистое, т. е. бескорыстное <…>. А вокруг были не декорации, не задники, не занавесы; а реплики и монологи – не были отрепетированы; а участники – не столичная элита, а мы. Ну как не быть благодарным судьбе, что у нас, для того, чтобы жить, остается Искусство? Или – мы у него. Простите мне восторженность стиля, но это действительно было прекрасно.
(1966).
Главное – это вот что: «Забудь о том, что ты писатель, что тебя любят и ждут семья и друзья, что твое будущее светло в любом случае, что тебе любое (почти) твое горе – в полгоря. И поставь
себя на место окружающих. Каждого: и дурака, и сволочи, и убийцы, и блаженного, и невинного, и безнадежного, и ничего не понимающего работяги, и фанатика – религиозного и политического, и любого другого человека из тех, что вокруг. Забудь, что у них у всех особое к тебе отношение и что положение твое особое. И вот когда ты хоть в какой-то мере почувствуешь себя в чужой шкуре, – вот тогда валяй – вспоминай, что ты писатель, что тебе разрешается снова жить своей жизнью».
Заметим: не писать (и действительно, Даниэль по выходе начал только одно произведение – автобиографическую «Свободную охоту» – и не закончил, и больше не писал ни прозы, ни стихов) – не писать, а «жить – писателю – своей жизнью». Что ж это значит, еще раз спрашиваю я себя?
Личность автора может быть интересной и занятной, но стоит она выражения лишь тогда, если она в чем-то смыкается с личностями других людей – читателей. Смыкается, сходна почвой, каким-то первичным веществом, какими-то очень главными началами.
Судить надо все же по стихам об авторе, а не по автору о стихах.
(1967).
Отвечая на вопрос: «А были ли когда-нибудь хорошие, по-настоящему, по большому счету хорошие стихи?» Да, были. И есть. Те, в которых автор не берется за «не свои» темы, а остается верен своей, очень определенной сущности – интиму, нежности, шепоту.
(1969).
И, наконец, уже из Владимирской тюрьмы:
Ну, конечно, прав был Корней Иванович: «И дело именно в том, что побеждает поэзия». Только, Боже упаси, не подумайте, что я считаю себя поэтом или ставлю знак равенства между поэзией и собою: просто я гражданин Поэзии, живу по ее законам, и ее победы – мои победы. Я говорю сейчас «высоким штилем», – но почему я должен стесняться высоких слов, когда речь идет не о пустяках, а о жизни? И не только моей.
(1970).
Что за Искусство остается у нас, чтобы жить? Что такое поэзия, которая побеждает и гражданином которой он признает себя? Почти все цитаты метят в одну точку: поэзия – это то, что объединяет людей, позволяет проникаться чужим теплом и чужим страданием, иметь общую человеческую «почву»– жить. Жить – значит не уходить в мир прекрасного, не самовыражаться, но: соприкасаться с душами людей. И в этом главное и спасительное назначение Искусства, к которому он странными, меняющимися и в то же время постоянными путями двигался. Как назвать Даниэля – поэтом, прозаиком, литератором? Как обозначить его «гражданство»– такое прочное и такое неуловимое?



