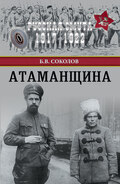Борис Соколов
Николай Ежов и советские спецслужбы
На пути к большому террору
В апреле 1933 года ЦК дал поручение, в том числе и распредотделу, который возглавлял Ежов, провести чистку членов партии. Требовалось выяснить, нет ли каких-либо порочащих их сведений, препятствующих их членству в ВКП(б). В период чистки прием новых членов не производился. Чистка растянулась до мая 1935 года, а за ней последовали еще две кампании под руководством Ежова, которые продолжались вплоть до сентября 1936 года. Запрет на прием новых членов в ВКП(б) был отменен лишь 1 ноября 1936 года[66]. Из партии исключали как тех, кого обвиняли в морально-бытовом разложении, так и тех, кого подозревали в симпатиях как к левой, так и к правой оппозиции.
Звёздный час Ежова наступил после выстрела в Смольном. Он фактически руководил расследованием убийства главы ленинградских коммунистов С.М. Кирова, поскольку глава НКВД Ягода не слишком ревностно выполнял указание Сталина искать соучастников преступления среди сторонников Троцкого и Зиновьева. Когда на следующий день после убийства Кирова Сталин отбыл в Ленинград на специальном поезде, Ежов был одним из его пассажиров. 3 декабря Политбюро одобрило чрезвычайное постановление, упрощающее вынесение обвинительного приговора и приведения его в исполнение для лиц, обвиняемых в терроризме[67].
На февральско-мартовском пленуме 37-го года Ежов рассказывал, как генсек убеждал Ягоду расследовать убийство Кирова в правильном направлении: «Можно ли было предупредить убийство т. Кирова, судя по тем материалам и по данным, которые мы имеем? Я утверждаю, что можно было, утверждаю. Вина в этом целиком лежит на нас. Можно ли было после убийства т. Кирова во время следствия вскрыть уже тогда троцкистско-зиновьевский центр? Можно было. Не вскрыли, проморгали. Вина в этом и моя персонально, обошли меня немножечко, обманули меня, опыта у меня не было, нюху у меня не было еще.
Первое – начал т. Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и Косарева и говорит: «Ищите убийц среди зиновьевцев». Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя еще кое-где и по другой линии, по линии иностранной, возможно, там что-нибудь выскочит.
Второе – я не исключаю, что по этой именно линии все материалы, которыми располагал секретно-полицейский отдел, все агентурные материалы, когда поехали на следствие, надо было забрать, потому что они давали направление, в них много было фактов, благодаря которым вскрыть можно было тогда же и доказать непосредственное участие в убийстве т. Кирова Зиновьева и Каменева. Эти материалы не были взяты, а шли напролом. Не случайно мне кажется, что первое время довольно туго налаживались наши взаимоотношения с чекистами, взаимоотношения чекистов с нашим контролем. Следствие не очень хотели нам показывать, не хотели показывать, как это делается и вообще. Пришлось вмешаться в это дело т. Сталину. Тов. Сталин позвонил Ягоде и сказал: «Смотрите, морду набьем». Результат какой? Результат – по Кировскому делу мы тогда благодаря ведомственным соображениям, а кое-где и кое у кого благодаря политическим соображениям, например, у Молчанова, были такие настроения, чтобы подальше запрятать агентурные сведения. Ведомственные соображения говорили – впервые в органы ЧК вдруг ЦК назначает контроль. Люди не могли никак переварить этого. И немалая доля вины за то, что тогда не смогли вскрыть центра, немалая доля вины и за убийство т. Кирова лежит на тех узколобых ведомственных антипартийных работниках, хотя и убежденных чекистах»[68].
Установление непосредственного контроля партии над НКВД было необходимо для начала террора. Органы НКВД получали ранее невиданную власть, и Сталин должен был быть уверен, что отсюда не будет исходить ему никакая угроза.
Ежов утверждал на пленуме: «В январе 1935 г. в ГУГБ поступает сообщение, что на квартире у Радека имеется тайник, где хранятся шифры для переписки с Троцким и сама переписка с Троцким. Вместо того, чтобы найти способы изъять этот тайник, а этих способов у нас достаточно, если даже не ставить вопроса об аресте того же Радека или об обыске его, можно было поставить в ЦК вопрос: разрешите обыскать Радека, имеем сведения, что у него тайник с шифрами и переписка с Троцким. Ничего этого не делается, говорят: пусть себе полежит переписка.» И только когда арестовали Радека сейчас, один работник вспомнил, что была такая агентурка, прибежал и говорит: у Радека тайник есть. Этот тайник обнаружили, но там оказался шиш, потому что Радек был не такой дурак, успел все убрать и оставил там совершенно невинную переписку. (Лобов. Его предупредили наверно.) Не знаю, этого не могу сказать.
Вот, товарищи, основные факты, причем нельзя никакими объективными причинами объяснить эти провалы в нашей работе. (Сталин. Это уже не беспечность.) Это не беспечность, т. Сталин. И я к этому как раз хочу перейти. Возникает вопрос, является ли это ротозейством, близорукостью, отсутствием политического чутья, или все это гораздо хуже? Я думаю, что здесь мы имеем дело просто с предательством. (Голоса с мест. Правильно, верно!) Иначе квалифицировать этого дела нельзя. В этой связи разрешите мне остановиться на роли во всех этих делах бывшего начальника секретно-политического отдела Молчанова. Все эти дела, которые я вам перечислил, все эти факты в той или иной степени проходили через руки Молчанова. Это результат его работы. Кроме того, Молчанов довольно странно себя вел при развороте всего этого дела. Например, когда только что началось следствие по этому делу… (Сталин. По какому?) По делу раскрытия троцкистско-зиновьевского объединенного центра – оно началось с конца декабря 1935 г., первая записка была в 1935 г., в начале 1936 г. оно начало понемножку разворачиваться, затем материалы первые поступили в ЦК и, собственно говоря, цель-то поступления этих материалов в ЦК, как теперь раскрывается, была, – поскольку напали на след эмиссара Троцкого, затем обнаружился центр в лице Шемелева, Эстермана и других, – цель была вообще свернуть все это дело. Тов. Сталин правильно тогда учуял в этом что-то неладное и дал указание продолжать его, и, в частности, для контроля следствия назначили от ЦК меня. Я имел возможность наблюдать все проведение следствия и должен сказать, что Молчанов все время старался свернуть это дело: Шемелева и Ольберга старался представить как эмиссара-одиночку, провести процесс или суд и на этом кончить и только. Совершенно недопустимо было то, что все показания, которые давались по Московской области Дрейцером, Пикелем, Эстерманом, т. е. главными закоперщиками, эти показания совершенно игнорировались, разговорчики были такие: какой Дрейцер, какая связь с Троцким, какая связь с Седовым, с Берлином. Что за чепуха, ерунда и т. д. Словом в этом духе были разговоры и никто не хотел ни Дрейцера, ни Эстермана, ни Пикеля связывать со всем этим делом. Такие настроения были»[69].
Однако под бдительным присмотром Николая Ивановича люди Ягоды вынуждены были довести дело до конца под углом версии о «троцкистско-зиновьевском заговоре». В награду за усердие в 1935 году Ежов становится секретарем ЦК, курирующим НКВД и административные органы, и председателем Комиссии партийного контроля. Он руководит проведением партийной чистки. Ежов докладывал, что на начало декабря 1935 года в связи с исключением из партии арестовано более 15 тысяч «врагов народа» и раскрыто «свыше ста вражеских организаций и групп». Он предупредил, что «среди исключенных из партии остались враги, все еще не привлеченные к судебной ответственности».
На следствии по своему делу Ягода признавал, что после убийства Кирова «начинается систематическое и настойчивое вползание в дела НКВД Ежова», который, не спрашивая наркома, непосредственно связывался с отделами ГУГБ и «влезал сам во все дела»[70]. Судьба Ягоды была предрешена.
В феврале 1934 года Ежов представил Сталину материалы примерно на тысячу бывших ленинградских оппозиционеров, триста из них были арестованы, а остальные сосланы. Из Ленинграда также выслали несколько тысяч дворян, в том числе личных[71].
В Ленинграде Ежов проверил 2747 сотрудников НКВД и 3050 сотрудников милиции, в результате 298 сотрудников были сняты с работы, из них 21 был заключен в лагерь, а по милиции были сняты с работы 590 человек, из которых 7 осуждено[72]. Фактически после убийства Кирова Ежов стал куратором НКВД от лица Политбюро. 1 февраля 1935 года он был избран секретарем ЦК, 27 февраля сменил во главе КПК Кагановича, назначенного наркомом путей сообщения. 10 марта 1935 года Ежов также возглавил отдел руководящих партийных организаций (ОРПО).
В январе 1935 года по приказу из ЦК региональные партийные организации начали составлять списки членов партии, исключенных за принадлежность к «троцкистскому и троцкистско-зиновьевскому блоку». Это была подготовка к последующим репрессиям.
На заседании Политбюро от 13 мая 1935 года было одобрено подготовленное Ежовым письмо ЦК ко всем партийным организациям «О беспорядках в учете, выдаче и хранении партбилетов и о мероприятиях по упорядочению этого дела». Там утверждалось, что партийные организации виновны «в грубейшем произволе в обращении с партийными билетами» и «совершенно недопустимом хаосе в учете коммунистов», в связи с чем «враги партии и рабочего класса» получали доступ к партийным документам и «прикрывались ими в своей гнусной работе». В письме приводились конкретные примеры «вражеских действий», хищения, утери и подделки партбилетов, что «позволяет проникнуть в наши ряды заклятым врагам партии, шпионам, предателям рабочего класса». Письмо предписывало искоренить в кратчайшие сроки «организационную распущенность», проявления «ротозейства и благодушия» и «навести большевистский порядок в нашем собственном партийном доме». До того времени прием в партию не мог быть возобновлен.
На заседании Оргбюро ЦК 27 марта 1935 года Сталин пояснил, что он против приема новых членов, пока «хороших ребят иногда вычищают из партии, а мерзавцы в партии остаются, потому что они очень ловко изворачиваются». Сталин поручил Ежову направить специальное письмо партийным организациям, пояснив: «Завоевали мы власть, взяли ее в свои руки и не знаем, как с нею быть. Так и сяк переворачиваем, как обезьяна нюхала очки, и лижем, и все… Плохие мы наследники – вместо того, чтобы накапливать новый моральный капитал, мы его проживаем»[73].
Теперь к проверке членов партии привлекли НКВД. В июле 1935 года был издан совместный циркуляр ЦК ВКП(б) и НКВД СССР «Об оказании помощи со стороны органов НКВД партийным организациям в ходе проверки партийных документов» за подписью Ягоды и Ежова. Там предписывалось: «Нач. УНВД необходимо оказывать всемерную помощь секретарям Крайкомов, Обкомов и Ц К нацкомпартий в проведении проверки, путем агентурной и следственной разработки вызывающих сомнения членов ВКП(б) и для ареста и тщательного расследования деятельности и связей выявленных шпионов, белогвардейцев, аферистов и т. п.
Для непосредственной работы по этим делам Нач. УНКВД выделить ответственных оперативных сотрудников, работу которых тесно увязать с парт, работниками, проводящими проверку в областных, городских и районных парторганизациях.
Считать эту работу важнейшей задачей органов ГУГБ и обеспечить быстрое и тщательное исполнение всех заданий, связанных с проверкой»[74].
Таким образом, чекисты получили право работать против членов партии, еще не подвергшихся исключению.
После ареста Зиновьева и Каменева по обвинению в подстрекательстве к убийству Кирова Ежов по поручению Сталина стал писать книгу о зиновьевцах под красноречивым названием «От фракционности к открытой контрреволюции». Однако книга не была ни закончена, ни опубликована[75].
В середине 1935 года Ежов приказал заместителю Ягоды Агранову провести операцию против троцкистов в Москве. Согласно полученным Ежовым сведениям и, по мнению Сталина, существовал «нераскрытый центр троцкистов, который надо разыскать и ликвидировать». Ежов писал в июле 1935 года Сталину: «Лично я думаю, что мы, несомненно, имеем где-то троцкистский центр, который руководит троцкистскими организациями». Агранов дал указания о проведении операции начальнику секретно-политического отдела ГУГБ Г.А. Молчанову, но тот не поверил в существование троцкистского подполья и при поддержке Ягоды операцию остановил[76].
Александр Григорьевич Соловьев, экономист, сотрудник Научно-исследовательского института мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР, так отреагировал в дневнике на назначение Ежова главой КПК, состоявшееся в начале марта 1935 года: «Вызывался в ЦК к Бауману (Карл Янович Бауман – заведующий Отделом научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКП(б) и планово-финансово-торговым Отделом ЦК ВКП(б). Убит в Лефортовской тюрьме 14 октября 1937 года, через 2 дня после ареста. В 1955 году реабилитирован. – Б.С.). Информировал о научных работниках института, о наших связях с заграничными научными организациями. Он интересовался сотрудниками аппарата, особенно политэмигрантами. От него узнал, что закончившийся пленум ЦК утвердил секретарем ЦК Андреева, а Кагановича, назначенного наркомом путей сообщения, освободил от обязанностей секретаря ЦК и МК, а также председателя КПК. Председателем КПК утвердил секретаря ЦК Ежова. На мой вопрос, что за причина такого быстрого выдвижения Ежова, ведь до недавнего времени совсем не было известно его имя, Бауман улыбнулся, говорит, он показывает себя очень твердым человеком с огромным нюхом. За него горой Каганович. Очень доверяет и т. Сталин»[77].
25 марта 1935 года А.Г. Соловьев впервые встретился с Ежовым, о чем сделал запись в дневнике: «Вместе с Варгой (Евгений Самуилович Варга, директор Института, будущий академик. – Б.С.) и Войтинским (Григорий Наумович Войтинский, ученый-китаевед. – Б.С.) нас вызвали в ЦК к Бауману. Он провел к Жданову, где был и Ежов, такой низкорослый, щуплый. Жданов задал вопрос, как мы оцениваем свой научный аппарат. Варга ответил, что аппарат очень квалифицированный. Большинство – это либо политэмигранты, либо работавшие в наших заграничных организациях. Мировое хозяйство в целом и по отдельным странам знает очень хорошо. Ежов насмешливо заметил, почему в таком квалифицированном аппарате свободно гнездились и, наверное, гнездятся враги народа. Он сказал, что не доверяет политэмигрантам и побывавшим за границей. Но Войтинский резко прервал его. Выходит, ему, коммунисту с 1912 г. и по заданию ЦК много работавшему советником в борющейся компартии Китая, и Варге, честно выполняющему поручения ЦК, как политэмигранту тоже нет доверия? Это же грубое оскорбление. Но Жданов вмешался, удержал ссору, сказал, что произошло недоразумение. Однако события, связанные с убийством Кирова, заставляют партию повысить бдительность ко всем без исключения. Ежов опять добавил, что т. Сталин учит: бдительность требует обязательного выявления антипартийных и враждебных элементов и очищает от них. Это надо твердо помнить. Мы ушли удрученные»[78].
Здесь Ежов откровенно выразил недоверие практически ко всем партийцам, кто ранее побывал в эмиграции, работал в зарубежных компартиях или, как венгерский еврей Е.С. Варга, проживал в СССР на правах политэмигранта. Подавляющее большинство тех, кто относился к этим группам, подверглись репрессиями, причем преимущественно по 1-й категории, т. е. были расстреляны.
Немного позже А.Г. Соловьев получил представление о том, по каким критериям проводится партийная чистка: «Встретил Тер-Арутюнянца (Мкртич Карапетович (Михаил Карпович) Тер-Арутюнянц был знаком А.Г. Соловьеву по учебе в Институте красной профессуры. – Б.С.). Он работает в КПК. Потолковали о разоблаченных врагах народа. Он говорит, что главным поводом к обвинению служит бывшая оппозиционность и взаимное старание свалить вину с себя на других. Это взаимообвинение втягивает в следствие все больше людей. Он очень неодобрительно отзывается о председателе КПК Ежове. Груб, упрям, поверхностный, подозрителен, мелочный. Хватает за всякое слово, используя для обвинения»[79].
Из этой записи следует, что партийным функционерам среднего звена, которым приходилось непосредственно сталкиваться с Ежовым, Николай Иванович активно не нравился своей грубостью, подозрительностью и мелочными придирками. Причем это было тогда, когда они еще не знали о его беспробудном пьянстве, а также о его склонности с сексуальному харассменту по отношению к подчиненным обоего пола.
Между тем пить Ежов начал еще в начале 30-х годов. Зинаида Гликина на допросе показала: «Еще в период 1930–1934 гг. я знала, что Ежов систематически пьет и часто напивается до омерзительного состояния… Ежов не только пьянствовал. Он, наряду с этим, невероятно развратничал и терял облик не только коммуниста, но и человека»[80]. Таким образом, пить и развратничать Николай Иванович стал задолго до того, как ему пришлось выполнять карательные функции на посту главы НКВД.
14 сентября 1935 года Александру Григорьевичу пришлось еще раз встретиться с Ежовым, и эта встреча, судя по дневниковой записи, не принесла ему радости: «Вместе с Варгой и Войтинским нас вызывал Ежов. Щуплый, несколько суетливый и неуравновешенный, он старался держаться начальственно. Он сказал, что мы должны помогать ему в раскрытии контрреволюционного подполья. Варга возразил, что мы научная организация, а не охранный орган. У нас нет ничего общего с охранными и следственными органами. Ежов нервно напомнил, что наш институт наполнен темными личностями, связанными с заграницей, значит, тесно связан с органами охраны, вылавливающими шпиков и заговорщиков. Варга возмутился, сказал, что институт никогда не будет разведывательным филиалом, просил не мешать заниматься научной работой. Ежов рассердился и потребовал представить секретные характеристики на каждого сотрудника с подробным указанием его деятельности и связей с заграницей. Мы ушли с угнетенным настроением. Выходило, весь наш институт взят под подозрение. Составление характеристик Варга взвалил на меня». 30 ноября Соловьеву и руководству Института вновь напомнил о характеристиках, о которых он успел позабыть, зав. спецотделом Института Сизов, представлявший НКВД[81]. КПК и НКВД в поиске «врагов народа» работали в одной связке.
Александр Григорьевич Соловьев записал в дневнике, как Ежов чистил Научно-исследовательский институт мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР: «Нас вызывали опять в НКВД к начальнику отдела Грязнову. Он стал расспрашивать о сотрудниках. Варга возмутился, сказал, нас мало интересуют биографии, мы оцениваем [сотрудников] по результатам научной работы. Грязнов ответил, что считает наш институт сильно засоренным чуждыми людьми и [что институт] нуждается в расчистке. Варга запротестовал. Грязнов предложил нам пойти к Ежову. Передал, что Варга считает НКВД помехой в работе и защищает аппарат. Ежов рассердился, сказал, что мы забываем призывы великого вождя и учителя гениального Сталина к высокой бдительности. Что мы не понимаем и недооцениваем таящейся в нашем институте контрреволюционной опасности. Среди сотрудников эмигрантов и бывших за границей, наверное, имеются завербованные американской, английской, французской и др. контрразведками и [агенты] фашистского гестапо. Ежов приказал немедленно представить на каждого всестороннюю характеристику и особый список близко соприкасавшихся с Зиновьевым, Каменевым, Сафаровым, Радеком, Бухариным. Мы ушли удрученные». Радек и Бухарин еще на свободе, причем последний еще остается редактором «Известий», второй центральной газеты страны, но их судьба уже предрешена, раз за одну только связь с ними людей уже собираются вычистить из партии. 21 марта Соловьев отметил: «Варга вместе со мной и Войтинским ходили к Бауману с жалобой на Ежова – отвлекает от научной прямой работы. Бауман сказал, что он не судья члену Политбюро, и повел к Жданову. Узнав суть жалобы, Жданов позвонил т. Сталину. Мы перепугались и раскаивались, но было поздно. Скоро пришел т. Сталин. Спросил Варгу, чем его обидел Ежов. Варга ответил: ничем, но требует не свойственной институту работы. Тов. Сталин нахмурился, но спокойно объяснил. Вероятно, Варга не представляет всей трудности работы Ежова от этого недоразумения. Он сказал, что Варга, несомненно, большой уважаемый ученый, много помогает ЦК, СНК, ИККИ, его очень ценят, но он недостаточно ясно понимает всю сложность современной внутриполитической обстановки и чрезмерно доверчив. А от этого выигрывает враг. Мы ушли, поняв, что надо выполнять требования Ежова»[82].
11 февраля 1935 года комиссии Политбюро под руководством Ежова было поручено проверить работников аппарата ЦИК СССР и ВЦИК на предмет «элементов разложения». В результате проверки 21 марта предварительный доклад Ежова по поводу «работы аппарата ЦИК СССР и товарища Енукидзе» был одобрен Политбюро. Там говорилось, что в начале 1935 года среди работников персонала Кремля велась контрреволюционная деятельность (которая на самом деле выразилась в рассказывании анекдотов), направленная против Сталина и руководства партии. НКВД обнаружил несколько связанных между собой контрреволюционных групп, которые совместно пытались организовать покушение на Сталина и других членов Политбюро. Многие члены этих групп пользовались поддержкой и защитой Енукидзе, который назначал их на должности, а с некоторыми из женщин сожительствовал, хотя и не знал о подготовке покушения на Сталина. Ежов утверждал, что Авель Сафронович позволил использовать себя классовому врагу как человека, «потерявшего политическую бдительность и проявившего не свойственную коммунисту тягу к бывшим людям». Хотя дело было полностью сфальсифицировано, Енукидзе было решено отправить в Тбилиси главой ЦИК Закавказья. Но Авель Софронович попросил его вместо Тифлиса направить в Кисловодск на лечение. 8 мая Енукидзе подал заявление об освобождении его от обязанностей председателя ЦИК Закавказья по состоянию здоровья и предоставлении ему работы в Москве, а если это невозможно – на Северном Кавказе в качестве уполномоченного ЦИК. 13 мая просьба была удовлетворена, и Енукидзе назначили уполномоченным ЦИК СССР по району Кавказских Минеральных Вод[83].
Мария Анисимовна Сванидзе (Корона), жена брата первой жены Сталина, оперная певица, писала в дневнике 28 июня 1935 года об Енукидзе: «Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в течение 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом. Будучи эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и наконец докатился до девочек в 9–11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем»[84].
Авель Сафронович, являвшийся председателем Правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами, был неравнодушен к прекрасному полу, особенно к актрисам подведомственных театров. Все это стало основанием для Михаила Булгакова сделать его одним из прототипов главы Акустической комиссии Аркадия Аполлоновича Семплеярова в романе «Мастер и Маргарита». Енукидзе также был членом коллегии Наркомпроса и Государственной комиссии по просвещению, располагавшихся на Чистых прудах в доме № 6. На Чистых прудах находилась и акустическая комиссия Семплеярова. У Булгакова:
«Приятный звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи № 2:
– Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену.
Судьба его волнует зрителей.
Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, председателю акустической комиссии московских театров.
Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой, дорого и модно одетой, и другой – молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая – дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей на квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги.
– Пардон! – отозвался Фагот, – я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно.
– Нет, виноват! Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения.
– Зрительская масса, – перебил Семплеярова наглый гаер, – как будто ничего не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?
– Отчего же, – покровительственно ответил Аркадий Аполлонович, – но непременно с разоблачением!
– Слушаюсь, слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?
При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича изменилось, и весьма сильно изменилось.
– Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии, – очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича, – но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
– Уй, мадам! – подтвердил Фагот, – натурально, вы не понимаете.
Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на Чистых прудах (весь театр затих), а сам на автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.
– Ой! – страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине.
Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом.
– Все понятно! – воскликнула она, – и я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!
И, внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком, она ударила Аркадия Аполлоновича по голове.
Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал:
– Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович!
– Как смела ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича? – грозно спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост.
Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей.
– Уж кто-кто, – ответила она, хохоча, – а уж я-то смею коснуться! – и второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.
– Милиция! Взять ее! – таким страшным голосом прокричала супруга Семплеярова, что у многих похолодели сердца».
Правда, в отличие от Семплеярова, Енукидзе был холостяком.
6 июня 1935 года на пленуме ЦК Ежов заявил, что расстрелянные за убийство Кирова Л.В. Николаев и его сообщники были связаны с Зиновьевым, Каменевым и Троцким и что «непосредственное участие Каменева и Зиновьева в организации террористических групп» было доказано, равно как и ответственность Троцкого за организацию террора. Прошелся Николай Иванович и по Авелю Софроновичу, инкриминируя ему «преступное ротозейство, благодушие и разложение». Аппарат ЦИК, по словам Ежова, стал «крайне засоренным чуждыми и враждебными советской власти элементами», которые смогли беспрепятственно «свить там свое контрреволюционное гнездо» под покровительством Енукидзе. В Кремле создалась обстановка, «при которой террористы могли безнаказанно готовить покушение на товарища Сталина». Енукидзе, как подчеркивал Ежов, являлся «наиболее типичным представителем разложившихся и благодушествующих коммунистов, разыгрывающих из себя, за счет партии и государства, «либеральных» бар, которые не только не видят классового врага, но фактически смыкаются с ним, становятся невольно его пособниками, открывая ворота врагу для его контрреволюционных действий». Ежов рекомендовал вывести Енукидзе из ЦК ВКП(б). Ягода покаялся: «Я признаю здесь свою вину в том, что я в свое время не взял Енукидзе за горло и не заставил его выгнать всю эту сволочь». И тут же предложил арестовать Авеля Софроновича и выяснить, не было ли у него умысла на теракт.
Ежов в заключение заявил, обращаясь к Енукидзе: «Всю эту белогвардейскую мразь, которая засела в Кремле, вы изо дня в день поддерживали, всячески защищали, оказывали им материальную помощь, создали обстановку, при которой эти отъявленные контрреволюционеры, террористы, чувствовали себя в Кремле, как дома, чувствовали себя хозяевами положения». ЦК пошел дальше предложения Ежова и исключил Енукидзе из партии[85].
Осенью 1935 года Ежов опять лечился от пневмонии в Вене и Бад-Гаштейне. Его опять сопровождала жена, с радостью прильнувшая к венским магазинам модного платья. Все заграничные поездки в 1939 году аукнулись Николаю Ивановичу обвинениями в шпионаже в пользу Германии, которые он после изрядной порции побоев признал[86].
4 февраля 1936 года Ежова во главе ОРПО сменил Г.М. Маленков. Потом Николай Иванович сокрушался, что далеко не всех вычищенных из партии НКВД при Ягоде арестовало[87].
В августе 1935 года по предложению Сталина Ежов был избран членом Исполкома Коминтерна – чтобы сподручнее было репрессировать политэмигрантов. Главным врагом среди политэмигрантов были объявлены поляки. А 11 августа 1937 года, уже будучи главой НКВД, Ежов направил подчиненным закрытое письмо «О фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР», положившей начало самой крупной из операций НКВД по «национальным контингентам» – польской. В письме говорилось: «НКВД Союза вскрыта и ликвидируется крупнейшая и, судя по всем данным, основная диверсионно-шпионская сеть польской разведки в СССР, существовавшая в виде так называемой «Польской организации войсковой» («ПОВ»). Накануне Октябрьской революции и непосредственно после нее Пилсудский создал на советской территории свою крупнейшую политическую агентуру, возглавлявшую ликвидируемую сейчас организацию, а затем из года в год систематически перебрасывал в СССР, под видом политэмигрантов, обмениваемых политзаключенных, перебежчиков, многочисленные кадры шпионов и диверсантов, включавшихся в общую систему организации, действовавшей в СССР и пополнявшейся здесь за счет вербовки среди местного польского населения.