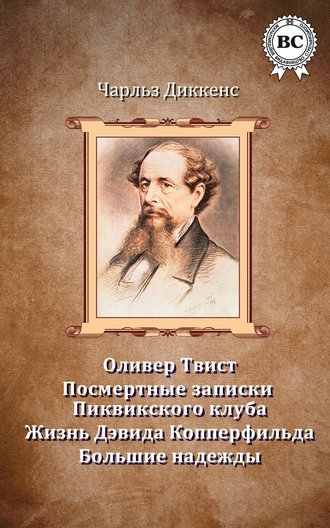
Чарльз Диккенс
Сочинения
Очень приятно было видеть доктора вместе с красивой, молодой женой. Его любовь к ней выражалась в отеческой нежности, что уже само по себе рисовало его как прекрасного человека. Я нередко видел, как они прогуливались по саду, где зрели персики, а иногда мог наблюдать их вблизи, в кабинете или в гостиной. Мне казалось, что она очень заботится о докторе и очень его любит, хотя я никогда не верил в живейший ее интерес к словарю, тяжеловесные отрывки коего доктор вечно носил в карманах и в подкладке шляпы, а во время прогулок, по-видимому, давал обстоятельные разъяснения жене.
Я часто видел миссис Стронг, отчасти потому, что я ей понравился в то утро, когда был представлен доктору, и с той поры она всегда была добра ко мне и интересовалась мною, а отчасти потому, что она очень любила Агнес и постоянно захаживала к нам. Мне чудилась какая-то странная, никогда не ослабевавшая напряженность в ее отношениях с мистером Уикфилдом (которого она как будто побаивалась). Приходя к нам по вечерам, она всегда уклонялась от его предложения проводить ее и убегала со мной. Иной раз, когда мы весело перебегали двор собора, думая, что никого не встретим, мы встречали мистера Джека Мелдона, который при виде нас всегда выражал удивление.
Матушка миссис Стронг восхищала меня. Звали ее миссис Марклхем, но мы, мальчики, прозвали ее «Старый Вояка» за умение командовать и сноровку, с какою она напускала на доктора несметные полчища родственников. Это была маленькая востроглазая женщина, всегда надевавшая в торжественных случаях один и тот же чепец, украшенный искусственными цветами и двумя искусственными бабочками, которые якобы порхали над цветами. Среди нас ходило поверье, будто этот чепец прибыл из Франции и мог быть не иначе, как произведением искусства сей хитроумной нации. Но, в сущности, я знал о нем лишь то, что он неизменно появлялся по вечерам, где бы ни появлялась миссис Марклхем; что она приносила его в индийской корзиночке на дружеские собрания; что бабочки были наделены способностью постоянно трепетать и, подобно трудолюбивым пчелам, не теряли золотого времени, высасывая соки из доктора Стронга.
Я имел возможность очень хорошо наблюдать Старого Вояку (это прозвище отнюдь не было непочтительным) однажды вечером, который памятен мне по причине, о коей я сейчас расскажу. У доктора собралась небольшая компания по случаю отъезда мистера Джека Мелдона в Индию, куда он отправлялся, кажется, для поступления в армию: мистер Уикфилд в конце концов уладил его дела. Этот день совпал со днем рождения доктора. Нас освободили от занятий, утром мы преподнесли ему подарки, старшина произнес речь от имени всех нас, и мы приветствовали его возгласами «ура!» – пока не охрипли и пока он не прослезился. А вечером мистер Уикфилд, Агнес и я отправились к нему (на сей раз – как к частному лицу) пить чай.
Мистер Джек Мелдон явился туда раньше нас. Когда мы вошли, миссис Стронг в белом платье с лентами вишневого цвета играла на фортепьяно, а он, склонившись над ней, переворачивал ноты. Когда она оглянулась, румянец на ее белом лице показался мне не таким ярким, как всегда, но она была очень красива, удивительно красива.
– А я и позабыла принести вам поздравления с днем вашего рождения, доктор, – сказала матушка миссис Стронг, когда мы уселись. – Но можете быть уверены, что мое поздравление – не пустые слова. Желаю вам еще много раз встречать этот счастливый день.
– Благодарю вас, сударыня, – отвечал доктор.
– Много-много раз встречать этот счастливый день, – повторил Старый Вояка. – Желаю вам этого не только ради вас, но и ради Анни, и ради Джона Мелдона, и ради многих других. Мне кажется, будто не дальше, чем вчера, Джон, ты был мальчуганом, на голову ниже мистера Копперфильда, и по-ребячьи ухаживал за Анни в огороде, за кустами крыжовника.
– Милая мама, сейчас не стоит вспоминать об этом, – сказала миссис Стронг.
– Анни, не глупи! – возразила ее мать. – Как только речь заходит о таких вещах, ты, старая замужняя женщина, краснеешь. Когда же ты научишься слушать о них не краснея?
– Старая? – воскликнул мистер Джек Мелдон. – Анни? Полно!
– Да, Джон, она – старая замужняя женщина, – заявил Вояка. – Старая не по годам, – разве ты или кто-нибудь еще слыхал, чтобы я называла двадцатилетнюю женщину старой по годам? Твоя кузина – жена доктора, и я говорила о ней как о его жене. Твое счастье, Джон, что твоя кузина – жена доктора. Ты нашел в нем влиятельного и доброго друга, и я предрекаю, что он будет еще добрее, если ты этого заслужишь. У меня нет ложной гордости. Не колеблясь, я всегда откровенно признаю, что некоторые члены нашего семейства нуждаются в друге. Ты сам, Джон, был одним из них, прежде чем благодаря влиянию твоей кузины не обрел себе друга.
Доктор, по доброте сердечной, махнул рукой, как бы не придавая этому значения и желая избавить мистера Джека Мелдона от дальнейших воспоминаний. Но миссис Марклхем пересела на другой стул, поближе к доктору, и коснулась веером его рукава.
– Нет, право же, дорогой доктор, вы должны меня извинить: чувства мои так глубоки, что я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Я его называю моей манией, это у меня такой пунктик. Вы – наше счастье. Для нас вы – благословенье божье.
– Вздор, вздор! – сказал доктор.
– Нет, извините! – возразил Старый Вояка. – Никого из посторонних здесь нет, здесь только наш добрый друг, мистер Уикфилд, которому мы вполне доверяем, и я не могу согласиться, чтобы мне зажимали рот. Если вы будете упорствовать, доктор, я воспользуюсь привилегиями тещи и пожурю вас. Я говорю вполне честно и откровенно. То, что я говорю сейчас, я сказала и в тот день, когда вы так меня ошеломили, – помните, как я была ошеломлена? – сделав предложение Анни. Конечно, не было ничего из ряда вон выходящего – было бы нелепо утверждать обратное – в самом предложении, но вы знали ее бедного отца, знали и ее полугодовалым младенцем, и я никогда не думала о вас как о женихе или вообще как о человеке, который может жениться, – вот и все.
– Да, да… – добродушно отозвался доктор. – Не стоит вспоминать об этом.
– Нет, стоит, – заявил Старый Вояка, прикладывая свой веер к губам доктора. – Очень даже стоит. Я воскрешаю эти воспоминания, чтобы мне могли возразить, если я ошибаюсь. Ну, вот. Я пошла к Анни и сказала ей о том, что случилось. Я сказала: «Дорогая моя, приходил доктор Стронг и сделал тебе благороднейшее предложение». Настаивала ли я на чем-нибудь? Нет! Я сказала: «Анни, сию же минуту отвечай мне правду: свободно ли твое сердце?» – «Мама, – сказала она, расплакавшись. – я так молода, – и это была сущая правда, – я даже не знаю, есть ли у меня сердце». – «В таком случае, дорогая моя, – сказала я, – можешь не сомневаться, что оно свободно. Как бы там ни было, моя милая, – сказала я, – но доктор Стронг находится в тревожном расположении духа, и нужно дать ему ответ. Не следует оставлять его в такой тревоге». – «Мама, – сказала Анни, все еще плача, – он будет несчастлив без меня? Если он будет несчастлив, то я так глубоко его уважаю и почитаю, что, пожалуй, пойду за него». На том и порешили. И вот тогда, но никак не раньше, я сказала Анни: «Анни, доктор Стронг будет не только твоим мужем, он заступит место твоего покойного отца, он заступит место главы нашего семейства благодаря своей мудрости, положению и, смею сказать, средствам, короче говоря, он будет для нашего семейства благословением». Я употребила это слово тогда и снова употребляю его сегодня. Если есть у меня какие-нибудь достоинства, то одним из них является постоянство.
В продолжение этой речи дочь сидела безмолвная и неподвижная, с опущенными глазами; ее кузен стоял подле нее и тоже смотрел в землю. Потом она сказала очень тихо, дрожащим голосом:
– Мама, надеюсь, вы кончили?
– Нет, дорогая Анни, – возразил Вояка. – Я еще не кончила. Раз ты меня спрашиваешь, дорогая моя, я тебе отвечаю, что я не кончила. Я хочу пожаловаться на то, что ты, право же, как-то странно относишься к своему собственному семейству. А так как не имеет смысла жаловаться тебе, то я хочу пожаловаться твоему супругу. Посмотрите-ка, дорогой доктор, на вашу глупенькую жену!
Когда доктор повернул к ней свое доброе лицо, освещенное простодушной, кроткой улыбкой, она еще ниже опустила голову. Я заметил, что мистер Уикфилд смотрит на нее очень пристально.
– Когда я на днях сказала этой капризнице, – продолжала ее мать, покачивая головой и шутливо грозя ей веером, – что ей бы следовало сообщить вам о некоторых семейных обстоятельствах, – по моему мнению, она обязана была сообщить о них, – она ответила, что сообщать об этом значит просить об одолжении, и она этого не сделает, так как достаточно ей попросить, чтобы ее просьба была исполнена.
– Анни, дорогая моя, это нехорошо, – сказал доктор. – Вы лишили меня удовольствия.
– Почти то же самое говорила ей я! – воскликнула ее мать. – Право же, в следующий раз, когда я буду знать, что она не хочет заговорить с вами только по этой причине, я отважусь обратиться к вам сама!
– Я буду очень рад, если вы так и сделаете, – ответил доктор.
– Так, значит, обращаться к вам?
– Непременно.
– Так я и буду делать! – объявил Старый Вояка. – Договор заключен.
И, добившись, мне кажется, того, чего хотела, она несколько раз похлопала доктора по руке веером (который предварительно поцеловала) и с торжеством пересела на стул, где сидела раньше.
Пришли еще гости, в том числе два учителя и Адамс, и разговор стал общим. Естественно, зашла речь о мистере Джеке Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, и о различных его планах и видах на будущее. В тот вечер, после ужина, он уезжал в почтовой карете в Грейвзенд, где находился корабль, на котором ему предстояло пуститься в плавание, и бог весть сколько лет пройдет, пока он вернется, разве что приедет на родину в отпуск или по болезни.
Помню, все единогласно пришли к заключению, что об Индии сложилось неверное представление и против этой страны нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что есть там один-два тигра и в полуденные часы бывает довольно жарко. Что же касается до меня, то я смотрел на мистера Джека Мелдона как на современного Синдбада и уже почитал его закадычным другом всех восточных раджей, восседающих под балдахинами и покуривающих изогнутые золотые трубки – в милю длиной, если их распрямить.
Миссис Стронг очень хорошо пела, что было известно мне, часто слыхавшему, как она напевала для себя. Но либо она боялась петь в присутствии гостей, либо была в тот вечер не в голосе, – несомненно одно: петь она совсем не могла. Она попыталась было пропеть дуэт со своим кузеном Мелдоном, но даже не могла его начать; а позднее, когда она попробовала петь одна и начала очень мило, голос ее внезапно оборвался, и она, в полном унынии, поникла головой над клавишами. Добряк доктор сказал, что у нее расстроены нервы, и, придя ей на выручку, предложил всем сыграть в карты, хотя в этом деле он понимал столько же, сколько в игре на тромбоне. Однако я заметил, что Старый Вояка немедленно взял его под опеку, выбрав своим партнером, и, посвящая его в тайны игры, первым делом забрал все серебро, имевшееся у него в карманах.
Мы веселились за картами, и этому веселью немало способствовали промахи доктора, которые он делал без конца, вопреки бдительности бабочек и к величайшему их раздражению. Миссис Стронг уклонилась от игры, сославшись на недомогание, а ее кузен Мелдон попросил извинить его, так как ему нужно еще уложить кое-какие вещи. Однако, покончив с этим делом, он вернулся, и они сидели рядом на диване, ведя беседу. Время от времени она вставала, заглядывала в карты доктора и советовала ему, с какой карты идти. Склоняясь над ним, она была очень бледна, и мне казалось, будто ее палец, указывающий на карту, дрожит. Впрочем, доктор радовался ее вниманию и ничего не замечал.
За ужином нам было не очень весело. Все как будто почувствовали, что такая разлука – не слишком приятная вещь и чем ближе она придвигается, тем становится неприятнее. Мистер Джек Мелдон изо всех сил старался быть разговорчивым, но чувствовал себя не в своей тарелке и только испортил все дело. Не помог ничему, как показалось мне, и Старый Вояка, неустанно воскрешавший в памяти эпизоды из детской жизни мистера Джека Мелдона.
Однако доктор, несомненно полагавший, что доставляет удовольствие всем, был в превосходном расположении духа и нимало не сомневался в том, что мы веселимся от души.
– Анни, дорогая моя, – сказал он, посмотрев на часы и наполнив свой бокал, – ваш кузен Джек уже запаздывает, и мы не должны его задерживать, так как время и прилив, – а в данном случае приходится считаться и с тем и с другим, – никого не ждут. Мистер Джек Мелдон! Вам предстоит долгое путешествие, и перед вами лежит чужая страна. Но многие через это прошли, и еще многие пройдут до конца времен. Ветры, которым вы вручаете свою судьбу, уносили тысячи тысяч людей навстречу счастью и благополучно вернули их домой.
– С какой бы точки зрения ни смотреть на это дело, – сказала миссис Марклхем, – тяжело, когда прекрасный молодой человек, которого вы знали с детства, уезжает на край света, покидая всех, кого он знал, и не ведая, что его ждет. Молодой человек, идущий на такие жертвы, заслуживает постоянной поддержки и покровительства.
При этом она бросила взгляд на доктора.
– Время быстро пролетит для вас, мистер Джек Мелдон, быстро для всех нас, – продолжал доктор. – Естественный порядок вещей, быть может, и лишит иных из нас возможности приветствовать вас по возвращении. Остается надеяться на лучшее, и это относится ко мне. Не буду докучать вам добрыми советами. Долгое время ты видели перед глазами хороший пример в лице вашей кузины Анни. По мере ваших сил возьмите за образец ее добродетели.
Миссис Марклхем обмахивалась веером и покачивала головой.
– Прощайте, мистер Джек! – закончил доктор, вставая, после чего и мы все встали. – Желаю вам счастливого пути, преуспеяния в чужих краях и благополучного возвращения на родину!
Мы все поддержали этот тост и пожали руку мистеру Мелдону. Затем он быстро попрощался с присутствовавшими леди, поспешил к двери и, садясь в карету, был встречен громовым «ура» наших школьников, собравшихся для этой цели на лужайке. Бросившись к ним, чтобы пополнить их ряды, я очутился около отъезжавшей кареты, и когда, среди шума и поднявшейся пыли, с грохотам промчался мимо меня мистер Джек Мелдон, я отчетливо разглядел, что у него лицо взволнованное, а рука сжимает какой-то предмет вишневого цвета.
После еще одного громового «ура» в честь доктора и еще одного в честь его супруги мальчики разошлись, а я вернулся в дом, где застал всех гостей, столпившихся вокруг доктора и обсуждавших отъезд мистера Джека Мелдона и то, как он себя при этом держал, и что он чувствовал, и прочее, и прочее. Этот разговор был прерван восклицанием миссис Марклхем:
– А где же Анни?
Анни не было видно, к когда стали ее звать, Анни не откликалась. Все выбежали из комнаты, чтобы разузнать, в чем дело, и мы нашли ее лежащей на полу в холле. Сначала поднялся переполох, потом выяснилось, что с ней обморок и она начинает приходить в себя благодаря обычным в таких случаях средствам. Доктор положил ее голову к себе на колени, отвел с ее лица рассыпавшиеся кудри и сказал, обращаясь к окружающим:
– Бедная Анни! Она такой верный друг, и у нее такое нежное сердечко! Всему виной разлука с любимым кузеном, товарищем детских игр. Ах, как жаль! Я очень огорчен!
Открыв глаза и увидев, где она находится, увидев всех нас, стоявших вокруг, она поднялась с нашей помощью и отвернулась, чтобы уронить головку на плечо доктора или, – кто знает? – быть может, для того, чтобы спрятать от нас лицо. Мы удалились в гостиную, оставив ее с доктором и ее матерью, но она сказала, что чувствует себя гораздо лучше и выразила желание, чтобы ее привели к нам. Итак, ее привели и усадили на диван, и мне она показалась очень бледной и слабой.
– Анни, дорогая моя, взгляни! – сказала ее мать, оправляя ей платье. – Ты потеряла бант. Может быть, кто-нибудь будет так любезен и поищет ленту – ленту вишневого цвета?
Это был бант, который она носила на груди. Мы все искали его. Помню, я сам искал его повсюду, но никто не мог его найти.
– Ты не припоминаешь, когда ты видела его в последний раз, Анни? – спросила ее мать.
Я недоумевал, как это она могла показаться мне бледной: на лице ее пылал яркий румянец, когда она ответила, что, кажется, видела его совсем недавно, но не стоит его искать.
Однако поиски возобновились и снова ни к чему не привели. Она умоляла больше не искать, но было сделано еще несколько беспорядочных попыток разыскать бант, пока миссис Стронг совсем не оправилась, после чего гости распрощались.
Очень медленно возвращались мы домой – мистер Уикфилд, Агнес и я. Мы с Агнес восхищались лунным светом, а мистер Уикфилд почти не отрывал глаз от земли. Когда мы добрались, наконец, до дому, Агнес обнаружила, что забыла свой ридикюль. Радуясь возможности услужить ей, я побежал за ним.
Я вошел в столовую, где она его оставила, но там было пусто и темно. Дверь из столовой в кабинет доктора, где виднелся свет, была приоткрыта, и я направился туда, чтобы объяснить, зачем пришел, и взять свечу.
Доктор сидел в кресле у камина, а юная его жена – на скамеечке у его ног. С благодушной улыбкой доктор читал вслух какие-то рукописные пояснения или изложение какой-то теории, имевшей отношение к нескончаемому словарю, а она сидела, глядя на него снизу вверх. Но такого лица, какое было у нее в тот миг, я никогда еще не видел. Оно было так прекрасно, так мертвенно-бледно, казалось таким напряженным в своей отрешенности, столько было в нем какого-то безумного, смутного, лунатического ужаса неведомо перед чем! Глаза были широко раскрыты, а каштановые волосы падали двумя пышными волнами на плечи и белое платье, сбившееся на груди, где недоставало потерянной ленты. Отчетливо помню я ее лицо, но не могу сказать, что оно выражало. Не могу сказать даже теперь, когда оно возникает на фоне моих воспоминаний. Раскаяние, унижение, стыд, гордость, любовь и доверие – все это читаю я в нем и во всем этом вижу ужас неведомо перед чем.
Мой приход и объяснение, почему я вернулся, заставили ее очнуться. Потревожил я также и доктора, ибо, когда я вернулся, чтобы поставить на место свечу, которую взял со стола, он отечески гладил ее по голове, упрекал себя за безжалостность, за то, что сдался на ее уговоры и стал читать; он полагал, что ей надо лечь в постель. Но она торопливо, настойчиво просила у него разрешения остаться. Просила дать ей возможность почувствовать (я слышал, как она бормотала эти несвязные слова), что в этот вечер она пользуется его доверием. А потом, бросив взгляд на меня, когда я уже направлялся к двери, она снова повернулась к нему, и я видел, как она скрестила руки на его коленях и подняла к нему лицо, уже более спокойное, когда он вновь приступил к чтению.
На меня это произвело глубокое впечатление, и я вспомнил эту сцену много времени спустя, о чем мне еще предстоит рассказать в дальнейшем.
Глава XVII
Некто появляется
Со времени моего бегства мне ни разу не приходилось упоминать о Пегготи, но, разумеется, я написал ей письмо, как только поселился в Дувре, а затем послал второе, более длинное, в котором сообщал обстоятельно обо всем происшедшем со мной, когда бабушка формально взяла меня под свое покровительство. Поступив в школу доктора Стронга, я написал ей снова со всеми подробностями о том, как мне хорошо живется, и о моих надеждах на будущее. Никакой иной способ истратить подаренные мистером Диком деньги не принес бы мне того удовольствия, которое я испытал, послав Пегготи в письме золотую полугинею в погашение моего долга; и только в этом письме – не раньше, я упомянул о долговязом парне с повозкой и ослом.
На эти письма Пегготи отвечала так же быстро, как клерк торгового предприятия, хотя и не так кратко и точно. Она исчерпала весь свой талант выражать свои чувства (на бумаге он, несомненно, был не слишком велик), пытаясь изобразить то, что она перечувствовала, узнав о моем путешествии. Четыре страницы, испещренные междометиями, несвязными фразами, концы которых заменялись пятнами, были бессильны принести ей облегчение. Но пятна говорили мне больше, чем самое совершенное произведение, ибо они свидетельствовали о том, что Пегготи плакала все время, покуда писала письмо, а чего еще мог бы я желать?
Без особого труда я понял, что она еще не питает теплых чувств к моей бабушке. Слишком долго она была предубеждена против нее, и мои сообщения явились неожиданными. Мы никогда не знаем человека, – писала она, – подумать только, что мисс Бетси, оказывается, совсем не такая, какой ее считали! Вот это настоящая «мораль» – так выразилась она. И все же Пегготи еще побаивалась мисс Бетси, так как свидетельствовала ей свое почтение и выражала благодарность весьма робко; побаивалась она, очевидно, и за меня, вполне допуская возможность моего нового побега в ближайшем будущем; это я мог заключить из многочисленных ее намеков, что, по первому моему требованию, она вышлет мне деньги для поездки в Ярмут.
Она сообщила мне новость, очень взволновавшую меня: в нашем старом доме была распродана вся обстановка, мистер и мисс Мэрдстон выехали оттуда, а дом заперт и будет сдан внаем либо продан. Богу известно, какое незначительное место я занимал в этом доме, пока они там жили, но мне больно было думать, что дорогой моему сердцу старый дом заброшен, сад зарос сорной травой, а на дорожках толстым слоем лежат мокрые опавшие листья. И мне представлялось, как зимний ветер завывает вокруг, в окна стучит ледяной дождь, а луна бросает призрачные тени на стены пустых комнат и всю ночь напролет стережет это запустение. Вновь обратились мои мысли к могиле, там, на кладбище, под деревом, и казалось мне, что умер также и дом и все, связанное с матерью и отцом, исчезло навеки.
Других новостей в письме Пегготи не было. По ее словам, мистер Баркис – превосходный муж, разве только чуть-чуть скуповат; но все мы не без греха, а у нее их множество (я понятия не имел, каковы они), и мистер Баркис посылает мне привет, а моя комнатка всегда в моем распоряжении. Мистер Пегготи здоров, и Хэм здоров, миссис Гаммидж прихварывает, а малютка Эмли не пожелала послать мне нежный привет сама, но сказала, что Пегготи может передать его, если хочет.
Всеми этими новостями я, как полагается, поделился с бабушкой, не упомянув только о малютке Эмли, к которой – я инстинктивно чувствовал – она не могла бы питать особей симпатии. Пока я был еще новичком у доктора Стронга, бабушка несколько раз приезжала в Кентербери проведать меня, и всегда в неурочные часы, намереваясь, кажется, застигнуть меня врасплох. Но каждый раз она заставала меня за уроками и со всех сторон слышала, что я примерно веду себя и делаю большие успехи, а потому она скоро прекратила свои посещения. Я виделся с ней раз в три недели или раз в месяц по субботам, когда приезжал в Дувр, чтобы провести там воскресный отдых, а каждые две недели, по средам, мистер Дик приезжал в полдень в почтовой карете и гостил до утра следующего дня.
Мистер Дик никогда не приезжал без кожаного бювара с запасом писчей бумаги и Мемориалом. Теперь он полагал, что время не ждет и надлежит поскорее закончить сочинение.
Мистер Дик питал большое пристрастие к пряникам. Дабы эти посещения были еще более для него приятны, бабушка предписала мне открыть ему кредит в кондитерской, но на сумму, не превышающую одного шиллинга в день. Это обстоятельство, а также возложенная на меня обязанность посылать бабушке все его маленькие счета, – до уплаты по ним в загородной гостинице, где он ночевал, – вселили в меня подозрение, что ему разрешается только бренчать монетами в кармане, но отнюдь не тратить их. Позднее я убедился, что именно так оно и было, или, во всяком случае, между ним и бабушкой существовало соглашение, по которому он должен был давать ей отчет во всех своих расходах. Поскольку же ему и в голову не приходило надувать ее и всегда хотелось доставить ей удовольствие, то он весьма скупо тратил деньги. В этом отношении, как и решительно во всех других, мистер Дик был убежден, что бабушка является самой мудрой и самой удивительной женщиной на свете, о чем он мне неоднократно сообщал под большим секретом и всегда шепотом.
– Тротвуд, – сказал как-то в среду с таинственным видом мистер Дик, поделившись со мной этой своей уверенностью, – кто этот человек, который прячется около нашего дома и пугает ее?
– Пугает бабушку, сэр?
Мистер Дик кивнул головой.
– Я думаю, ничто не может испугать ее, так как она… – тут он заговорил шепотом, – никому не передавайте… она самая мудрая, самая удивительная женщина…
После этих слов он отступил назад, чтобы поглядеть, какое впечатление произвело на меня его суждение о бабушке.
– Когда он пришел в первый раз, это было… – продолжал мистер Дик, – это было… погоди… короля Карла казнили в тысяча шестьсот сорок девятом году. Кажется, ты говорил, что в тысяча шестьсот сорок девятом?
– Да, сэр.
– Кто же это может быть? – Мистер Дик в явном замешательстве покачал головой. – Не думаю, чтобы я был так стар.
– Этот человек появился в том году, сэр? – спросил я.
– Вот именно. Я не понимаю, как это могло быть. Ты узнал эту дату из истории, Тротвуд?
– Да, сэр.
– А история никогда не лжет? – осведомился с проблеском надежды мистер Дик.
– О, что вы! Конечно нет, сэр! – решительно ответил я, ибо я был молод, простодушен и верил в это.
– Ничего не понимаю! – помотал головой мистер Дик. – Тут что-то неладно. А все-таки этот человек пришел впервые вскоре после того, как произошла ошибка и в мою голову попали заботы из головы короля Карла. В сумерки я гулял после чая с мисс Тротвуд, и он появился около нашего дома.
– Он тоже гулял? – спросил я.
– Гулял? – повторил мистер Дик. – Погоди… я должен припомнить… Н-нет. Нет! Он не гулял.
Чтобы поскорей добиться толку, я спросил, что же он делал.
– Да его сначала вовсе не было, и вдруг он появился за ее спиной и что-то ей шепнул, – объяснил мистер Дик. – Тут она обернулась, и ей стало дурно, а я стоял и смотрел на него, а он ушел прочь. Но вот что самое удивительное: с тех пор он, вероятно, где-то прятался… должно быть, под землей или где-нибудь в другом месте…
– Он и в самом деле прятался с той поры? – спросил я.
– Безусловно прятался! – заявил мистер Дик, важно кивая головой. – И не показывался до вчерашнего вечера. Мы гуляли вчера вечером, а он снова появился за ее спиной, и я его узнал.
– И он снова испугал бабушку?
– Она задрожала от страха. Вот так! – Мистер Дик изобразил, как она задрожала, и заляскал зубами. – Ухватилась за ограду. Заплакала – И вот еще что… Тротвуд, подойди поближе… – Он притянул меня к себе и чуть слышно зашептал: – Почему, мой мальчик, она дала ему денег?
– Может быть, это был нищий?
Мистер Дик решительно покачал головой, отвергая такое предположение. И, повторив несколько раз очень убежденно: «Нет, не нищий, сэр, нет, не нищий», – рассказал еще о том, что поздно вечером он видел из своего окна, как бабушка снова, при свете луны, дала этому человеку деньги за садовой оградой, и он улизнул – должно быть, опять спрятался под землей, как полагал мистер Дик, – и больше не показывался. А бабушка быстро, но стараясь не шуметь, вернулась домой и даже сегодня утром была сама не своя, что весьма волновало мистера Дика.
В начале этого рассказа у меня не было ни малейших сомнений в том, что сей неизвестный является лишь плодом фантазии мистера Дика и подобен тому злосчастному монарху, который причинял ему столько хлопот; но после некоторых размышлений я стал опасаться, не пытался ли кто-нибудь дважды (или угрожал попытаться) вырвать бедного мистера Дика из-под защиты бабушки и не вынуждена ли была она, питавшая к нему такую сильную привязанность, – о чем я знал от нее самой, – откупиться деньгами, чтобы сберечь его мир и покой. К тому времени я искренне привязался к мистеру Дику и был озабочен его судьбой, а потому боязнь потерять его укрепляла такое предположение; и в течение многих недель ни одна среда, когда он обычно приезжал, не проходила без того, чтобы я не беспокоился, увижу ли я его, как обычно, на крыше кареты. Но он неизменно оказывался там, седовласый, оживленный, сияющий, и больше нечего было ему рассказать мне о человеке, которому удалось испугать мою бабушку.
Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика, и едва ли они были менее счастливыми для меня. Скоро он перезнакомился в школе со всеми мальчиками и хотя не принимал никогда деятельного участия в наших забавах и только запускал с нами змей, но питал глубокий интерес к нашим играм – ничуть не меньше любого из нас. Как часто он следил, не отрывая глаз и затаив дыхание, за нашей игрой в кубарь или в шарики! Как часто, взобравшись на какой-нибудь холмик, когда мы играли в зайца и гончих, он подбадривал нас криками и размахивал шляпой над своей седой головой, совсем забыв о голове короля Карла Мученика и обо всем, что с ней связано! Сколько летних часов промелькнули для него на крикетной площадке, промелькнули как минуты! Сколько раз в зимние дни, когда мальчики катались с гор, он стоял с посиневшим от холода и восточного ветра носом и в восторге хлопал руками в шерстяных перчатках!
Он был общим любимцем, и его умение делать разные мелкие вещицы казалось непостижимым. Он мог разрезать апельсин так замысловато, как никому из нас и в голову не приходило. Он мог сделать лодку из чего угодно, чуть ли не из спицы. Он превращал коленные чашки животных в шахматные фигуры, сооружал римские колесницы из старых игральных карт, мастерил из катушек колеса со спицами и птичьи клетки из старой проволоки. Но, пожалуй, самое замечательное мастерство он обнаруживал, когда брался за бечевку и солому, из которых, по нашему общему убеждению, мог соорудить решительно все, на что способны человеческие руки.
Слава мистера Дика недолго ограничивалась пределами нашего круга. После нескольких сред сам доктор Стронг расспросил меня о нем, я ему сообщил все сведения, полученные мною от бабушки, и это так заинтересовало доктора, что он просил меня познакомить их в ближайшую же среду. Я совершил эту церемонию, и доктор пригласил мистера Дика приходить в школу всякий раз, когда я не встречал его в конторе почтовых карет, и отдыхать, пока мы не кончим наших утренних занятий; скоро у мистера Дика вошло в привычку направляться прямо к школе и, если мы задерживались, что случалось по средам нередко, гулять по двору в ожидании меня. Здесь он познакомился с красивой молодой женой доктора (теперь она была более бледна, чем раньше, менее весела, но не менее красива; я, да, кажется, и все мы видели ее реже) и постепенно все больше осваивался со школой, пока, наконец, не начал заходить в класс, где и ждал меня. Он всегда усаживался в одном и том же уголке, на одном и том же стуле, который прозвали в честь него «Дик»; здесь он сидел, опустив седую голову и внимательно прислушиваясь ко всему, о чем бы ни шла речь, с глубоким благоговением к наукам, которые никогда не мог постичь.







