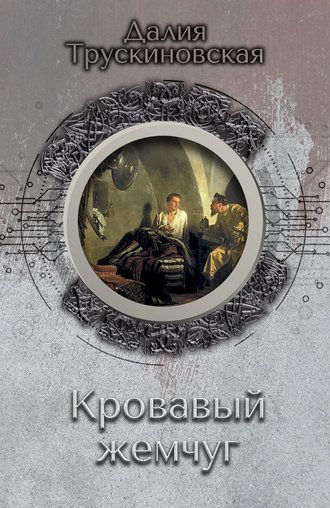
Далия Трускиновская
Кровавый жемчуг
Кому – воскресное утро, а кому – тяжкие труды…
Так заведено, что в воскресный и в праздничный день семейство нужно баловать. Если в будни – щи да каша с ветчиной или с толченым салом, то в праздничек изволь выставить на стол пироги, если, конечно, ты не какая-нибудь безрукая.
Исключительно заботясь о том, чтобы выглядеть не хуже прочих слободских женок, Наталья с раннего утра затеяла печь подовые пироги с бараниной. А могла и не спешить – муженек посапывал, похрапывал, постанывал за крашенинной занавеской, отделявшей супружеское ложе. Муженек накануне был у кого-то в гостях, перебрал, еле дошел до дому, и были основания полагать, что лишь ближе к обеду он начнет понемногу обретать человеческий образ.
Все бабы так делали – как хлебы печь, так сразу после них пироги в печь сажали. Хлебенное тесто ставят с вечера, утром только размеси, пока печь топится, ковриг налепи, крестов на них ножом наставь – да и возись себе с пирогами, пока хлебы не поспеют.
Тесто Наталья завела из четырех лопаток хорошей, крупитчатой муки. Растопила две гривенки говяжьего сала, вылила в горячую воду и туда же – муку, старательно размешала, вбила десяток яиц. Пироги получались дорогие, да сытные, и как им сытными не быть, если их, уже испекши, ставишь в латку с жиром и возвращаешь в печь, чтобы на вольном духу они еще подошли?
Стенька просыпаться не собирался, а коли бы и собрался – уж Наталья знала, что ему, непутевому, ответить.
Для женщины, на которой весь дом и все хозяйство, вышивание да искусная стряпня – вроде развлечения, сидишь ведь, пальчиками шевелишь и красиво получается! Потому лепила Наталья пироги неспешно, красиво защипывая. Делала поменьше, чем следовало бы. Правильный пирог, четырех вершков в длину да двух – в ширину весит фунт, а у нее не так много баранины было припасено, не рассчитала, и красивее было бы подать на стол побольше маленьких пирожков, чем всего пять-шесть правильных. Тем более что была у нее еще одна тайная мыслишка.
Стеньку за крашенинной занавеской вкусный запах еще не тревожил. Наталья пекла не в домашней печи, а в огородной. По государеву указу летом в домах огонь разводить возбранялось, и почти все имели либо особо устроенные поварни-пристройки, либо печи, наполовину врытые в землю где-нибудь на огороде, причем в заветренном месте.
Пожелав ненаглядному проспать до обеда, а лучше бы до ужина, встала Наталья от стола, где занималась тонкой своей работой, смазала пироги квасом и поставила их на расстойку. Потом выбежала из дому, вытянула из печи горячую ковригу, потыкала в нее лучиной. Вроде коврига пропеклась. Тогда Наталья вынула все четыре, принесла их домой и положила отдыхать на столе под полотенцем, а пироги поместила в печь и осталась хозяйничать на дворе – собрать свежие яички, покормить кур, обиходить с раннего утра подоенную корову Пеструху. Корова выглядела понурой, и Наталья не стала выгонять ее спозаранку в слободское стадо. Потом она вынесла миску тюри псу, плеснула в плошку молока для кота, села на лавку и задумалась.
Недавно ей рассказали, как по-настоящему готовят котлому, и Наталья соображала: мука в хозяйстве есть, патока – дело недорогое, но десять гривенок коровьего масла и два с половиной десятка яиц – это уже много! И печево получается не плотное, не сытное, а легкое, с воздушными прослойками, мужика таким не накормишь, а бабе полакомиться – в самый раз.
А то еще можно завести подовый пирог с сахаром, но для него требуется сорочинское белое пшено и тоже неимоверное количество яиц… И на пирог с сыром… Да что за притча такая – что ни затей испечь, все яйца да яйца!
Пока пироги на огороде в печи доходили, Наталья высыпала на доску пол-лопатки муки, вбила три яйца и стала готовить впрок лапшу. Лапша – такое дело, что хранится. Ну как удастся дешево зайца купить – а она уже и есть!
Тонко раскатав лапшу и оставив на столе, чтобы заветрилась, Наталья пошла на огород и стала вытаскивать пироги. Они были удивительно хороши собой – ровненькие, с румяной блестящей корочкой, один в один! Принеся их в дом и разложив на столе, она покосилась на занавеску – переводить ли такое добро на беспутного мужа? Пироги вышли на изумление, и если ни перед кем такими не похвалиться – душа болеть будет.
Заглянув за крашенину и убедившись, что муж просыпаться не собирается, Наталья взяла ветхую холстинку, увязала в узелок четыре самых красивых пирога, надела красивую синюю однорядку и выскользнула из дому, и побежала огородами к любимой подружке – стрелецкой женке Домне Патрикеевой.
На полдороге они и встретились – Наталья с Домной. И обе взволновались – не приключилось ли беды?
– А я к тебе! – чуть ли не хором воскликнули они.
– А что стряслось?
– А у тебя что стряслось?
– А что с утра бежишь, как ошпаренная?
– А ты что бежишь?
– А я к тебе!
– Так и я к тебе!
И подружки одновременно предъявили почти одинаковые узелки.
– Пироги с сыром у меня удались! – похвасталась Домна. – Возьми к завтраку.
– Так и у меня пироги! С баранинкой! Тебе же и несу!
Подружки рассмеялись.
И чем больше смеялись, тем смешнее и приятнее им делалось. А чего ж неприятного? Стоят солнечным, уже почти летним утром на тропинке, среди молодых, еще не в полную меру лист выгнавших лопухов и разудалых солнечных одуванчиков, две молодые и миловидные бабы, радуются тому, какие они славные хозяйки и верные подружки, – плохо, что ли?
И разом они хохот свой прекратили.
– Что это там у Морковых за галдеж? – спросила Домна. – С утра-то пораньше!
– А сбегаем, поглядим! Может, дед у них?…
Морковскому деду было столько лет, что он в Смутные времена ратником служил и поляков из Москвы изгонял. Теперь же жил на покое, но доставлял немало хлопот – мог уйти в церковь и заблудиться, а искали всей слободой и находили довольно далеко от дома, как-то к самой Яузе забрел. Если бы он и отдал Богу душу, ничего удивительного бы в том не было.
И надо же – пока Наталья возилась по хозяйству, шумела и гремела, муженек не просыпался. А как надумала добежать с гостинцем до подружки, а потом с ней вместе – до Морковых, тут его словно черт пощекотал.
Продрать глаза с ходу не получилось. Стенька пробурчал как бы сквозь сон «о-хо-хо…» в надежде привлечь к себе внимание. Но некому было ядовито осведомиться о здоровьице. Он закряхтел погромче – и с тем же успехом.
Когда Стенька окончательно осознал, что жена куда-то увеялась и поднести рассольцу прямо к постели некому, Наталья, услышав диковинную новость, уже торопилась домой. С Домной она рассталась там же, где и встретилась, и, заранее костеря своего непутевого, побежала к родному крылечку.
– Стой! – крикнула Домна. – Пирогами-то не поменялись!
Она догнала Наталью, забрала ее узелок, а свой – вручила.
– Да ну тебя, поменялись же! – воскликнула Наталья. – Перед тем, как к Морковым бежать!
– Да что ты?
Узелки из ветхой холстинки были одинаковы, и подружки принялись их обнюхивать: пироги-то с бараниной не так пахнут, как с сыром.
– Да вот же твои, свет! А вот – мои!
Наталья хотела было сказать, что не стоит Стенька душистых Домниных пирогов, что лакомствами его баловать – только добро зря переводить, да удержалась.
– Как в церковь пойдете – за мной загляните, – попросила. – Моего-то сегодня туда не доведешь, вчера погулял…
– А дело житейское, – утешила ее Домна. – И с моим бывает!
– Твой-то в лавке сидит, каждый день алтынов по пяти приносит, а мой-то больше двух алтынов и трех денег отродясь не приносил!
Сказала это Наталья не совсем справедливо. Все-таки Стенька и за службу в Земском приказе рублей по семи в год имел, и кормовые – по четыре деньги на день, а что удастся перехватить – все домой нес. Так ведь и Домне Патрикеевой не всегда Масленица, случается и Великий пост. То муж-стрелец в лавке сидит, торгует, а то его на войну зовут и по полгода видом не видать и слыхом не слыхать. Тем более что теперь как раз где-то далеко продолжается война…
А справедливой она быть старалась, даже по отношению к Стеньке… И потому, взбегая по крылечку, уже совсем было решила поделить с ним Домнины пироги поровну.
– Мука смертная!.. – сообщил жене измученный сухотой в горле Стенька, не открывая глаз и не в силах пошевельнуть хоть единым членом. – Помираю! А тебя черти где-то носят! Погоди, вот встану – плетку-то возьму…
– Щас исцелю!
Наталья, как если бы не слышала угрозы, встала на цыпочки и припрятала пироги на полке, что тянулась вдоль всей стены над окошком, сунула узелок за кувшины и за крынки.
– Так помираю ж! – возвысил голос Степка.
– А и невелика потеря!
Имелось в виду – кабы кто меня, рабу Божию Наталью, от тебя, дармоеда и пьянюшки, избавил, я бы недолго во вдовах засиделась. Так нет же! Живешь! Не помираешь!
– Ох, встану, доберусь!.. – пригрозил Степка.
Во рту было мерзостно и пакостно. А зловредная Наталья не торопилась отпаивать мужа рассолом. Рассол – это искать ковшик, идти в сени, где стоят бочата с капустой, огурцами, клюквой, брусникой и прочим припасом, нести ковш, заботливо вливать его содержимое в мужний рот, стараясь при сем не залить постель… Самому встать, что ли? А – как?…
Наталья потрогала остывающие ковриги и осталась довольна. Хлеб вроде, с Божьей помощью, удался.
– Ишь, государева служба… – проворчала она.
На сей раз имелось в виду, что дела-то сделано на грош, а выпито на десять рублей! Небольшие деньги дал хлебный пристав, что в соответствии с покойного еще государя указом шастал по торжищам Кремля и Китай-города, проверяя, хороши ли хлебы ситные и решетные, калачи тертые да мягкие коврижечные, да нужного ли веса, и за те денежки трое земских ярыжек навели его таки на некоторых подлецов, веса не соблюдавших и на том наживавшихся.
С одного подлеца пристав слупил полуполтину, для первого раза, а с прочих – уже по целой полтине, да пригрозил, что коли еще раз попадутся, уже двумя рублями и то не отделаются. Потом хлебный пристав отметил такое дело с подьячими Земского приказа, а ярыжек к столу не позвали, вот они сами себе пирование и устроили, полученное пропили, да еще своих денег добавили…
Видя, что помощи от жены никакой, Стенька мучительно собрался с силами и, стараясь раньше времени не выпрастывать из-под одеяла ноги, спустил их кое-как на пол. Затем потянул носом – пахло гречневой кашей и пирогами!
Это значило, что жена не бездельничала, а все же о нем, о венчанном муже, заботилась. Ну и о себе заодно…
Стенька прошлепал в сенцы и там отпился рассолом вволю. В голове прояснело. Он осознал даже необходимость ополоснуть заспанную и помятую рожу. На сей предмет в комнате висел хороший медный рукомой о двух хоботах, а под ним стоял на лавочке таз. Качнешь рукомой – он тебе и отольет из хобота воды в ладошку. Как раз рожу посередке смочить хватит. Тут же на гвозде и полотенце с расшитыми красной ниткой краями. Очень удобно вытереться. Тем более что для воскресного дня жена и полотенце сменила…
Ну на что ни глянешь – все тебе живой упрек! Она-то, бедная, в лепешку расшибается, а он-то, шпынь ненадобный, только и знает, что пить, жрать да одежку грязнить!
– Звал, звал… Где тебя только носило?… – не чая ответа, спросил Стенька, вставая в торце стола, лицом к образам, и уж собравшись прочитать молитву.
Душа же его уже порхала над горшком, в котором прела каша с толченым салом. Каша Наталье всегда удавалась. И при всей зловредности нрава на еду она не скупилась. Обычно Стеньке это нравилось – такая и детей выкормит дородных, не хуже боярских. Хотя уж который год с венчанья пошел, а ходит праздная. Не заладилось что-то у них двоих это дело.
Паче чаяния жена ответила:
– А к Морковым бегала. Ты спал без задних ног, шуму не слышал. А у них покража.
– Покража? – Божественные мысли разом вылетели из Стенькиной головы. – Какая?
– Деда их обокрали. Кто-то, знать, высмотрел, куда он свое добро прячет.
В Стенькиной голове мигом выстроилась лесенка, ведущая от пропажи в морковском хозяйстве к хорошему местечку в приказе, чтобы уж не земским ярыжкой целый день по торговым рядам в дождь и в мороз ноги бить, а сидеть в тепле, решая судьбы и принимая подношения. Вон Петька Власов помог купцу Колесникову вора словить – и где же Петька? В приказной избе! Морковы же – семья зажиточная, и с дьяками и с приходским батюшкой дружбу водит.
Вот Стенька, не позавтракав, и кинулся к дверям. И даже не заметил, с какой ехидной улыбкой Наталья ему вслед поглядела, и даже не подивился, чего это она не прикрикнула…
Он поспешил к соседям, пока кто другой его не опередил. Ведь ежели крупная покража – сразу в Земский приказ челобитную потащат, а там уж кто-то другой, не земский ярыжка Степан Аксентьев, а подьячий Деревнин, или Протасьев, или Колесников, или кто иной рвение окажет и богатого подарка дождется. Стеньке же за то, что приказания выполнял и для подьячего по этому делу ходил, в лучшем случае два алтына и три деньги перепадут – выше этого он еще не поднимался.
Не до пушистых лопухов и развеселых одуванчиков было ему, когда он несся той же тропкой, что и Наталья (которая, усмехаясь, ела сейчас первый из припрятанных пирогов). Земский ярыжка торопился пристегнуться к делу!
– Что у вас уволокли-то? – спросил он, входя на двор, откуда уже расходились все вызнавшие соседки и кумушки.
– Да вон у деда! Медвежью харю! – вразнобой ответили ему.
– Какую такую харю? – грозно вопросил Степка.
Дед, Савватей Морков, вцепившись в локоть осанистой снохи, а снохе уж за пятый десяток перемахнуло, ковылял Степке навстречу.
– Степа, голубь, ты ли?…
Дед сделался за последнее время странно подслеповат. Вон Стенькин дед отлично видел за три версты, а у себя под носом – никак. Савватей же Морков, наоборот, за две сажени видел только туманные пятна разного цвета, зато на столе перед собой, когда сидел, в молитвослове самые мелкие буковки разбирал.
– Я, дедушка! Что стряслось-то? – И Стенька изготовился запоминать.
– Пристыди хоть ты подлецов! – взмолился дед. – Сил моих нет! Ведь это Матюшка с Егоркой спрятали, вот те крест, Матюшка с Егоркой! Пороли их мало!
– Что спрятали, дедушка? – нагнулся к нему Стенька.
– Да харю же! Я их знаю, это они мне пакости строят!
– Тьфу! Какая еще харя? Скоморох ты, что ли, чтоб хари дома держать?
– С Благовещенья резал, с самого Благовещенья! – жалостно сообщил дед. – Как живая выходила! Не прибрал, оставил, вот они и покусились! Ироды! И слова им поперек не скажи!
Сноха, Алена Кирилловна, поняла по возмущенной Стенькиной роже, что не грех и вмешаться.
– Батюшка из дерева ради баловства медвежью харю резал, – негромко, зная дедову глухоту, сказала она. – Утром глядь – и нет ее. Только это не Матюшка с Егоркой. Я их знаю – они в сараюшке свое добро прячут. Мы сразу туда заглянули – там нет.
– А велика ли харя? – уже догадываясь, что сработали происки жены Натальи, спросил Стенька.
– Чуток поболее медвежьей будет… – начала было Алена, но дед пожелал растолковать сам и принялася, бормоча, разводить руки вширь и ввысь. Получалось, что харя была как здоровая бадья.
– Да Господь с тобой, дед, таких и медведей-то не бывает! – воскликнул разочарованный Стенька.
– А тебе-то та харя на что сдалась? – наконец догадалась спросить Алена Кирилловна. – Или посоветуешь в Земский приказ челобитную писать?
Не в меру догадлива оказалась баба!
– На что сдалась? А вижу – у соседей переполох, так мало ли что? – Стенька даже очень выразительно пожал плечами. – Я в приказе не последний человек, глядишь, и пригодился бы!
Что правда, то правда – были там ярыжки и помоложе Стеньки, на которых он свысока покрикивал…
Махнув рукой на странную и совершенно для него бесполезную покражу, Стенька отправился домой, сесть наконец за стол и позавтракать.
Наталья встретила его как ни в чем не бывало. Ведь знала же, чертовка, что дело выеденного яйца не стоит! Знала же, какова пропажа! Так нет же, допустила, чтоб муж понесся огородами, босиком, позориться перед честными людьми!
Встав, как и было задумано, в торце стола, Стенька прочитал молитву, благословил непочатый горшок-кашник, и они, друг другу худого слова не говоря, оба сели завтракать.
– Забор починить надо, – сказала Наталья, доев кашу. – Не забор, а одно горе. В дыры медведь пролезет.
Стенька покосился на жену. Намекает на утреннее, что ли? Но Наталье было не до шуток. Она перечислила, где в хозяйстве нужна мужняя рука.
– Да побойся бога! Воскресный день, а ты про хозяйство! – рассердился в конце концов Стенька.
– А ждать, пока все само развалится? – спросила Наталья. – Скамью вон починить надо, не то прямо под тобой и ахнет. Бочонок с капустой опорожнился – сволок бы обруча перетянуть, коли сам не умеешь.
– Что ты мне про бочонок! У меня дела поважнее найдутся!
Хотя день был и воскресный, но Стенька сговорился с отцом Кондратом об уроке.
– Знаю я твои дела! Вся слобода за животики хватается? Меня уж бабы спрашивали – чай, батька Кондрат твоего-то розгами потчует? Розги-то, говорят, ума прибавляют – глядишь, и поумнеет!
Стенька на эту глупость не ответил, но вздохнул – близился час наитягчайших трудов.
В дом к отцу Кондрату шел он, как тать на плаху, – медленно и ниже плеч буйну голову повесив… Грамота давалась тяжко, и с чтением бы еще полбеды, а вот орудовать пером Стенька не мог, вместо красивых завитков получалось нечто столь корявое, что попадья, матушка Ненила, заглянув как-то через плечо, заохала:
– О-хо-хонюшки, горемычный ты мой! Ну – как курица лапой!..
А ведь для подьячего почерк – первое дело. Ну, еще ум, но насчет своего ума Стенька не сомневался, опять же – ум глубоко в башке упрятан, а почерк-то – на виду…
Батюшка встретил его весело.
– Был вчера на Спасском мосту в книжных лавках, – сообщил он ученику. – Гляди, чего приобрел!
– Что это? – с тоской спросил Стенька, глядя на небольшую, зато здорово пузатую книжку.
– Мелетия Смотрицкого «Грамматика».
Судя по тому, что книжка была припасена и выложена на стол как раз к Стенькиному приходу, предполагалось, очевидно, что земский ярыжка всю ее должен усвоить.
– На что она? – с недоверием спросил Стенька. – Я же и буквы, и слоги знаю!
Батюшка Кондрат откинул твердую обложку и, взяв труд Смотрицкого в обе руки, весомо зачитал:
– «Что есть грамматика? Есть известное художество, благо глаголати и писати обучающее». Понял, чадо? Не криво, как ты мне карябаешь, а благо! Вздумал быть подьячим? Ну так терпи!
Стенька поднял на батюшку глаза, и тот поразился отчаянному взору. С таким взором, пожалуй, можно бы и саблей рубиться, и на медведя с рогатиной выходить, подумал миролюбивый батюшка, а он, подлец, вон куда свою удаль направил!
– Бумагу клади ровнее! – приказал он. – Разлинуй помельче! Хватит тебе буквы рисовать, как в больших святцах! С сего дня писать будешь меленько.
* * *
– Приведи Голована! – велел Озорной. – Оседлай как полагается! А я погляжу!
Вроде и по пустяковому делу послали их двоих, Тимофея с Данилкой, однако мороки вышло много.
Оказалось, что конюшенная жизнь парня избаловала. В седле-то он держался, да и трудно было найти на Москве человека, который не умел бы ездить верхом. Даже пожилые боярыни, коли приходилось волей-неволей выезжать из дому в распутицу, садились на иноходцев. Для них-то и мастерили шорники особые седла – как высоко вознесенные креслица с подножками-приступочками, креслица эти обшивали бархатом и утыкивали позолоченными гвоздиками.
Но боярыня-то часа два-три на иноходце помается и отдыхает, а Данилка, впервые проведя полтора часа в седле, еле и с коня соскочил.
Это сперва развеселило, а потом, когда промеж ног у ездока обнаружились потертые места, от которых ходят враскоряку, и разозлило конюхов. Причем из всей троицы, которая дошла до подьячего Бухвостова и настояла, чтобы Данилку учить конюшенному ремеслу как полагается, больше ярости проявили Тимофей Озорной и Богдан Желвак. Тихий и малозаметный Семейка Амосов только тогда вмешивался, когда видел – гордость на гордость и норов на норов, как коса на камень.
Обнаружив, что парень, столько времени прожив при конях, не умеет ездить, Богдан Желвак с Тимофеем Озорным принялись его жестоко школить.
– Стадным конюхом быть хочешь? Жалованье получать хочешь? Вот и терпи!
Пока жили на Аргамачьих конюшнях, им это не больно удавалось. Но на лето государь со всей семьей выехал в Коломенское. Семейка почему-то остался в Кремле, а Богдаш и Тимофей последовали за государем при любимых его аргамаках. Поскольку летом водогрейный очаг топить было незачем, то и Данилку они исхитрились с собой потащить – ведомо же всем, что красная цена подьячему Бухвостову – пять алтын, невеликие эти деньги собрали для него вскладчину, вот он и вписал парня куда следовало.
Дорога была недальняя – до Троице-Сергия и обратно, свезти из Коломенского государеву грамоту да назад вернуться. День пути туда и день – обратно. И то так много потому, что не с утра выехали.
Собирали Данилку в дорогу всем обществом. Вспомнили заодно, что будущему конюху требуется целое приданое…
– Шпоры тебе пока без надобности, – рассудил Богдан Желвак. – Прежде всего, нужна будет нагайка. Видел, как я свою вожу? На рукояти петля, и на мизинец правой руки вешаю. А на большой палец – петельку от поводьев. Мало ли что, сидя в седле, делать придется – так чтобы повода не упускать. Бывает, в такое дело посылают, что шуму подымать нельзя. Тогда на левом боку саадак с луком, справа – колчан со стрелами. Там же, справа, должен быть кистень-навязень. Ну, лук тебе при нужде выдадут, а нагайку и кистень сами изготовим.
– Я тебя уж научу из кожаных шнурков плести, – пообещал дед Акишев. – Еще хорошо иметь с собой сулицы.
– Что это – сулицы? – не понял Данилка.
– Копьецо такое коротенькое, аршина в полтора.
– Нет, товарищи мои, уж что ему следует первым делом купить да постоянно при себе иметь, так это персидский джид, – неожиданно сказал Озорной.
– У тебя-то у самого есть ли?
– Подвернется – за любые деньги куплю.
– Баловство это при нашем ремесле, – возразил Богдаш. – Вот в джиде у тебя три джерида. Научился ты их метать – хорошо! Но коли по дороге у тебя засада, раскидал ты свои джериды – где новых взять? Один джид и останется, таскай его на поясе хоть до скончанья века!
И они сцепились спорить о достоинствах персидского джида сравнительно с простым русским кистенем-навязнем. Но переубедить Тимофея было невозможно. Он и на вид казался упрямцем, каких поискать, – невысокий, крепко сбитый, с таким угрюмым взором из-под черных кустистых бровей, что куда там налетчику-душегубцу с большой дороги!
– Ты Богдашку не слушай. Джид с джеридами нужно тебе в Гостином дворе, в саадачном ряду поискать, – сказал Тимофей. – Там не только шлемы с кольчугами, там всякого оружия полно, и турецкого, и персидского, и всякого иного заморского.
Вдруг Богдаш расхохотался.
– Тимофей, расскажи-ка добрым людям, что ты там на Егория Победоносца покупал!
– Ослиную челюсть, – кратко отвечал Тимофей.
– Это – оружие?! – Данилка ушам не поверил.
– Конская – да, а ослиная – она из Святого Писания, – объяснил Озорной. – Батюшка читал, как Самсон ослиной челюстью филистимлян бил. Я ходил в саадачный ряд, искал джид, а заодно и хороший засапожник, мне такого понавалили! Я и спроси – а ослиной челюсти не найдется ли? Сперва сиделец не понял, потом так заругался – товар, мол, я понапрасну порочу!
– И что же? – заранее зная ответ, спросил Данилка.
Он мог биться об заклад, что дерзкий и не понимающий шуток сиделец получил правым Тимофеевым кулаком в свое левое ухо.
– Плюнул да и ушел.
Это показалось странно, но раз Тимофей не желал хвастаться подвигами, то и Бог с ним, решил Данилка. Он уже как-то задал товарищу лишний вопрос да и получил такой суровый ответ, что зарекся проявлять любопытство.
– Потому-то и не держат купцы джидов, что мало кому они нужны! – продолжил прерванную было склоку Богдаш.
– Ты из лука-то стрелять умеешь? – Дед Акишев говорил внятно, чтобы перекричать уже орущих во всю глотку товарищей. – Я тебя научу по-татарски – чтобы и вперед, и назад. Теперь ведь у каждого либо пищаль, либо пистоль, а татары и по сей день на государеву службу с луками и стрелами являются. Пока стрелец пищаль один раз перезарядит – лучник десять стрел выпустит. И знаешь, чего еще не бывало?
Он засмеялся, смешно морща личико, подрагивая негустой серебряной бородкой.
– Такого не бывало, чтобы лучник стрелу выпустил да и лук выбросил! А в схватке, когда каждый миг дорог, выстрелишь из пистоли – и хоть наземь бросай, потому что противник времени перезарядить не дает. Вот вам-то, молодежи, пистоли подавай, а по старинке-то надежнее выйдет!
Еле угомонились советчики, вспомнив, что сегодня на Троицкой дороге ни лук, ни персидский джид, ни даже нагайка Данилке, скорее всего, не понадобятся. Хотя там, бывает, шалят налетчики, но, во-первых, зимой многих похватали, к чему и сам Данилка невольно руку приложил, а во-вторых – им, налетчикам, не двое конных нужны, а неторопливый обоз телег в десяток.
От Коломенского до Троице-Сергия добрались без приключений. Государеву грамоту отдали, под благословение к игумену подошли, побеседовали с иноками, охочими до новостей, а тут и ночь наступила.
Переночевали Тимофей и Данилка в приюте для богомольцев. Рано утром отстояли заутреню (на Озорного время от времени нападало благочестие, отчего приключались всякие недоразумения – как-то раз Великим постом конюх перестарался по части недоедания, отощал и ослабел настолько, что не сумел удержать жеребца, тот прорвался наружу и чуть было не выскочил за ограду Аргамачьих конюшен), да и собрались в дорогу. Коней по летнему времени отправили в ночное вместе с монастырским табуном. И вот настала для Данилки мука мученическая – ловить и седлать вредного Голована.
Это был конек неказистый, ногайский бахмат, невысокий, поразительно гривастый, вороной без единой отметины, со скверным норовом. Прозвание он получил за крупную лобастую башку. А славился своей неутомимостью. Голована и еще с дюжину бахматов держали как раз для скорой и опасной гоньбы, когда мало надежды, что в придорожном яме удастся сменить лошадей, да и бывали обстоятельства, что государевы конюхи с важным поручением попросту объезжали ямы за три версты.
Поскольку от безделья кони начинали дуреть, то конюхи пользовались всяким случаем, чтобы их как следует проездить. Не так чтоб далеко, не так, чтоб скоро, однако довести до утомления.
Вот как получилось, что Данилке для езды к Троице-Сергию дали под верх этого сатанаила.
Была и еще причина. Голован числился в тугоуздых, так что испортить ему рот Данилка при всем желании уже не мог. А хорошей, чуткой к поводу лошади – запросто!
Тимофей остался поговорить о божественном с чернецом братом Кукшей – были они хоть и дальними, а родственниками. Данилка же отправился за конем в одиночку.
Монастырский табун пасся в ложбинке. Данилка с недоуздком побрел к караульщикам, чтобы указали, где именно бродит Голован.
– А он вон там, с краю, – объяснили Данилке. – Обойди кругом, поверху, сразу его увидишь. Наш вожак его прогнал. И второй ваш конь, каурый, тут же.
– За вторым пусть Тимофей сам идет, – отвечал Данилка. – Мне бы с этим чертом управиться!
И ведь как в воду глядел!
Голован позволил себя взнуздать и даже довольно покорно пошел следом, но возле бурьянных зарослей чуть ли не с Данилку вышиной и вышла неприятность. Что-то такое, дорогое лошадиному сердцу, он разглядел сверху, да и ломанулся вбок.
Данилка уперся, потом и вовсе повис на недоуздке, но сильный бахмат проволок его сквозь те заросли, как тряпицу. Да и чуть не уронил наземь, резко опустив голову.
– Блядин сын! – в отчаянии сказал ему Данилка. – Песья лодыга! Ну, что? Чем эта трава лучше той?
Конь преспокойно щипал травку, которая, видать, и впрямь была лучше – в ней виднелись белые головки кашки и лиловатые – дятловины.
И ведь лакомился он не потому, что проголодался – всю ночь брюхо свое толстое набивал! – а чтобы показать неопытному всаднику, кто тут главный. Это зловредное желание читалось в его огромных и хитрых глазищах, а уж ухмылка у него, когда он поднял наконец башку, была поязвительнее человеческой.
Данилка взял его за недоуздок и потащил. На сей раз бахмат не безобразничал – свой норов показал, и ладно.
– Хорош! – сказал, увидев их двоих, Тимофей Озорной. – Репьи-то с себя обери! Тебе, гляжу, и рубахи с портками не надо, повалялся по репейнику – и одет!
– Знатные у нас репьи растут! – добавил брат Кукша. – Ты, свет, аки Адам, что, изгнан из рая, листвием срам прикрывал!
Тогда лишь Данилка обозрел сверху вниз свою грудь, живот и ноги.
Ткани не было видно под серым клочковатым слоем репьев…
– Дай-ка узду! – велел Озорной. – Сейчас я его уму-разуму поучу!
Затеяв разбирательство с конем, он не доверил Данилке даже взнуздать и оседлать Голована, все сделал сам, а потом вскочил в седло.
– Коли к моему приезду не отчистишься, такой и поедешь!
Он послал бахмата вперед и резко взял на себя повод. Конь вскинулся.
– Ага! Не нравится! – крикнул Тимофей. – А теперь давай, козли!
Был Тимофей Озорной невысок, да словно из железа скован, и тяжестью своей умел управлять удивительно. Неудача ждала того коня, который вздумал бы под ним козлить. Голован понял это сразу и смирился. Должно быть, и раньше были между ними подобные стычки.
Доехав до табуна, Тимофей взял там своего Лихого и вернулся к Данилке.
Тот уж умаялся вытаскивать из холстины колючки. Вроде и невелики крючочки у репьев, однако сквозь одежду кусаются – будь здоров!
– Данила, лягушка тебя заклюй! – возмутился Тимофей. – Уж точно, что у тебя чердак без верху, одного стропильца нет! С брюха обираешь, а с гузна? Сидеть ты на репьях, что ли, собрался?
Данилка завел назад руку, пощупал и понял, что старший товарищ прав.
– Да будет тебе лаяться, – сказал брат Кукша. – Зайди, свет, за кустики, сними портки! На ощупь-то проку мало!
Так Данилка и сделал.
Выехали они часом позже, чем собирались. И по дороге Тимофей то и дело поминал Данилкины репьи.
– До Троицы и назад – раз плюнуть, а мы с тобой тащимся, как вошь по шубе! – ворчал он, когда дорога позволяла обоим ехать рядом. – Гонцы государевы! Старая баба нас обгонит!
Собственно говоря, не один Данилка был в этом повинен, а еще и погода. Накануне шли дожди, и именно эта часть дороги настолько раскисла, что пускать коней машистой рысью или наметом было опасно – поскользнувшись, и конь через голову перевернется, и всаднику достанется. Вот и ехали грунью, а это ненамного быстрее простого шага.
– А не спрямить ли? – посоветовал Данилка.







