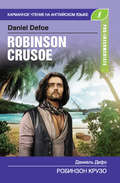Даниэль Дефо
Приключения Робинзона Крузо
Грустное зрелище открылось мне: корабль (по виду испанский) застрял между двух утесов. Вся корма была снесена; грот- и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще вся носовая часть уцелели. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я поманил ее, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как изголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю.
Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел, были два трупа: они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль наскочил на риф, его все время обдавало водой, так как была сильная буря, и весь экипаж захлебнулся, как если б он пошел на дно. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки, с вином или с водкой – не знаю, но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам; два сундука я переправил на лодку, не открывая.
Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверно, воротился с богатой добычей: по крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или из Рио-де-ла-Платы{115} в южной части Америки мимо берегов Бразилии в Мексиканский залив, в Гавану, а оттуда – в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку, а что сталось с людьми, я тогда не знал.
Кроме сундуков, я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой – около двадцати галлонов вместимостью, – но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и фунта четыре пороха в пороховнице; мушкеты я оставил, так как они были мне не нужны, а порох взял. Я взял лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался, затем два медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в тот же день, к часу ночи, вернулся на остров, изнеможенный до последней степени.
Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел подробный осмотр их. В бочонке оказался ром, но, говоря откровенно, весьма неважный, совсем не такой, как тот, что был у нас в Бразилии; зато в сундуках я нашел несколько полезных вещей, например, изящной работы погребец, уставленный бутылками какой-то особенной формы, с серебряными пробками (в каждой бутылке было до трех пинт очень хорошей настойки); затем две банки очень вкусных цукатов, или засахаренных фруктов, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще две банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук очень хороших рубах, которые были для меня очень приятной находкой; затем около полутора дюжин белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных; первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел три больших мешка с деньгами; всего в трех мешках было тысяча сто пиастров, а в одном оказалось еще шесть золотых дублонов{116}, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота общим весом, я думаю, около фунта.
В другом сундуке было несколько пар платья, но похуже. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному артиллеристу: в нем оказалось около двух фунтов прекрасного пороха в трех фляжках, должно быть, для охотничьих ружей. В общем, в эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности, это был ненужный сор, и все свое золото я бы охотно отдал за три-четыре пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл четыре пары башмаков за эту поездку: две пары снял с двух мертвецов, которых нашел на корабле, да две оказались в одном из сундуков. Конечно, башмаки пришлись мне очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью: это были скорее туфли, чем башмаки. Во втором сундуке я нашел еще пятьдесят штук разной звонкой монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй – человеку победнее.
Тем не менее я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Было очень жаль, что я не мог завладеть богатствами, содержавшимися в корме погибшего корабля: наверное, я мог бы нагрузить ими лодку несколько раз. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте и, вернувшись, я захватил бы их.
Переправив в мой грот все привезенные вещи, я вернулся к лодке, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег, а сам отправился прямой дорогой на свое старое пепелище, где все оказалось в полной неприкосновенности. Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в последние годы я был осторожнее, чаще производил рекогносцировку и реже выходил из дому. Только восточная сторона острова не внушала мне опасений: я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу; поэтому, отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких мер предосторожности и не тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в одну из других частей острова.
Так прожил я почти два года, но все эти два года в моей несчастной голове (видно, уж так она была устроена, что от нее всегда плохо приходилось моему телу) роились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова. Иногда я решал предпринять новое путешествие к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки; иногда собирался затеять другие поездки. И я убежден, что, будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Сале, я пустился бы в море очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет.
Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед: я разумею недовольство положением, в которое поставили нас Бог и природа. Так, не говоря уже о моем неповиновении родительской воле, бывшем, так сказать, моим первородным грехом{117}, я в последующие годы шел той же дорогой, которая и привела к моему теперешнему печальному положению. Если бы Провидение, так хорошо устроившее меня в Бразилии, наделило меня более скромными желаниями и я довольствовался медленным ростом моего благосостояния, то за это время – я имею в виду время, прожитое на острове, – я сделался бы, может быть, одним из самых крупных бразильских плантаторов. Я убежден, что при улучшениях, которые я уже успел ввести за недолгий срок моего хозяйничанья и еще ввел бы со временем, я нажил бы тысяч сто мойдоров{118}. Нужно ли мне было бросать налаженное дело, благоустроенную плантацию, которая с каждым годом разрасталась и приносила все больший и больший доход, ради того, чтобы ехать в Гвинею за неграми, между тем как при некотором терпении я дождался бы времени, когда вывоз негров-невольников настолько увеличился бы, что мы смогли бы покупать их прямо на месте у тех, кто профессионально занимался работорговлей? Правда, это обходилось бы немного дороже, но стоило ли из-за небольшой разницы в цене подвергаться такому страшному риску?
Но, видно, совершать безумства – удел молодежи, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом, – осуждать безрассудства молодежи. Так было и со мной. Однако эта дурная черта так глубоко укоренилась в моем характере, что я непрестанно измышлял планы бегства из этого пустынного места. Переходя теперь к изложению последней части моего пребывания на необитаемом острове, я считаю нелишним рассказать читателю, в какой форме у меня впервые зародилась эта безумная затея и что я предпринял для ее осуществления.
Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому. Правда, у меня было теперь больше денег; но я не стал от этого богаче, ибо деньги в моем положении были мне так же мало нужны, как перуанским индейцам до вторжения в Перу испанцев{119}.
Однажды ночью, в мартовский период дождей, на двадцать четвертом году своей отшельнической жизни, я лежал на койке совершенно здоровый телесно и душевно, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту.
Невозможно, да нет и надобности, перечислять все мои мысли, вихрем мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга – памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот второй период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Не то чтоб я воображал, что до моего открытия дикари не появлялись в пределах моего царства: весьма возможно, что и в первые годы моего житья на острове их перебывало там несколько сот человек. Но в то время я этого не знал, никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия, я был покоен и счастлив, потому что не сознавал опасности, и хотя от этого она была, конечно, не менее велика, но для меня ее все равно что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости Провидения, в своих заботах о нас положившего столь узкие пределы нашему знанию. Совершая свой жизненный путь среди неисчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы в трепет нашу душу и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаемся спокойными, потому что окружающее сокрыто от наших глаз и мы не видим отовсюду надвигающихся на нас бед.
От этих размышлений я, естественно, перешел к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моем острове в течение стольких лет, как беззаботно я разгуливал по своим владениям и сколько раз, может быть, лишь какой-нибудь холм, ствол дерева, наступление ночи или другая случайность спасали меня от худшей из смертей, от дикарей-людоедов; для них я был бы такою же дичью, как для меня коза или черепаха, и они убили бы и съели меня так же просто, нисколько не считая, что они совершают преступление, как я убил бы голубя или кулика. Я был бы несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце мое при этой мысли наполнилось самой искренней благодарностью к моему великому покровителю. С глубоким смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключительно Его защите, без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов.
Затем мои мысли приняли новое направление. Я начал думать о каннибализме, стараясь уяснить себе это явление. Я спрашивал себя, как мог допустить премудрый Промыслитель всего сущего, чтобы Его создания дошли до такого зверства, вернее, до извращения человеческой природы, худшего, чем зверство, ибо надо быть хуже зверей, чтоб пожирать себе подобных. Но это был праздный вопрос, на который я в то время не мог найти ответа. Тогда я стал думать о том, в какой части света живут эти дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки; и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне.
Я не давал себе труда задуматься над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк, что меня ожидает, если дикари поймают меня, и могу ли я надеяться на спасение, если они на меня нападут. Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не будучи замеченным ими; я не думал и о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову: до такой степени я был поглощен мыслью попасть в лодке на материк. Я смотрел на свое тогдашнее положение как на самое несчастное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой-нибудь населенной страны, то, может быть, мне окажут помощь; а может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае, я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все мои мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывавшей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах в тот момент, когда предмет ее вожделений был, казалось, так близок. Я говорю о своем посещении обломков погибшего корабля, на котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь и каким способом отсюда вырваться. Я был глубоко взволнован этими мыслями; все мое душевное спокойствие, которое я почерпал в покорности Провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк; он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему.
План этот волновал мои мысли часа два или больше, вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке, от одного только возбуждения моего ума, пока, наконец, сама природа не пришла мне на выручку: истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны были преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так: то, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению. Мне снилось, будто, выйдя, как обыкновенно, поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги и около них одиннадцать человек дикарей. С ними был еще двенадцатый – пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Увидев, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить, а он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе: «Вот когда я могу наконец переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться: этот человек будет служить мне лоцманом; он научит меня, что мне делать и где добыть провизию; он знает ту сторону и скажет мне, в каком направлении я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест следует избегать». С этой мыслью я проснулся – проснулся под свежим впечатлением сна{120}, оживившего мою душу надеждой на избавление. Тем горше было мое разочарование и уныние, когда я вернулся к действительности и понял, что это был только сон.
Тем не менее виденный сон навел меня на мысль, что единственным для меня средством вырваться из моей тюрьмы было захватить кого-нибудь из дикарей, посещавших мой остров, и притом, если можно, одного из тех несчастных обреченных на съедение, которых они привозили с собой в качестве пленников. Но было важное затруднение, мешавшее осуществлению моего плана: для того чтобы захватить нужного мне дикаря, я должен был напасть на весь отряд людоедов и перебить их всех до одного, а предприятие такого рода было не только отчаянным шагом, имевшим очень мало надежды на успех, но сама позволительность его внушала мне большие сомнения; моя душа содрогалась при одной мысли о том, что мне придется пролить столько человеческой крови, хотя бы и ради собственного избавления. Нет надобности повторять те доводы, которые я приводил против такого поступка; они были изложены мной раньше. И хотя я приводил себе также и противоположные доводы, говоря, что это мои смертельные враги, что они не дадут мне спуску, очутись я в их власти, и что попытка освободиться от жизни худшей, чем смерть, была бы только актом самосохранения, самозащиты, совершенно так, как если бы эти люди первые напали на меня, все же, повторяю, одна мысль о пролитии человеческой крови до такой степени ужасала меня, что я никак не мог с ней примириться.
Долго в моей душе шла борьба, но наконец страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я решил захватить одного из дикарей, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Но сколько я ни ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов я решил подстеречь дикарей, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю и тем соображениям, какие будут подсказаны обстоятельствами.
Согласно этому решению я принялся караулить и так часто выходил из дому, что мне это смертельно наскучило: в самом деле, более полутора лет провел я в напрасном ожидании. Все это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечность острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями, но лодки не показывались. Эта неудача очень меня огорчала и волновала, но, не в пример другим подобным случаям, мое желание достигнуть намеченной цели на этот раз нисколько не ослабевало; напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем больше оно обострялось. Словом, насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасть на глаза дикарям, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними.
В своих мечтах я воображал, что справлюсь даже не с одним, а с двумя-тремя дикарями и сделаю их своими рабами, готовыми беспрекословно исполнять все мои приказания, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, но случая осуществить ее все не представлялось, ибо дикари очень долго не показывались.
Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел, поэтому я начал уже считать его неосуществимым. Представьте же себе мое изумление, когда однажды ранним утром я увидел на берегу, на моей стороне острова, по меньшей мере пять индейских пирог. Все они стояли пустые: приехавшие в них дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по четыре, по шесть человек, а то и больше, и, сознаюсь, меня весьма смущала многочисленность прибывших гостей. Я решительно не знал, как я справлюсь один с двумя-тремя десятками дикарей. Обескураженный, расстроенный, я засел в своей крепости, однако сделал все заранее обдуманные приготовления для атаки и решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не доносится ли шум со стороны дикарей, но наконец, сгорая от нетерпения узнать, что происходит, поставил ружье под лестницей и полез на вершину холма обыкновенным своим способом – прислоняя лестницу к уступу. Добравшись до вершины, я стал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть в подзорную трубу. Дикарей было не менее тридцати человек. Они развели на берегу костер и что-то стряпали на огне. Я не мог разобрать, как они стряпали и что именно, я видел только, что они плясали вокруг костра с нелепыми ужимками и прыжками.
Вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки, и вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно, предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали связанные в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым (дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари), и тащившие его люди немедленно принялись за работу: распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный, почувствовав себя на свободе, очевидно, исполнился надеждой на спасение, он вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье.
Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву: преследуемый дикарь будет искать убежище в моей роще; но я не мог рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина этого сна, то есть чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее. Тем не менее я остался на своем посту и очень ободрился, увидев, что за беглецом гонятся всего два или три человека; я окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей, расстояние между ними все увеличивается и, если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают.
От моей крепости бежавших отделяла бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа, – та самая, куда я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду, в каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не сбавляя шагу, побежал дальше. Из трех его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился; он постоял на том берегу, поглядел вслед двум другим, потом повернулся и медленно пошел назад: он избрал себе благую часть{121}, как увидит сейчас читатель.
Я заметил, что двум дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут-то я всем существом моим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища или помощника; само Провидение, подумал я, призывает меня спасти жизнь несчастного. Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножию горы, захватил оставленные мною внизу ружья, затем с такой же поспешностью взобрался опять на гору, спустился с другой ее стороны и побежал к морю наперерез бегущим дикарям. Так как я взял кратчайший путь, к тому же вниз по склону холма, то скоро оказался между беглецом и его преследователями. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первый момент испугался меня, кажется, еще больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак воротиться, а сам медленно пошел навстречу преследователям. Когда передний поравнялся со мной, я неожиданно бросился на него и сшиб с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимания остальных дикарей, хотя на таком большом расстоянии они едва ли могли услышать мой выстрел или увидеть дым от него. Когда передний из бежавших упал, его товарищ остановился, видимо, испугавшись, я же быстро побежал к нему. Но когда, приблизившись, я заметил, что он держит в руках лук и стрелу и целится в меня, мне оставалось только предупредить его: я выстрелил и уложил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво (как ему казалось), остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя, вероятно, больше склонялся к бегству; тогда я стал опять кричать ему и делать знаки подойти ко мне, и он понял: сделал несколько шагов и остановился, потом снова сделал несколько шагов и снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке: бедняга, очевидно, считал себя моим пленником, с которым я поступлю точно так же, как поступил с его врагами. Тогда я опять поманил его к себе и вообще старался ободрить его, как умел. Он подходил все ближе и ближе, через каждые десять – двенадцать шагов падая на колени в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему улыбался и продолжал манить его рукой. Наконец, подойдя совсем близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом, взял мою ногу и поставил ее себе на голову. Последнее, по-видимому, означало, что он клянется быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего бояться меня. Но начатое мной дело еще не было доведено до конца: дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушен, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасенному мной человеку, обращая его внимание на то, что враг его жив. На это он сказал мне несколько слов на своем языке, и хоть я ровно ничего не понял, но сами звуки его речи были для меня сладостной музыкой: ведь за двадцать пять с лишком лет впервые услыхал я человеческий голос (если не считать моего собственного). Но было не время предаваться таким размышлениям: оглушенный мною дикарь оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь сильно этого испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага из другого ружья. Но тут мой дикарь (так я буду называть его впредь) стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один немецкий палач не мог бы сравниться с ним. Такое умение владеть тесаком очень удивило меня, ибо этот дикарь в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари выбирают для своих мечей такое крепкое и тяжелое дерево и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубать голову и руки. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом, исполнил ряд непонятных мне телодвижений и положил подле меня тесак и голову убитого врага.
Но больше всего он был поражен тем, как я убил другого индейца на таком большом расстоянии. Он указывал на убитого и знаками просил позволения сходить взглянуть на него. Я позволил, и он сейчас же побежал туда. Он остановился над трупом в полном недоумении: поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного, но, по всей вероятности, произошло внутреннее кровоизлияние, потому что смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошел, приглашая его следовать за мной и стараясь объяснить ему знаками, что оставаться опасно, так как за ним может быть новая погоня.
Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если придут на это место. Я выразил свое согласие, и он сейчас же принялся за дело. В несколько минут он голыми руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что в ней легко мог поместиться один человек; затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землей. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом; словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повел его не в крепость мою, а совсем в другую сторону – в дальнюю часть острова, к моему новому гроту. Таким образом, я не дал своему сну сбыться в этой части – дикарь не искал убежища в моей роще.
Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой, в чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившие мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить: он лег и мгновенно заснул.
Это был красивый малый высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет двадцать шесть. В его лице не было ничего дикого и свирепого, однако это было мужественное лицо, обладавшее в то же время мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные и прямые и не завивались, как овечья шерсть; лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый, но не того противного желто-бурого оттенка, как у бразильских или виргинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз, но который не так легко описать. Лицо у него было круглое и довольно пухлое, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза, хорошо очерченный рот с тонкими губами и правильной формы, белые, как слоновая кость, превосходные зубы. Проспав или, вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил своих коз в загоне подле грота. Как только он меня увидел, он подбежал и распростерся передо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу и всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я понял многое из того, что он хотел мне сказать, и в свою очередь постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего я объявил, что его имя будет «Пятница», так как в этот день недели я спас ему жизнь{122}. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя; научил также произносить «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив сам и обмакнув в него хлеб; я дал ему также лепешку, чтобы он последовал моему примеру; он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу.
Мы провели с ним в гроте ночь, но как только рассвело, я подал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отвращение – показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могил, что он и исполнил с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на место побережья, где они были накануне, но их и след простыл: не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей.