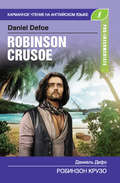Даниэль Дефо
Приключения Робинзона Крузо
Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал: видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда я прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее десяти – двенадцати лет, чтобы довести ее до конца. Берег был здесь очень высок, и его надо было углублять, по крайней мере, на двадцать футов.
К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться и от этой попытки.
Я был огорчен до глубины души и тут только сообразил – правда, слишком поздно, – как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли сил для доведения ее до конца.
В разгар этой работы наступила четвертая годовщина моего житья на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному прилежному чтению слова Божия и благодатной помощи свыше я стал видеть многое в совсем новом свете. Все мои понятия изменились, мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на мир такими глазами, какими, вероятно, смотрят на него с того света, то есть как на место, где я жил когда-то, но откуда ушел навсегда. Я мог бы сказать миру теперь, как праотец Авраам богачу: «Между мной и тобой утверждена великая пропасть»{97}.
В самом деле, я ушел от всякой мирской скверны: у меня не было ни похоти плоти, ни похоти очей, ни гордыни{98}. Мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить зерном целые корабли, но мне это было не нужно, и я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько леса, что я мог построить целый флот, и столько винограда, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом.
Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Я был сыт, потребности мои удовлетворялись, для чего же мне было все остальное? Если бы я настрелял больше дичи и посеял больше хлеба, чем был в состоянии съесть, мой хлеб заплесневел бы в амбаре, а дичь пришлось бы выкинуть или она стала бы добычей червей. Срубленные мною деревья гнили{99}; я мог употреблять их только на топливо, а топливо мне было нужно только для приготовления пищи.
Одним словом, природа, опыт и размышление научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворить наши потребности, и что, сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый закоренелый скряга вылечился бы от своего порока, если бы очутился на моем месте и, как я, не знал, куда девать свое добро. Повторяю, мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было, – разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота, всего около тридцати шести фунтов стерлингов. Увы, они лежали как жалкий, ни на что не годный хлам: мне было некуда их тратить. С какой радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табака или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно! Да что там!.. Я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороха и бобов{100} или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали они у меня в шкафу и в дождливую погоду плесневели от сырости в моей пещере. И будь у меня шкаф полон алмазов, они точно так же не имели бы для меня никакой цены, потому что были совершенно не нужны мне.
Мне жилось теперь гораздо легче, чем раньше, и в физическом и в нравственном отношении. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам Провидения, уготовившего мне трапезу в пустыне{101}. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем{102}.
И еще другие мысли пошли мне на пользу, как, несомненно, они пошли бы на пользу всякому, кто оказался бы в такой же беде. Я часто сравнивал свое положение с тем, каким оно могло бы быть – и каким оно неизбежно было бы, – если б не Божественный промысел, благодаря которому корабль прибило так близко к берегу, что я не только смог до него добраться, но и забрать оттуда все необходимое для облегчения и услаждения жизни. А без этого у меня не было бы ни инструментов для работы, ни оружия для защиты, ни пороха и пуль для охоты.
Целыми часами – целыми днями, можно сказать, – я в самых ярких красках представлял себе, что бы я делал, если бы мне ничего не удалось спасти с корабля. Моей единственной пищей были бы рыбы и черепахи. А так как прошло много времени, прежде чем я нашел черепах, то я просто умер бы с голоду. А если бы не погиб, то жил бы как дикарь. Ибо допустим, что мне удалось бы когда-нибудь убить козу или птицу, я все же не мог бы содрать с нее шкуру, разрезать и выпотрошить ее. Я принужден был бы кусать ее зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь.
После таких размышлений я живее чувствовал благость ко мне Провидения и от всего сердца благодарил Бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить: «Может ли чье-нибудь горе сравниться с моим?» Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их, во сколько раз их собственное несчастье могло бы быть ужаснее, если б то было угодно Провидению.
И еще одно соображение укрепляло меня в моих чаяниях: сравнение моего теперешнего положения с той карой, которой я заслуживал и которой избежал лишь по милости Провидения. Моя прошлая жизнь была греховна; в ней не было места ни благочестивым размышлениям, ни страху Божьему, и не то чтобы мои родители дурно воспитали меня или не внушали мне с детства богобоязненности, чувства долга, осознания человеческой природы и предназначения. Но увы! Раннее приобщение к морским нравам – самым безбожным из всех мне известных, хотя именно на море люди то и дело заглядывают в лицо смерти, – повторяю, раннее приобщение к морским нравам и компании моряков привело к тому, что и те крохи благочестия, которые во мне еще жили, быстро исчезли под влиянием насмешек моих сотоварищей и огрубляющего презрения к опасности перед лицом смерти, которая стала привычной, а также ввиду полного отсутствия общения с хорошими, стремящимися к добру людьми.
До того как я попал на необитаемый остров, во мне не было ничего хорошего, ни малейшего сознания, кем я был или кем мне надлежало быть: при самых величайших удачах, которые выпадали на мою долю – как, например, побег из Сале, участие ко мне португальского капитана, успех моей бразильской плантации, получение товаров из Англии, – слова «благодарю тебя, Господи» не звучали у меня ни в сердце, ни на языке. Даже в самых ужаснейших моих бедствиях никогда не думал я молиться Богу или сказать Ему: «Господи, сжалься надо мною!» Я произносил имя Божие только для божбы или богохульства.
В течение многих месяцев душа моя предавалась ужаснейшим размышлениям об ожесточенности и греховности моей прошлой жизни, когда я думал о себе и понимал, как Провидение пеклось обо мне со времени моего прибытия на остров и насколько Бог был милосерден ко мне, не только наказывая меня гораздо меньше, чем того заслуживали мои беззакония, но еще снабжая меня с избытком всем нужным. Меня оживляла тогда надежда, что раскаяние мое было принято и что я не утратил еще милосердия Божия.
Подобными рассуждениями приучил я душу свою не только покоряться воле Божьей в настоящих обстоятельствах, но не раз сердечно благодарил за свой жребий, рассуждая, что, пока я живу, я не должен жаловаться, так как получаю только справедливое возмездие за мои грехи; что я пользовался благами, которых само благоразумие не позволяло ожидать мне в этом случае; и, вместо того чтобы роптать на свое положение, мне следовало радоваться и каждодневно благодарить за насущный хлеб, ниспосланный мне не иначе как целой цепью чудес; я должен был считать все это чудом – целым рядом чудес, столь же великих, каким было кормление пророка Илии воронами!{103} Наконец, едва ли бы мне удалось назвать другое место в необитаемых частях света, куда бы я мог удачнее быть заброшенным, место, где я так же, как здесь, мог быть лишен всякого общества (что, с одной стороны, меня печалило), но где я не нашел ни лютых зверей, ни волков, ни свирепых тигров, угрожавших моей жизни, ни ядовитых животных, мясо которых могло бы мне повредить, ни дикарей, которые могли бы убить меня и съесть.
Словом, если, с одной стороны, моя жизнь была безотрадна, то с другой – я должен был быть благодарен уже за то, что живу; а чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добр и милостив Господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил все это, я успокоился и перестал грустить.
Я так давно жил на моем острове, что многие из взятых мною с корабля вещей или совсем испортились, или кончили свой век, а корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу.
Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой, пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге. До тех пор, пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Просматривая как-то раз эти записи, я заметил странное совпадение чисел и дней, в которые случались со мною различные происшествия, так что если б я был суеверен и различал счастливые и несчастные дни, то мое любопытство не без основания было бы привлечено этим совпадением.
Во-первых, мое бегство из родительского дома в Гулль, чтобы оттуда пуститься в плавание, произошло в тот же месяц и число, когда я попал в плен к салеским пиратам и был обращен в рабство.
Затем в тот самый день и месяц, когда я остался в живых после кораблекрушения на Ярмутском рейде, я впоследствии вырвался из салеской неволи на парусном баркасе.
Наконец, в годовщину моего рождения, а именно 30 сентября, когда мне минуло двадцать шесть лет, я чудом спасся от смерти, будучи выброшен морем на необитаемый остров. Таким образом, греховная жизнь и жизнь уединенная начались для меня в один и тот же день.
Вслед за чернилами у меня вышел запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности (в последние полтора года я позволял себе съедать не более одного сухаря в день), и все-таки до того, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить Бога: ведь я мог остаться и совсем без хлеба, и было поистине чудо, что я получил возможность его добывать.
Запасы одежды тоже сильно оскудели. Из белья у меня давно уже не оставалось ничего, кроме клетчатых рубах (около трех дюжин), которые я нашел в сундуках наших матросов и берег пуще глаза, ибо на моем острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе, и я не знаю, что бы я делал без этого запаса. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей; все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться; но я стыдился ходить нагишом; я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один и никто не мог меня видеть.
Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым: когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей, рубашка же защищала ее от солнца, и, кроме того, меня охлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить на солнце с непокрытой головой: всякий раз, когда я выходил без шляпы или шапки, у меня разбаливалась голова, но стоило мне только надеть шляпу – головная боль проходила.
Итак, надо было привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось и которое я торжественно именовал своим платьем. Прежде всего мне нужна была куртка (все, какие у меня были, я износил). Я решил попытаться пустить на куртки матросские шинели, о которых я только что говорил, и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать, или, вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горе-портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке сшить брюки лучше не говорить, так как она окончилась постыдной неудачей.
Я уже говорил, что сохранял шкурки всех убитых мною животных (я разумею четвероногих). Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Поэтому по большей части они становились такими жесткими, что едва могли на что-нибудь пригодиться, но некоторые из них были очень хороши. Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка так мне удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку и штаны я сделал совершенно свободными, а последние – короткими до колен, ибо и то и другое было мне нужно скорее для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились: плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно когда мне случалось выходить во время дождя: вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим.
После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии; там никто не ходит без зонтика из-за жары, а на моем острове было ничуть не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу и по дождю; словом, зонтик был мне весьма полезен. Много было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик (раза два или три я выбрасывал испорченный материал и начинал снова). Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но, как уже сказано, я преодолел эту трудность, и мой зонтик мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу: дождь стекал по нему, как по наклонной крыше, и он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду и чувствовал себя лучше, чем раньше, в более прохладную, а когда он был мне не нужен, закрывал его и нес под мышкой.
Так я жил на моем острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле Божьей и доверившись Провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если бы я был окружен человеческим обществом; каждый раз, когда у меня возникали сожаления, что я не слышу человеческой речи, я спрашивал себя, разве моя беседа с собственными мыслями и (надеюсь, я вправе сказать это) в молитвах и славословиях с самим Богом была не лучше самого веселого времяпрепровождения в человеческом обществе.
Следующие пять лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала по-старому – тихо и мирно; я жил на прежнем месте и по-прежнему делил свое время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием – конечно, помимо ежегодных работ по посеву и уборке хлеба и по сбору винограда (хлеба я засевал ровно столько, чтобы хватало на год, и с таким же расчетом собирал виноград), не считая ежедневных экскурсий с ружьем, – главным моим занятием, говорю я, была постройка новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил ее на воду; я вывел ее в бухточку по каналу (в шесть футов ширины и четыре глубины), который мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить ее на воду, что принужден был оставить ее на месте постройки как памятник моей глупости, долженствовавший постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно, в следующий раз я поступил гораздо практичнее. Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полумиле от воды, так как ближе не нашел подходящего дерева, но теперь я, по крайней мере, хорошо соразмерил ее величину и тяжесть со своими силами. Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твердо решил довести ее до конца. Почти два года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом: так я жаждал получить наконец возможность пуститься в путь по морю.
Надо, однако, заметить, что новая пирога совершенно не подходила для осуществления моего первоначального намерения, которое у меня было, когда я сооружал лодку: она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те сорок миль или больше, которые отделяли мой остров от Terra Firma{104}. Таким образом, мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня явился новый план – объехать вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу (о чем было рассказано выше), и открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне еще тогда очень хотелось осмотреть все побережье острова. И вот теперь, когда у меня была лодка, я только и думал о том, как бы совершить эту поездку.
Чтобы осуществить это намерение разумно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, которой у меня был большой запас.
Когда таким образом лодка была оснащена, я попробовал ее ход и убедился, что парус действует отлично. Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику, чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи, которые я собирался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб и для предохранения от сырости приделал к нему откидную крышку.
Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так, чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту. И вот я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не выходил в открытое море, стараясь держаться возле бухточки. Наконец желание ознакомиться с границами моего маленького царства победило, и я решил совершить свой рейс. Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я взял с собой два десятка ячменных хлебцев (точнее, лепешек), большой глиняный горшок поджаренного риса (обычное мое блюдо), бутылочку рома и половину козьей туши; взял также пороха и дроби, чтобы пострелять еще коз, а из одежды – две куртки из упомянутых выше, которые оказались в перевезенных мною с корабля матросских сундуках; одной из этих курток я предполагал пользоваться в качестве матраца, другой – укрываться.
Шестого ноября, в шестой год моего царствования или, если угодно, пленения, я отправился в путь. Проездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью подводных, частью торчавших над водой; она выдавалась миль на шесть в открытое море, а дальше, за скалами, еще мили на полторы тянулась песчаная отмель. Таким образом, чтобы обогнуть косу, пришлось сделать большой крюк.
Сначала, когда я увидел эти рифы, я хотел было отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть их; тем более что я не был уверен, смогу ли я повернуть назад.
И вот я бросил якорь (перед отправлением в путь я смастерил себе некоторое его подобие из обломка шлюпочного якоря, подобранного мною с корабля), взял ружье и сошел на берег. Взобравшись на довольно высокую гору, я смерил на глаз длину косы, которая отсюда была видна на всем своем протяжении, и решился рискнуть.
Обозревая море с этой возвышенности, я заметил сильное и бурное течение, направлявшееся на восток и подходившее к самой косе. И я тогда же подумал, что тут кроется опасность: что, если я попаду в это течение, меня унесет в море и я не буду в состоянии вернуться на остров? Да, вероятно, так бы оно и было, если б я не произвел разведки, потому что такое же морское течение виднелось и с другой стороны острова, только подальше, и я заметил сильное встречное течение у берега. Значит, мне нужно было выйти за пределы первого течения, и меня тотчас же должно было понести к берегу.
Я простоял, однако, на якоре два дня, так как дул свежий ветер (притом юго-восточный, то есть как раз навстречу вышесказанному морскому течению) и по всей косе ходили высокие буруны; было опасно держаться и подле берега из-за прибоя, и очень удаляться от него из-за течения.
На третий день ветер за ночь стих, море успокоилось, и утром я решился пуститься в путь. Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих. Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину лодки, как очутился на большой глубине, среди течения, бурного, как вода из-под мельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силой, что все, что я мог сделать, – это держаться с краю течения. Между тем меня уносило все дальше и дальше от встречного течения, оставшегося слева от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь, работать же веслами было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью: я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. А между тем я не видел никакой возможности свернуть. Итак, меня ожидала верная смерть, и не в волнах морских, потому что море было довольно спокойно, а от голода. Правда, на берегу я нашел черепаху, такую большую, что еле мог поднять, и взял ее с собой в лодку. Был у меня также огромный кувшин пресной воды – одна из моих глиняных поделок. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно пройти тысячи миль, не увидав и признаков земли.
И тогда я понял, как легко самое безотрадное положение может сделаться еще безотраднее, если так угодно будет Провидению. На свой пустынный, заброшенный остров я смотрел теперь как на земной рай, и единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки, взывая: «О благодатная пустыня! Я никогда больше не увижу тебя! О, я несчастный, что со мной будет?» Я упрекал себя в неблагодарности, вспоминая, как я роптал на свое одиночество. Чего был я не дал теперь, чтобы очутиться вновь на том безлюдном берегу! Такова уж человеческая натура: мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положения еще худшего, и никогда не ценим тех благ, какими обладаем, покуда не лишимся их. Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло от моего милого острова (да, теперь он казался мне милым), унесло в безбрежный океан почти на шесть миль, и я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я греб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которая приближалась к встречному течению. Вдруг после полудня, когда солнце повернуло на запад, с юго-востока, то есть прямо мне навстречу, потянул ветерок. Это немного меня ободрило. Но вы представьте мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня угнало бог знает на какое расстояние от моего острова. Поднимись на ту пору туман или соберись тучи, мне пришел бы конец: со мною не было компаса, и, если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы, куда держать путь. Но, на мое счастье, был солнечный день и ничто не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения.
Как только моя лодка повернула по ветру и пошла наперерез течению, я заметил в нем перемену: вода стала гораздо светлее. Это привело меня к заключению, что течение по какой-то причине начинает ослабевать, так как раньше, когда оно было быстро, вода была все время мутная. И в самом деле, вскоре я увидел на востоке группу утесов (их можно было различить издалека по белой пене бурливших вокруг них волн); эти утесы разделяли течение на две струи, и в то время, как главная продолжала течь к югу, оставляя утесы на северо-восток, другая круто заворачивала назад и, образовав водоворот, стремительно направлялась на северо-запад.
Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, когда уже затянулась петля на шее, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг при этом открытии и радость, с какой я направил свою лодку в обратную струю, подставив парус еще более посвежевшему попутному ветру, и весело понесся назад.
Это встречное течение принесло меня прямо к острову, но милях в шести севернее того места, откуда меня угнало в море, так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его, то есть противоположного тому, от которого я отчалил.
Пройдя с помощью этого встречного течения около трех миль, я заметил, что оно ослабевает и не способно гнать меня дальше. Но теперь я был уже в виду острова, в совершенно спокойном месте, между двумя сильными течениями – южным, которым меня унесло в море, и северным, проходившим милях в трех по другую сторону. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя подвигался уже не так быстро.
Около четырех часов пополудни, находясь милях в трех от острова, я обнаружил, что гряда скал, виновница моих злоключений, тянувшаяся, как я уже описывал, к югу и в том же направлении отбрасывавшая течение, порождает другое, встречное течение в северном направлении; оно оказалось очень сильным, но не вполне совпадающим с направлением моего пути, шедшего на запад. Однако благодаря свежему ветру я пересек это течение и приблизительно через час подошел к берегу на расстояние мили, где море было спокойно, так что я без труда причалил к берегу.
Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени и в горячей молитве возблагодарил Бога за свое избавление, решив раз навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Затем, подкрепившись бывшей со мной едой, я провел лодку в маленькую бухточку, под деревья, которые росли здесь на самом берегу, и, вконец обессиленный усталостью и тяжелой работой, прилег уснуть.
Я был в большом затруднении, не зная, как мне доставить домой мою лодку. О том, чтобы вернуться прежней дорогой, то есть вокруг восточного берега острова, не могло быть и речи: я уж и так довольно натерпелся страху. Другая же дорога – вдоль западного берега – была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Вот почему на другое утро я решил пойти по берегу на запад и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, милях в трех я открыл отличную бухточку или заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в речушку или ручеек. Сюда-то я и привел мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив ее, я сошел на берег, чтобы посмотреть, где я.
Оказалось, что я был совсем близко от того места, где я поставил шест в тот раз, когда приходил пешком на этот берег. Захватив с собой только ружье да зонтик (так как солнце страшно пекло), я пустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта экскурсия показалась мне очень приятной. К вечеру я добрался до моей лесной дачи, где застал все в исправности и в полном порядке.
Я перелез через ограду, улегся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было мое изумление, когда я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз: «Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?»
Измученный утром греблей, а после полудня ходьбой, я спал таким мертвым сном, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но от повторявшегося оклика: «Робин Крузо, Робин Крузо!» – я наконец очнулся и в первый момент страшно испугался. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего Попку. Конечно, я сейчас же догадался, что это он меня окликал: таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту фразу, и он отлично ее затвердил; сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и долбит: «Бедный Робин Крузо! Где ты? Где ты? Как ты сюда попал?» – и другие фразы, которым я научил его.
Но, даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что, кроме попугая, некому было заговорить со мной, я еще долго не мог оправиться. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но когда я убедился, что это не кто иной, как мой верный Попка, то, не долго думая, я протянул руку и назвал его по имени. Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова заговорила: «Бедный Робин Крузо! Как ты сюда попал? Где ты был?» Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унес его с собой.