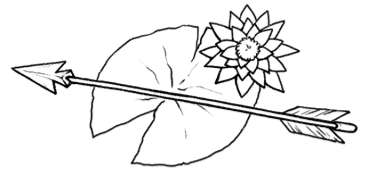Дарина Александровна Стрельченко
Всё зло земное
Глава 2. Матушка-царица зовёт
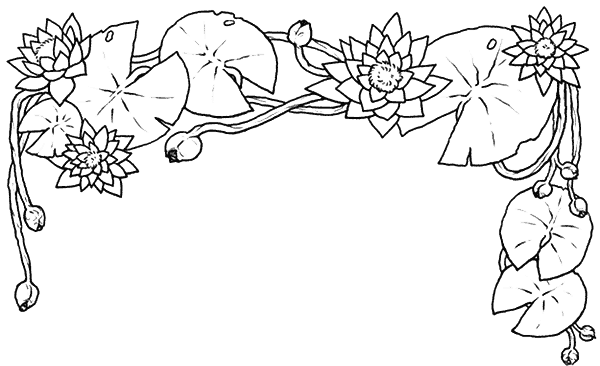
День подошёл к полудню. Поднялся ветер. Онемевшие пальцы так и не отходили – всё казалось, будто ледяная вода кругом. В первый раз когда после свадьбы уходил Милонег в поход – тоже пальцы немели. Обвила Гнева мужа руками за шею, шепнула на прощанье:
– Вернись ко мне невредимым, Милонегушка… Заклинаю.
Качнула головой, отгоняя тоскливые мысли. Кликнула сыновей – младшие тут как тут, а старший, Иван, по-всегдашнему в стороне, не подумал прийти. Ратибор опустился на скамью по правую руку, Драгомир устроился у ног. Гнева положила ладони сыновьям на головы. Ратибор, кудрявый, ясноглазый – царёв сын, тут и леший спорить не станет. Плечистый, длинноносый – точь-в-точь батюшка. Драгомир, неулыбчивый, темноокий, с первого взгляда будто и не царской крови. Но приглядишься – и родинку отыщешь на шее, там же, где у батюшки. И брови густые, чёрные, тоже в царя… Царица погладила Драгомира по голове – будто древесного мха коснулась. Жёсткие короткие волосы, словно у князей из Лесной страны. Тянет младшего к чащобам, к сумраку, к тайным полянам, совсем как её саму. Длинные ресницы, узкие запястья – от неё же, от матери. Вот уж кто с дедом нашёл бы о чём побеседовать…
Вздохнула Гнева. Подумалось, что если б всё вышло, – не сидела б она теперь с ними, не гладила б по волосам. Подняли головы сыновья, глянули участливо, с вопросом.
– Не надобно ли чего?
– Возьми, матушка, коня моего, прокатись – все печали ветром развеет!
– Али свадьбой огорчена? Пустое дело!
– Али обидел кто?
– Свадьба – не горевать, свадьба – радоваться. Идите, сыны мои, посольство встречать. Говорят, книги привезли да камни волшебные семиградские… Идите. Да завтра с утра судьбу свою не проспите.
Сыновья ушли, Иван так и не явился. День покатился к вечеру путаным клубком, надкусанным яблоком. Утих ветер; отшумели под окнами гусляры, дудочники и послы, отогнали на колымажный двор расписную семиградскую колымагу[26]. Усталый царь, весь день толковавший с послами, ушёл в ложницу[27].
Чернавка поскреблась в дверь:
– Изволишь отужинать, матушка?
Гнева отмахнулась, но чернавка – понятливая, даром что молодая – принесла орехов лесных, вишен в сахаре. Сладкая мякоть растеклась по языку – и словно прояснилось слегка кругом, и пальцы наконец и вишнёвую кожу, и ореховую скорлупу, и парчу подушек почувствовали.
– Ивана ко мне позвать, – велела Гнева, когда чернавка явилась забрать плошки.
– Позову, матушка, – кивнула чернавка и выскользнула за дверь.
Гнева выпрямилась, провела ладонью по лбу. Мучили её головные боли; тяготили венец и пышные косы. Когда бывала одна, не прятала их, струились косы по парче и тафте к мраморным плитам, что тихие водопады.
– Ивана позвать к царице! – звонко крикнул слуга-мальчонка.
Гнева расправила плечи, стряхнула с рукава ореховую скорлупку.
– Старшего сына царица требует! – подхватила стража.
– Ванюшку-дурачка к матушке-царице! – полетело по дворцу.
Царь, почивавший уже в ту пору, проснулся, протёр глаза, услыхал, кого да к кому кличут, и зарылся головой в пуховые подушки.
* * *
Отыскали Ивана в конюшне: сидел в пустом стойле, раскладывал стёклышки цветные да камушки. «Малокровненькой, чудненькой», – вздохнула с печалью бабушка-задворенка[28], кроме которой никто в дальние стойла и не заглядывал.
– Иди-ка, милок, к царице. Ждёт тебя матушка.
– Какая она мне матушка, – отмахнулся Иван, выкладывая по руке острые стёкла: у пальцев – красные, будто кровь, по ладони – синие, что морская гладь, к запястью – мелкие, зелёные, что кувшинки.
– Всем нам она матушка, царица наша, – напевно протянула старуха. Лаптями раскидала солому, склонилась над Иваном. – Иди, Ванечка. Не заставляй царицу ждать-поджидать.
Стёкла цветным ручьём ссыпались в карманы. Иван поднялся. Сунул задворенке резан[29] и пошёл из конюшен.
– Кафтан отряхни, милок. Да умылся б ты!
Иван одёрнул полы, провёл ладонями по плечам, смахивая солому. Пахло от него крепко: сладким сеном, конским потом. Но прибраться, умыться? В покоях царицыных напомажено да надушено – поди и не заметит.
Вошёл Иван в чёрные сени. Не снимая сапог, зашагал по лесенкам да коулкам[30], кутям[31] да переходам к широким ступеням, к золочёным царским покоям. У высоких дверей остановился. Вспомнилась матушкина горенка, светлая, с золотой лучиной – той матушки, родимой, оставшейся в памяти запахом таволги[32], тёплыми руками. Вспомнилась – и обернулась туманом из-под дверей царицыной горницы. Про царицу шептались, мол, ведьма облачная, околдовала царя. Так же и про его матушку говорили: ведьма, мол, травяная да провидица. Царь-батюшка поехал по осени, царевичем ещё, стрелу свою искать. Вышла ему навстречу девица: стан – лоза, глаза – звёзды. Года не прошло – появилось во дворце дитя; рос царский сын быстро, лицом красавец, смекалкой скорый. Храбрый, ловкий, письму выучился, с гостями заморскими молвился на чужих наречиях – с теми лишь, правда, кто добраться смог до Крапивы-Града по охваченным войною землям, по Журавлиной дороге, вдоль которой жгли леса и сёла лютые душегубы.
А потом померла матушка, и совсем тёмные времена настали. Батюшка Ивана никуда не отпускал от себя, так и пересидели вдвоём в тёмной горнице зимние вьюги, чёрные метели. Сколько лун минуло, прежде чем окутало стольный град туманом и явилась сизоглазая Гнева. Поразвеялась наконец батюшкина тоска, женился второй раз, родились братья: богатырь Ратибор, красавец Драгомир. Снова батюшка улыбаться начал. Всех сыновей любил, но его, Ивана, – особо. Ему прочил царство, его готовил в наследники. Да только сам Иван слышать не хотел ни о каком престоле, думать не хотел ни о каком венце царском да с царицей новой никак, к батюшкиной печали, поладить не мог.
Толкнул Иван дверь, кивнул коротко, закашлялся от сладкого духа в царицыных покоях: багульник[33], ладан нездешний, свечи дурманящие. Не поднимая глаз, молвил:
– Здравствуй, матушка. В добром ли здравии?
– В добром, Иван, в добром. Заходи. – Царица поднялась навстречу, махнула на обтянутую парчой лавку. – Да дверь поплотней прикрой, ни к чему нам чужие уши.
– Что надобно от меня, матушка? – угрюмо спросил Иван. Лавка была скользкая, холодная, даром что парчу из самой Черёшни везли, а умельцы, что царице горницу убирали, – лучшие во всех Озёрах-Чащо́бах.
– Батюшка женить вас решил: тебя и братьев твоих.
«Снова?» – подумал Иван. Вслух не спросил: от царицы и без того ледяным маревом веяло. Тяжёлые занавеси, медные подсвечники словно роса покрывала.
– И что же?
– Про стрелы-то огненные-родниковые помнишь? – Царица глянула косо. – Те, что в живой воде остужают, а затем в мёртвой?
«Как не помнить. Это ты, видать, матушка, позабыла, что батюшка мне однажды уж готовил стрелу, собирался женить, да невеста до столицы не добралась, заплутала в чаще».
– Помню.
– Даст вам батюшка по стреле. Выстрелите. У кого на какой двор стрела упадёт, тот на той девице и женится. – Царица поднялась, подошла к окну. Провела пальцем по зрительной трубе[34], золотом изукрашенной. – На боярский двор упадёт – на боярской дочери. На княжеский – на княжне. На купеческий – на купчихе.
Иван пожал плечами: женить так женить. С женой ли, без ли, а Гнева его изведёт прежде, чем батюшка царём сделает. Девку только, жену, жаль; ни за что ни про что пропадёт заодно с царским сыном, ежели ещё до столицы доберётся да до свадьбы дотянет. Прежнюю в лесах под Калиной-Градом схоронили; дважды отправлял туда Иван верного Алёшку, стёклышки матушкины на могилу класть.
Солнечный луч, неведомо как пробившийся сквозь царицыны облака, блеснул в золотой пуговице.
– А ты, Иван, – Гнева вернулась к лавке, села рядом; пахну́ло от неё пряным, неземным, зимним, – в болото стрелу пусти.
– В болото? – оторопел Иван. – Какую девицу я на болоте сыщу?
– Никакую не сыщешь, – шепнула царица, и почудилось, что молния змеится по мраморному лицу. – Только лягушку там и найдёшь. Привезёшь во дворец, покажешь. Кто ж тебя на такой женит? А нет жены – какой тебе трон? Будешь в покое жить, братьям преград чинить не станешь. Сам знаешь, Ратибору трон куда больше впору.
– А если батюшка новую стрелу пускать велит?
– Стрелы огненные-родниковые не в один день делаются. А за то время мало ли что случиться может.
Какая царице выгода, спрашивать не требовалось. Старший сын из наследников долой – вот и путь на трон открыт среднему.
Иван оглядел покои: серебро, перлы[35], высокие свечи.
Прохлада да тишина.
– Согласен?
Ледяной лаской веяло от царицы. Злословили про неё, мол, в корчаге с мёдом, из которой царя потчует, нож держит, чтоб лезвие медовой сластью пропиталось и резало б потом, боли не оставляя. Иван посмотрел в царицыны очи, тинные облака: врёт, не врёт? И глянула из них вечность морозная, серая, растянутая в века, с долгим полем под дальним небом.
– На дорогу дадут тебе серебра, дадут хлеба. Конём одарят.
– Что ж не упреждаешь, матушка, чтобы батюшке не проговорился? – усмехнулся Иван.
Царица провела пальцем по губам. Сверкнул прозрачный ноготь – Ивану свело рот, будто иглой зашили.
– Зачем упреждать, коли сам не скажешь? Как подумаешь о таком, уста и замёрзнут, будто княжну ледяную поцеловал. – Смех царицын снежными искрами сыпался. Опустила руку, и по губам словно ладонью ударили: горячо стало, больно и солоно. – Иди. Перо в твоей стреле особое будет, алое, не дивись. С ним мимо болота не промахнёшься.
Иван, не оглядываясь, вышел из горницы. Сбежал по крутым ступеням до чёрного двора, до зелёной травы, до сырой земли.
Упал в усталую мураву, сжал в кулаках стебли. Зарылся лицом в тихие запахи – тут тебе и ягода поздняя, и осень ранняя, и птахи певчие, и золотые цветы, – и затих. Долго ли, коротко ли, перекатился на спину, с тоской посмотрел на высокие окна в тесной горенке под самыми шлемами-куполами. Сколько зим минуло, а помнилось отчётливо, будто намедни[36] было: как светится окошко за хитрым литьём, как матушка выглядывает на двор и птицы небесные слетаются к ней, принося цветы, рассказывая про вёсны. А матушка зовёт – будто самая красивая птица поёт:
– Домой, Ванюша, пора. Поднимайся, царевич мой.
– Страшно, мама, – шепчет Иван: до горенки материнской – десятью десять ступеней тёмных, высоких, и сундуки по бокам, и обрывы, и чёрные скакуны, и сивые[37] оборотни.
– Бери свечу да не бойся, – зовёт матушка.
Иван смотрит в небо, а там стелет закат, и светло ещё совсем, и по брусничному серебру зажигаются звёзды, так, что светлей только матушкина улыбка. А на терем уж наплывают тучи, двор затопил сумрак, от стены подбирается Ночь-Река, и ни огонька во всём царстве.
– Бери свечу да не бойся, царевич мой, – повторяет мать.
Иванушка встаёт, хватает свечу, мчится вперёд по высоким ступеням, слыша звон мечей да молота по наковальне, слыша пожары да битвы, кваканье да рык, пение птиц небесных да шипенье подземных гадов. Бежит, закрывая свечу от ветра, десять ступеней минует, и пятьдесят, и сто, распахивает дверь и вбегает в материну горницу, светлую, тихую. Пахнет там пряниками печатными, тайнами заповедными, книгами золочёными да перьями жар-птицы.
– Храбрый мой царевич, – шепчет мать. Целует в кудри, подводит к окну. Показывает на бескрайние дали, на то, как журавли кличут в червлёном[38] небе, как звёзды опускаются на серебряных нитях так, что в ладонь впору взять, только жгут больно. Показывает, как ходят по той стороне тучи, как алеют за лесом зори и гуляют молнии. – Всё твоим будет, царевич мой.
– Отчего тогда плачешь, матушка?
– Оттого, что не просто так будет, а на крови, на го́ре. Тропами тёмными через леса, дорогами чёрными через Анча́рный край…
Иван прижимается к матери; та берёт его на руки, относит на лавку. Лён и травы наводят дрёму, сквозь сон видит царевич золотые купола впереди, мрачные чащобы, страшные чудеса. Видит, как блестит в материном взоре слеза, тянется к ней, да забытьё сильней, сильней тянет… И падает царевич в тёплый и тихий сон до поры до времени.
…Иван распахнул глаза. Тьма накатывала жадными волнами, обвивала руки травяным дымом. Молчало окно в самой высокой горнице. Царевич встал, утёр лицо рукавом и, не зажигая свечи, пошёл в свою светёлку.

Птица-вестница села на рукав, выпустила из когтей бересту с царским указом – рано поутру умытым-одетым ждать на Серебряном дворе. Выходит, завтра уже стрелять будут по невестины души. Выходит, завтра уж уходить из родного дворца, выстывшего, озябшего за годы, что облачная царица правит…
Лягушку привезти во дворец – как бы не так! В болото-то Иван выстрелит. А дальше уж никакая лягушка не нужна. Стрелу батюшке с соколом отошлёт, лягушка пускай в камышах останется, а сам Иван во дворец уже не вернётся. Никогда. Не станет царём. И никто его не заставит ни воевать, ни судьбы вершить.
Иван скользнул в неприметную дверь. Миновал стражу, прошёл мимо спящих чернавок. Пахло внизу дёгтем, щами, по́том да патокой. Оставив позади людские с конюшнями, Иван завернул в дальние покои в Лебединых палатах, где ещё мать-царица отвела светёлку: вырастешь, Ванюша, тут будешь ночевать. А дни во дворце не проводи, как солнце проснётся, беги на вольный воздух, на луга заливные, на поля бескрайние к речным василькам, к лесным росам. Мне не уйти отсюда, погибну в тереме от травы злой – так хоть ты, Ванюша, беги. А в сумерках только в этой светёлке и будь, сыночек мой. Никто тебя здесь не тронет, никакой злой силе до этой горенки не достать.
В потёмках Иван собрал шёлковые порты, крепкие сапоги, вытащил из-под сундука сушёный горох да ржаные горбушки. В старую рубаху нянюшкиными руками зашито было тридцать три червонца. Три червонца взял Иван, тридцать оставил там же. Свечу в котомку уложил, огниво[39], иглу с ниткой. Чего ещё ему надо? Коня бы нового хорошо – жаль Сметка́ уводить в болота, – да разве царица доброго коня взять позволит? На хлеб да на серебро посулённое Иван не надеялся. Хлеб, может, и даст, да отравленный. Серебром, поди, одарит, да оморочным.
Сел на лавку, глядя, как за окном пляшут тёмные огоньки. Пляшут, дразнят: то ближе подлетят, то к стволам их отнесёт ветром, заплутают в сухих травах. Так и сидел царевич до самой зорьки, а как разлилась по небу алая малина, надел кафтан, закинул за плечи мешок и пошёл на Серебряный двор – изукрашенный, широкий, с коньками крыш, с расписными ставнями. А там уж целая толпа челяди, и ворота открыты, а за ними люда видимо-невидимо: и девок, и бабок, и мужиков посадских. Но ни батюшки с царицей, ни братьев ещё не было. Зато из толпы уж вовсю раздавалось:
– Гляди, старший явился! Чудно́й который.
– Чудной, да ловкий. Пищаль[40], говорят, чужеземную разобрал, а потом свою сумел сработать.
– Не сумел бы, коли батюшка б не заставил.
– На торжище не ходит, с девками не гуляет – как есть чудной!
– Куда ему с девками гулять. О книжках да о пищалях только и думает.
– А батюшка-то в нём всё равно души не чает.
– Холодный он, неживой будто. Ровно для Тени владыкой стать народился…
– Да что вы на сына царского, как не совестно языками молоть! Забыли, как посла-то рыжего спровадил, отвадил от нас иго ихнее?
– Эй, Ванюшка! Что тебе на царском дворе? Приходи ко мне, обогрею.
– Молчи, девка! Срамота какая!
– Рыбная слободка, изба окнами на косогор! Ждать буду, Ваня!
Иван оглядел площадь, торг на горе, дальний лес, березняк под самой стеной дворцовой. Небось нескоро теперь придётся это увидеть. Может, и вовсе никогда. А он и тосковать не станет. Отправится себе, куда глаза глядят. Одна память его тут держит да заветное окно. Память, впрочем, всегда с собой, а окошко то в сердце столько будет светить, сколько сердцу биться.
Обернулся на тяжёлые дворцовые двери – а там как раз братья выходят, ступают по парчовым коврам сафьяновыми сапогами, какие простому люду только на лавку поставить полюбоваться. У среднего – можжевеловый лук, гнутый, крепкий. У младшего – осиновый, гладкий, ладный. У Ивана был лук берёзовый, лучшим умельцем выструганный.
– Доброго дня тебе, брат, – степенно поздоровался Ратибор.
– Здоров будь, братец, – бросил Драгомир.
– Хорошо ли спали, дети мои? – спросила царица, появляясь на крыльце в синем платно[41], бархатном, что ночь, с серебряной пряжкой-месяцем. Белые руки из рукавов выглядывают, что звёзды из туч. Глаза сверкают. Стан – пальцами обхватишь, ещё останется. Весь народ умолк, только бабы закрестились да мужики рты поразевали. Царица тем временем оглядела толпу, приветливо улыбнулась: – Ясного вам дня, люди добрые. Благодарствую, что пришли сыновьям моим доброго сватовства пожелать.
И те, кто царицу любил за щедрые её дары, и те, кто злобствовал втихомолку – змею, мол, царь на груди пригрел, – и те, кто заезжий был, купцы да путники, – все в тот миг души в ней не чаяли, одурманенные шёлковым взором, звонким голосом.
– Доброго здоровья матушке! Долгих дней! – раздалось из толпы.
Царица улыбнулась, приложила палец к губам, указала глазами на дворец – и отошла в тень, верная жена, царёва наперсница. На крыльцо вышел царь. Прямой, будто жердь проглотил, в тяжёлом венце, в соболиных мехах да вытканной золотом рубахе, подпоясанной кушаком. Опёрся царь о посох, острым глазом оглядел сыновей. Кивнул царице, поклонился народу.
– Быстро сказка сказывается, а дело быстрей делается, коли не лытать[42] от него. Благословляю вас, Иван, Ратибор, Драгомир, на сватовство. Берите луки да стреляйте: младший сначала, затем средний, а за ним старший. Нечего ни себя, ни людей добрых, ни нас с матушкой томить.
Зашумела толпа. Коротко поклонился и выстрелил Драгомир: ушла стрела выше бесцветных звёзд, просвистела в тучах – вздохнула царица – и опустилась на двор боярина Миха́йлы. Подняла стрелу Михайлова дочь, тихая Белосла́ва.
Поклонился и выстрелил Ратибор: ушла стрела до самого неба, опереньем тронула облако – вздрогнула царица – и опустилась на двор купца Дани́лы. Подняла стрелу Данилова дочь, статная Велими́ра.
Поклонился и выстрелил Иван. Взмыла стрела к тучам, прошла насквозь, разметала в клочья. Царица покачнулась, прижала ладонь к щеке, будто ножом полоснули. Заструилась меж пальцев кровь; помчалась стрела, той кровью заговорённая, минуя купола да колокольни, луга да пашни, леса да рощи. Сколько текла кровь – столько летела стрела. Наконец Гнева отвела взгляд; упала стрела. Запуталась в осоке, затихла среди камышей.
…Ахнула на болоте Кощеева дочь. Тронула стрелу, вытянула алое пёрышко. Замерла, не веря. Ждала ни жива ни мертва, пока не затрещат подтопленные сучья, пока человечья нога не ступит на кочку. А ведь уж и надеяться перестала.
Кощей. Заря
За широким окном качалась луна, расколотая ветвями. Матушка говорила, луна одна что в Тени, что в Солони. Он же думал, что лун – тьма бессчётная: в каждой тёмной сказке, в каждой были, в каждой ночи – своя. Сидел в её свете, держа на коленях толстые книги. Стоило только раскрыть, как поднимались из переплётов белые птицы и синие всадники, вставали чёрные города и златые дали. Гремели Тенные грозы, шли годы – за сказками, за баснями, за тёмными вечерами. Матушкина ладонь закрывала книгу, матушкин голос звал почивать. Кощей поднимал голову от страниц – на ветках уж покачивалась заря.
Однажды взял книгу – а между листами харатьи[43] цветок вложен: алый, спелый, такой яркий, что смотреть больно. Растут разве такие в Тени? Кощей нахмурился, коснулся стебля.
– Возьми, – улыбнулась матушка.
Кощей взял несмело. Матушка обняла его. Держал Кощей цветок, вдыхал запах зреющего дождя, материных волос, алой сердцевины – и было ему хорошо, хорошо, хорошо…
Былое. Поле
Грохотали пищали, тонко свистела дудка. Шумели ратники, искры скакали по секирам и топорам. Иван и про секиры знал, и про топоры, и про пики; и про обушок[44] рассказать мог, и лук деревянный батюшка ему к трём годам выстругал. Только одно дело было с матушкой в горнице пищали потешные[45]перебирать, другое – в поле без конца и края очутиться, без матушки, без нянюшки, один батюшка рядом, но и он об Иване позабыл будто.
За плечи крепко держал Елисей-наставник, Вышата-воевода изредка поглядывал, теребя бороду, а больше ни одного лица знакомого не было. Иван ёжился в свежей рубахе: неловко было в выбеленном полотне, натирало горло. Елисей крепче сжал плечо, шепнул строго:
– Не егози!
Иван замер послушно, наново оглядел поле. Тьма и тьма была на нём ратников: до самого леса. А может, и в лесу тоже шумели богатыри: ловкие, бородатые, при мечах да луках.
…А как славно с матушкой Иван в лес тот хаживали! Уж лучше б и теперь там гулял. Но батюшка решил на смотр с собой взять – значит, так и быть тому. Прекословить ему даже Вышата остерегался, куда уж нянькам да матушке.
Крикнул что-то батюшка, а через миг загрохотало, посыпались с неба камни. Иван вжал голову, зажмурился, только потом понял: не было никаких камней, а грохот от того пошёл, что ратники засмеялись. Засверкали кольчуги. Принялись стрелять вдалеке из пищалей, и вспорхнули из леса встревоженные птицы. Иван дрожал от всякого выстрела, вспотел в новой рубахе, в тяжёлом кафтане с золочёными пуговками-гирьками – совсем как у большого, матушка сказала, а ничего хорошего в том будто и не было: неловко, испачкать боязно, деревянный меч в ножнах по ноге лупит.
Грозно колыхались знамёна, зычно отзывались ратники на батюшкины слова. Когда совсем рядом зарычали выстрелы, заискрился огонь по травяной кромке, Иван не утерпел, подбежал к батюшке, уткнулся лицом в парчовое корзно[46].
– Ты чего это? – Батюшка едва губы разомкнул, сдвинул брови. – Ну-ка на место вернись!
Иван замотал головой, только крепче вцепился в пояс. Шум стоял, пыль столбом, страх брал от блеска пищалей, от выстрелов и огня. Голо было в поле, ни травинки, и холодно, хотя пекло́ солнце, и чувствовал себя Иван одним-одинёшенькой, хоть и стояла рядом ратников тьма тьмущая, и качались далеко ёлки, и вились под облаками дрозды.
Батюшка подозвал яростно:
– Елисей!
Крепкие руки оторвали Ивана, отвели в сторону. Кто-то принялся усовещивать, леденцы совать. Навернулись слёзы. Домой бы, к матушке, к нянькам на печку, на лужок за дворцом…
– Не егози, Иван!
Звенела сталь, обнажали ратники мечи, блестели на солнце сабли. Батюшка вскочил на коня, понёсся между рядами. Тёмная туча успела пройти, прежде чем он вернулся. Спешился, улыбнулся холодно:
– Ну-ка, Иван, иди сюда!
Иван шагнул вперёд. Те же полки́ на поле стояли, только теперь не на батюшку – на него глядели. Сколько доспехов… Древки у секир как иглы торчат. И совсем не видно за шишаками[47], за топорами лиц… У Ивана самого шишак деревянный то и дело скатывался на нос, давил на макушку. Как же они, ратники эти, в стальных шишаках стоят ровненько? Жарко ведь, тяжко, а хоть бы один шевельнулся!
Подвели тем временем смирную, богато убранную лошадь. Лоснилась шерсть, заплетены были и грива, и хвост. Батюшка подтянул подпругу, похлопал по седлу.
– Хорош!
Иван вспомнил, что лошадь матушка выбирала. Полегче стало на душе. Он доверчиво подошёл, ласково провёл ладонью, куда достал. Лошадь глянула умным глазом, совсем человечьим.
– Как её звать? – спросил Иван, забывая о тревогах.
– Его. Сметко это.
Батюшка подхватил Ивана – тот и понять ничего не успел. Мелькнула земля, мелькнуло небо, дрыгнул ногами в воздухе и очутился в седле. Вцепился в гриву.
– Ну, ну, ишь, как клещ впился. За поводья берись. Ногу сюда ставь.
Вовсе не такой высокой виделась лошадь, пока сам на земле стоял! А теперь словно отодвинулось поле, но небо-то осталось таким же далёким, и завис Иван меж землёй и тучей, боясь шелохнуться. От лошади шло тепло, сладковато и душно пахло сеном. Батюшка взял его ногу – поставить в стремя, – а Ивану показалось, будто падает он, но до земли лететь – будто в бездну… Закружилась голова.
– Сгорбился ижицей[48] перед ратниками! Ну-ка выпрямись!
А ратники шумели так, что поле ходуном ходило. Иван схватился за поводья, батюшка хлопнул Сметка по шее, тот пошёл вперёд.
– Ай! Не надо!
– Что не надо? Али реветь станешь?
Хотел крикнуть: сними, страшно! Захлебнулся ветром. Мухи и радуги полетели перед глазами, всё спуталось, а внутри заклубился, крепчая, страх. Обмер Иван, ничего не видел, только вышагивал Сметко, и копытный звон вместе с кровью стучал в ушах.
– На ратников-то глянь! Ты их царь будущий!
Полно поле было ратников, с которыми отправлялся батюшка на войну с Полове́чьем. Завтра на рассвете отправлялся – а нынче войска смотрел и его, царевича, впервые на коня сажал, показывал войску; так матушка сказывала с утра. Но Ивану казалось, что не на коне он, а в утлой лодочке, шевельнись – покачнётся лодка, и упадёшь в Дверь-Море, в котором утопленники да убитые плавают.
– Да подними голову-то!
Иван поднял. Ветер сдувал слёзы; сквозь пелену разглядел он стройные ряды, но вместо блеска кольчуг чудился рыбий блеск, и голоса сливались в густой гул.
Батюшка поднял руку, враз стихли ратники. На этот раз разобрал его слова Иван, хоть и не всё понял. Спрятаться хотелось или хоть съёжиться, но чувствовал: не простит батюшка. Держась за поводья, Иван проглотил слёзы.
– Защитники Озёр-Чащоб! Глядите на будущего правителя, сына моего, царевича Ивана! За него двинемся завтра в Половечье – за него и за всех детей наших! Не ищем крови, но справедливости ищем. Понесём с собой ярость, сокрушим всех, кто посмеет на пути встать!
У Ивана от батюшкиных слов ком вырос внутри, будто горсть ягод из ледника проглотил. Где-то заржали кони, и Сметко повёл головой. Застучали мечи о щиты. Сердце загрохотало, всё перевернулось, батюшка снова Сметка хлопнул по шее, тот пошёл шибче, побежал, и полетел Иван в тёмную тишину.