
Дарина Александровна Стрельченко
Всё зло земное
Глава 4. Суженая царского сына
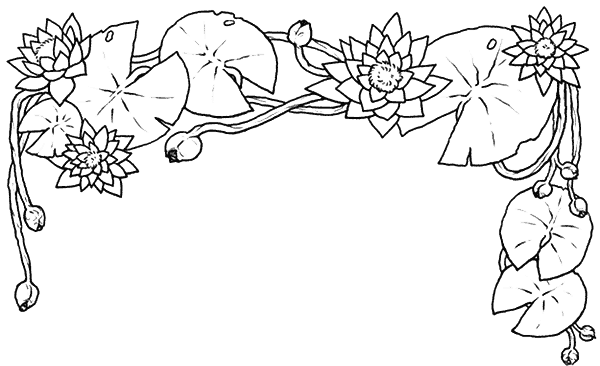
Возвращался Иван к Крапиве-Граду ни печален, ни весел, словно выстыло всё внутри. Как начало инеем покрываться после смерти матушки, так теперь, по пути к болоту, заперлась последняя дверка, замкнулась последняя трещинка в скорлупе. Расстегнул кафтан, вынул из-за пазухи лягушку:
– Ну, глазей, зелёная. Свет хотела поглядеть – гляди.
Лягушка, моргая, зевнула. Квакнула:
– Повыше меня подними, царевич.
Иван поднял.
– Ещё выше, сын царский.
Ещё выше поднял – руки вытянул вверх; лягушка на ладонях покачивается, тяжёлая, а сухая. Когда обсохнуть успела?
– Да назад глазами повороти.
– Назад-то тебе зачем? Крапива-Град вон, за лесом впереди лежит.
Лягушка вздрогнула. Быстро повторила:
– Назад, говорю, повороти, сын царский.
Иван пожал плечами, повернул лягушку лицом к лесу. Если бы смог взглянуть её глазами – увидел бы, как опустила она на мгновенье веки, вновь подняла и глянула в самые чащи, в самые гущи, за топи да тропы, за чёрные облака. Если бы смог проникнуть в её мысли – услышал бы: век вековала в болоте, сотню лет батюшкиного дворца не видела – а стои́т, как ни в чём не бывало, шелестят тени, белые свечи горят в окнах с полуночи до зари. Если бы почуял её холод, её думы – сжало бы сердце ледяной рукой, полыхнуло бы в памяти самым тёплым, окатило бы самым горьким.
Лягушка съёжилась в Ивановых ладонях. Шепнула:
– Унеси меня отсюда, царевич. Унеси как можешь подальше, беги как можешь поскорей. Береги от дворца того чёрного, береги, как зеницу ока. А я тебе, царский сын, пригожусь ещё.
– Ишь, какие лягушки пошли, – молвил Иван. Обернул её в тряпицу, сунул за пазуху. – Ты смотри, не спи там, зелёная.
Вынул из кармана сухарик, вышел, пожёвывая, из леса. У опушки ждал рассёдланный Сметко. Иван оседлал его, подтянул подпругу, взобрался на спину, придерживая осторожно лягушку. Раздавишь – что будет батюшке показать? Потрепал Сметка по холке, тронул поводья.
– Застоялся, конь мой огонь? Долго я ходил, долго. Ну, поскакали домой. Дорогу-то, чай, не забыл, пока травы щипал?
– Забыл, – квакнула из-за пазухи лягушка. – Семьдесят семь седмиц ты по тропам колдовским хаживал.
Иван поперхнулся. Вынул лягушку снова. Посмотрел в громадный блестящий глаз.
– Какие семьдесят семь седмиц? Что говоришь такое? Откуда знаешь это, зелёная?
– Я много чего знаю, чего б и знать не хотела, – вздохнула лягушка. – Но не знала бы – не вывела б тебя из болота. Так и блуждал бы да плутал без клубочка, без ниточки, без надежды. Так бы и помер с холоду да с голоду. Ты оглядись: зима уж давно встала.
Иван огляделся – и вправду будто пелену сорвали. И снег, и грязную оторочку по рукавам заметил; и Сметко отощал совсем… А есть так захотелось, что спасу нет. Достал другой сухарь и в один укус проглотил.
– Доскачешь до дворца – накормит тебя батюшка да обласкает, – с тоской протянула лягушка. – Доедешь до дворца… Доедешь… Авось хватит времени…
– На что? – хмуро, тревожно спросил Иван. – На что времени хватит, зелёная?
– Спать… Спать я хочу, царский сын, спасу нет от Кощеева колдовства. Довезёшь до дворца – разбуди во что бы то ни стало. А сейчас скачи скорей, ночь лесная следом летит.
Сам над собой смеясь («Лягушачьим словам поверил! Лягушачьим страхом испугался!»), пришпорил Иван Сметка и помчался по снежному лесу, по белому царству мимо ледяных озёр, по серебряным рекам, по небесным звёздам. Ни разу не заплутал, за ночь глаз не сомкнул; голод прошёл, и конь не споткнулся, а под рассвет, под рудыми[61] шелко́выми облаками, подлетели к каменным стенам Крапивы-Града. Сами отворились перед Сметком ворота. Иван проскакал сонными коулками, спящим торжищем[62] – даже собаки ещё не лаяли, только нищие жались у изб, бродили ратники калечные да кликуши.
На царском дворе как раз тесто начали заводить, возились у крыльца с вениками чернавки. Влетел Сметко на двор – тихо, пусто кругом, белизна, алоцвет да нарождающаяся синь, – а у Ивана сердце вскачь, вперестук, будто радостью огромной окатило пополам с чёрным горем. Прижал руку к груди, прислушался: колотится, будто втрое. Одно-то понятно: своё. Второе – Сметка, Иван лошадиное сердце всегда слышал, от матушки досталось чутьё. А третье… Неужто лягушачье? Вот ведь сыскал суженую, вернулся на двор с невестой… Да и к лучшему: ещё пуще чудным величать станут.
Соскочил с коня. Крепче прижал руку к сердцу. Мерно вздымалась и опускалась грудь; грело ладонь через кафтан, грело грудь через рубаху лягушачье тельце.
Прошёл Иван выметенной дорожкой к крыльцу. А там ни царя, ни царицы, ни братьев, только серебряный да медный венцы висят, украшенные медовыми маками, пряничными птахами: сыграли уже, видать, и Ратибора свадьбу, и Драгомира. А его, Ивана, выходит, не дождались.
«Семьдесят семь седмиц ты по тропам колдовским хаживал».
– Эй, – тихонько позвал Иван в ворот кафтана. – Зелёная… Правда, что ли, что я год целый плутал и более?
– Ты по сторонам оглядись, не видишь разве? – сонно квакнула лягушка. – Всё правда. А сейчас коня в стойло заведи да иди к себе как ни в чём не бывало.
Иван пошёл по знакомой лестнице: та вроде и не та. Су́кна узорные откуда? Цветы серебряные по точёным балясинам[63] – когда появились? Потолки под арками заморской клюквой расписаны, птицами, облаками. Из палат тепло несётся, золотым пламенем веет…
Только в старой его светёлке всё по-прежнему оказалось. Иван опустился на лавку, бросил мешок в угол. Тот раскрылся; выпали зачерствевшие сухари, плесневелая дичь, что взял в дорогу с пылу-жару. Сморщенным ожерельем упали ягоды, раскатились по полу. Одна ли, две ли угодили в щель.
– Дальше-то что?
– Печь растопи, дай согреться, – квакнула лягушка едва слышно. – Век мёрзла.
– Да кто ж ты такая? – спросил Иван.
Развёл огонь, опустился у печи на колени, лягушку протянул к пламени. Кожица её – тёмная, грязная – обратилась золотистой; открылись глаза.
– Посиди со мною. Дай силы набраться.
Трудно стало дышать, и сырость вокруг чудилась, и мрак. Иван схватил ртом воздух, да тщетно: будто стрелу в сердце вогнали. И увидалось сквозь морок, сквозь тёмные тени, как не то жар-птица плеснула перьями перед взором, не то девица невиданной красоты поднялась под потолок в тихой светёлке. Склонилась над ним, коснулась щеки рукой.
– Прости, царский сын, много у тебя сил отняла. Сейчас полегчает.
И вправду полегчало. Отпустило сердце. Угас золотой свет, опять стало в светёлке предрассветно-бело, ни огненных перьев, ни янтарных звёзд. А вместо девицы сидела перед Иваном лягушка, сморщенная, черноглазая. Иван опёрся о колено, поднялся. Снова почувствовал стылую пустоту: легко стало на сердце, холодно, почти весело. Что батюшке скажет? Придумает. Где год хаживал? Да кому какое дело. Дальше как быть? Поживём – увидим.
Подошёл к дверям. Оглянулся на лягушку, сидевшую у огня. Остерёг:
– В печь-то, смотри, не прыгни. Принести тебе молока, что ли?
– Принеси, Иван, да мёду добавь. Отогрей, позаботься, а там окрепну, колдовать сумею. Может, и помогу чем.
Толкнул дверь – а там царица стоит, лицом черна, одни глаза пламенем горят.
– Уж не чаяла тебя увидеть, Иван.
Иван вздрогнул, отступил. Молвил:
– И я, матушка, не думал, что свидимся. Думал, заплутаю уж на болотах с пёрышком-то твоим.
– Не гневись, – попросила царица, и тучи сошлись над алой зарёй. – Пёрышко моё, наоборот, добраться помогло куда надо.
– Так ли, нет ли, а семьдесят семь седмиц проблуждал, изголодался. Посторонись, матушка, пусти в поварню[64]. А там – сразу к батюшке. Покажу ему лягушку, чтоб в цари более не прочил.
– Лягушку? Ты… привёз? Где?.. – прошептала царица.
– Да вон, притомилась в дороге, спит. Зелёная, говорящая.
– Говорящая, – проронила царица. Судорожно вздохнула.
– Эк твоё пёрышко выбрало, – кивнул Иван. – Из всех болот – колдовское. Из всех лягушек – говорящую!
– Царь по тебе уж и тризну[65] справил, – тихо-тихо молвила царица, так, что зазвенели под небесами ледяные тучи. – Сначала сам ему покажись, что жив… А лягушку после принесёшь.
И то верно. Ежели батюшка его с прошлой осени не видел, не стоит сразу с лягушкой да со стрелой являться.
Иван прошёл мимо Гневы – мрачной, как ночь, прямой, как палка, – и принялся спускаться, чувствуя, как разливается усталость, как дрёмой смыкает очи, будто и вправду семьдесят семь седмиц не ел, не пил, почивать не ложился.
Что же приключилось со мной такое? Что за лягушка на болоте сыскалась? Помоги разобраться, матушка…
Пошатываясь, добрался Иван до поварни. Народу там видимо-невидимо: девки-чернавки, бабушки-задворенки, конюхи, писари, повара. Но Ивана словно никто не видел – Гнева, что ли, постаралась? Зато шептались: мол-де, царский сын старший вернулся, больше года не было, пропал – как в болото канул, ни звука, ни имени, и конь с ним пропал, братья поплакали, батюшка поубивался, матушка-царица слезу жемчужную проронила, а Ивана нет как нет – и нате вам, явился, говорят, под рассвет во дворец.
– С ларцом каменьев.
– С невестой молодой, краше не видывали!
– Страшна, говорят, что лихорадки из Тени.
– А каменья-то из самой Кощеевой пещеры…
– А матушка-царица с лица спала вмиг, как Ивашку увидела! Невестки царёвы заволновались.
– А Иван-то с силой нечистой знался, ступает теперь неслышно, нигде его не видать, если только в тень от лучины не шагнёт, а сам глянет…
– А сам глянет – и конец тебе придёт, Маланья-стряпуха!
– И тебе придёт, и ему, и царю-батюшке, потому как озлобился старший сын в чёрных лесах, сердце ему колдунья лесная закаменила!
– Колдунья? Жар-птица она, говорят, не то волчиха.
– Ишь! Будет у царя невестка-волчица, куда как хорошо царству!
– Царству-то ладно. Ты о Ванюшке подумай – каково с волчицей-то, а?
Иван пробрался к печи, налил тёплого молока в плошку, достал из короба сухую краюху. Сел у тёплого белёного бока, поел. Прошёл обратно меж дворни, зашагал к царским покоям.
* * *
А в то время как Иван завернул к спящим переходам у батюшкиной опочивальни, Гнева вздохнула у дверей в его светёлку да и вошла внутрь. Всё здесь хранило память о Яроми́ле, прежней царице, накрепко засевшей у Милонега в сердце. Светло было, и тихо, и ласково, но всякий раз, проходя мимо, думала Гнева, что словно по льду ступает. Поднималась чёрная скорбь в сердце, тяжкая вина. Никуда было от них не деться во всех Озёрах-Чащобах, но здесь, у горницы Яромилы, хлеще, злей становились, совсем бывало невмоготу…
Вот только в этот раз иначе было. Тишина стелилась по брёвнам, а из углов шелестел ветер, и прохладная тьма шла от те́льца, лежавшего у печи. Гнева подошла, склонилась… Лягушка открыла глаз – чёрный, выпуклый, что ягода ежевики. И жарче, чем на болоте, захлестнуло волной, сжало сердце: оттуда! Из Тени!
– Ты из Тени, – хрипло, через силу молвила Гнева. И вырвалось отчаянно: – Ты из Тени явилась, лягушка! Как? Я тоже хочу! Забери меня!
Лягушка подпрыгнула, в глазах заплескалась муть. Квакнула:
– Ты кто? Ты как про Тень проведала? Тебя Кощей подослал?
Гнева хотела было ответить, да не успела: лягушка подскочила к окну, ударила головой в слюдяное стекло, норовя разбить да выпрыгнуть.
– Стой! Замёрзнешь в снегу! Не от Кощея я! Выслушай! – взмолилась Гнева.
Лягушка замерла. Гнева протянула к ней руки. Дрожащими пальцами принялась перебирать в воздухе, будто ткала:
– Выслушай! Не вру я… Знаю я Кощея… – Слёзы навернулись: столько лет имени этого вслух не произносила. – Но не от него я пришла… Лягушка! Я век назад из Тени сюда попала. Плохо мне здесь! Одна я! Век ищу, как домой добраться. Что только не пробовала. Узнала, что на болоте ключ. Но ничего я там не сыскала! Кроме тебя!
Лягушка затаилась в тени, слушая. Гнева опустилась на лавку, обхватила себя руками. С болью договорила:
– От тебя Тенью веет. Я… Ивана заставила тебя привезти…
Лягушка перепрыгнула с окна на лавку. Вгляделась в Гневу. Мрачно, низко произнесла:
– Тенью, говоришь, веет? Оттого от меня Тенью веет, что я Кощеева дочь. А ты кто?
– Кощеева… дочь… – прошептала Гнева. Ахнула.
Вспомнила сад в Темень-Горах, Го́рин смех, Зла́тины песни. Прижала ладонь к губам. Занесла руку – до того хотелось хоть так, хоть сквозь лягушачью кожу до дома дотронуться. Опомнилась, сжала кулак.
Лягушка качнула головой. Повторила:
– А ты – кто?
– Гневой меня кличут, царёва жена я. Батюшка мой, Мстисла́в, в Тени живёт… И я вернуться хочу домой…
– Как же ты в Солонь попала? – раздумчиво спросила лягушка.
– Не знаю, – прошептала Гнева. – То ли случайно, то ли батюшку твоего чем прогневила.
– Вот и я его прогневила, а чем – не знаю, – угрюмо кивнула лягушка. – Запер он меня на болоте век назад. Превратил… – она брезгливо, с ненавистью встряхнулась, – в это.
– А ты… вправду человек?
– Василиса я, Кощеева дочь! – толсто[66] квакнула лягушка, и Гневе почудились в кваканье звон тёмных колоколов, перекаты Тенных рек. – Всё, чего ждала весь век на болоте, – чтобы разрушил кто его колдовство, чтоб пришёл за мной, чтоб забрал!
– Вот и забрал тебя Иван. По моей указке, – тихо сказала Гнева. – И колдовство разрушил огненной-родниковой стрелой. Кузнец наконечник в живой воде и в мёртвой закалил, а после я поворожила над пёрышком. Вот и вышло колдовство разбить. А иначе бы не смог Иван с тобой заговорить, не смог забрать. И назад бы не выбрался.
Лягушка задумчиво молчала. Гнева водила пальцем по узору на парчовой подушке, едва сдерживалась. Всё внутри горело пламенем. Вот он, рядом – ключ к дому! Только какой странный… Дочь Кощеева… Случайно ли, что она и была последней, кого Гнева в Тени помнила?
– Василиса, – медленно проговорила Гнева, глядя в сторону. Боязно, тревожно было от мысли, что зелёная, в буроватой коже лягушка и есть Кощеева дочь, царевна Тени, Васёна, которую в колыбели плетёной качали в саду в горах, на лошадку на деревянную сажали. – Если ты из Тени сюда, в Солонь попала через Край-Болото… Выходит, там и обратно можно попасть?
Всё замерло – будто и птицы утренние медлили запевать, и гусельники под окнами призадумались, ждали, пока лягушка ответит.
– Можно, пожалуй, – откликнулась Василиса. – Да не знаю как.
Гнева, помертвев, подалась вперёд:
– Теперь не знаешь – может, потом поймёшь? Как придёшь в себя, как силы появятся?
Лягушка засмеялась хрипло:
– Сил у меня и вправду нет. Батюшка ко мне недавно являлся, сонных чар наложил. Да и болото силы тянуло. Я бы сама рада в Тень вернуться да спросить у батюшки: за что меня наказал? – Глаза у лягушки сверкнули; показалось на миг, что тёмная девица поднялась в светёлке, разлетелись по углам тени.
– Вот только рано мне туда возвращаться. Такой, какая сейчас, батюшка меня вмиг обратно в болото спрячет. – Лягушка сникла, снова стало светло, тихо вокруг. – Да и не знаю как. Не знаю.
– И я не знаю, – глухо отозвалась Гнева, глядя в туман за окном. – Всё перепробовала, что могла. Край-Болото последней надеждой было.
– Про него-то ты как узнала? Или тут на торжках про границу Тени с Солонью лясы точат[67]?
– Сказку прочла в Тенеслове, в царской книжнице, – так же глухо объяснила Гнева. Чудилось, будто жизнь из неё выпили. Последними крохами, последними искрами жила – надеждой, что Иван привезёт лягушку, а та научит, подскажет. Лягушка же – сама жалкая, слабая и дремотная, – тем только и была хороша, что шло от неё тихое дыхание Тени, баюкающее, родное.
Гнева закрыла глаза.
– Гнева, – услышала как из далёкой дали. – Ты колдунья? Верно я поняла?
– Верно…
– Помоги мне, Гнева. Напусти тумана, укрой от батюшкиного взора…
– И так тебя тут никто не найдёт, – тяжело ответила Гнева. – Я, как царицей стала, весь дворец да посад чарами опутала. Плохо в Солони ведьмам, приходится прятаться. А всё равно слухи ползут… – Гнева махнула рукой, криво улыбнулась: – А колдовать-то хочется, руки без этого жжёт. Но пока мы во дворце, никому до нас не добраться, ворожбы не заметить: ни волхвам здешним… ни батюшке твоему. Будь иначе, так, может, и забрал бы меня, если б хватился.
– Я ведь и сама в Тень вернуться хочу, – тихо квакнула лягушка. – Только если сейчас меня батюшка найдёт – вдруг обратно посадит? Не хочу… Не хочу в болото!.. – Раздулась лягушка, выкатила глаза, задышала часто. Жалкая, уродливая. – Поможешь мне тут, при тебе задержаться, окрепнуть – и я тебе помогу, коли узна́ю, как домой попасть.
Гнева предложила хмуро:
– Коли ты чувствуешь, что батюшка тебя ищет, коли слышишь его – спроси, как мне вернуться!
– Он меня слышит, не я его, – ответила Василиса. Хрустнул в печи уголь, разломилась ветка. Красный всполох блеснул в лягушачьих глазах. – А я чую только, что зол он… что испуган, растерян… что печалится обо мне.
Прогорела ветка. Василиса и Гнева глядели в огонь, каждой корзились[68] знакомые тропы, заветные уголки. Гнева видела рыбацкий город на берегу Дверь-Моря – там, где рыбаки души заложных покойников[69] сетями вытаскивают. Василисе чудился просторный дворец в Темень-Горах; глядела она, как Ночь-Река зажигает огни на башнях, как выходят батюшка с матушкой на крыльцо… Щёлкнул ещё один уголёк. Очнулись обе.
– Вот что, Василиса, – сплетя пальцы, проговорила Гнева. – Я тебе помогу во дворце остаться. Но взамен поклянёшься Дивной Клятвой, что вернёшь меня в Тень.
Надвинулись облака, грянула по рассвету метель.
– Клянёшься, Кощеева дочь?
Хлынула серебряная заря, повеяло багульником, чернорецем[70].
– Клянусь, Гнева.
* * *
Опасаясь, как бы и батюшка его мимо глаз не пропустил, Иван стукнул медным кольцом о двери царёвой горницы. Послышались шаги, кряхтенье. Старая Шанежка мяукнула, когтями поскреблась о створку. Иван прислушался, разобрал батюшкино: «Тише, Шанежка, тише». Вот уж не думал, что снова тут оказаться придётся. Уйти ведь хотел навек. Ишь, лягушка с толку сбила, воротиться решил…
Дверь распахнулась. Шанежка выскочила, зашипела, но тотчас умолкла, принялась тереться об Иванову ногу. А царь как застыл столбом в дверях, схватившись за грудь, так и не двинулся, пока Иван не взял его за руку, не окликнул:
– Батюшка! Я это, Иван. Стрела моя в болото угодила, когда по невестины души с братьями стреляли. Болото, видать, колдовское попалось, заплутало меня, вот я и бродил там семьдесят семь седмиц. А теперь вернулся.
– И… ван… – вымолвил царь, закашлялся, глядя на сына как на покойника ожившего. Дотронулся до Ивановой щеки.
– Полно, батюшка. – Иван сжал отцову руку, через силу улыбнулся. – Вот я, живой. Мало ли какие чудеса на свете бывают. Ну, поплутал по болотам, – главное, цел остался.
– А стрела… что? – спросил царь, припав к стене.
Иван усадил батюшку на лавку, сел рядом. Только теперь заметил, как тот поседел, как морщины сошлись на лбу, уже не расходятся. Шанежка вспрыгнула на колени, начала мурлыкать, баюкая страхи.
– Стрела-то… – задумчиво протянул Иван. Не хотелось огорчать батюшку. Но, молчи не молчи, правда всё равно выплывет. К тому же – не сам ли согласился пёрышко царицыно взять, в болото выстрелить? – Стрела лягушке попала, батюшка.
Царь охнул.
– Лягушку я привёз, чтоб ты убедился, – быстро проговорил Иван. – И, выходит, не быть мне царём с такой суженою. Отпусти из дворца.
Царь откинулся на узорчатую полстину[71] поверх брёвен. Глянул на Ивана пустыми очами. Крикнул:
– Опять за своё? Не бывать такому! Новую стрелу закажу!
– А как же сам говорил, что стреле не перечат? – осадил Иван. – Батюшка, разве не видишь – раз такое дело, не быть мне царём! Братья мои…
Царь тяжело поднялся.
– Это мне решать, кому быть, кому не быть. Я сказал – новую стрелу закажу. Я сказал – заново стрелять будешь! Новую суженую найдёшь.
– Третью, что ли? – скривился Иван, вскочив с лавки. Шанежка отлетела в сторону, зашипела. – Кто ж три раза стреляет?
– Я дважды стрелял – ничего! И ты трижды выстрелишь – не сломаешься! – стукнув кулаком по лавке, прогремел царь. – Сын вернулся! Первенец! Наследник мой, память моя, надежда! И опять за своё! Вон! И на глаза мне не попадайся, покуда не одумаешься. А стрелу сегодня же закажу!
На шум набежала стража. Царь глядел безумно, тряс бородой. Стражники подступали, выныривали из тайных дверок. Иван бросился прочь, выскочил из опочивальни – а там снова царица поджидает, отделилась от стены тенью, скользнула к нему.
– Лица на тебе нет. Что такое?
– Обманула? Обманула меня? – зашептал Иван, нависая над Гневой. – Говорила, батюшка царём не сделает, коли лягушку во дворец привезу?
– Что? – бледнея, спросила царица. – Что Милонег сказал?
– Сказал, новую стрелу закажет!
Царица вскинула руки, защищаясь; закрыла глаза на мгновенье, а когда открыла – глянула на Ивана белизна безвременья.
– Тише. Тише, Иван! – велела Гнева звонким ледяным голосом. – Я знаю, что делать. Не обманывала я тебя. А чтобы было, как ты хочешь, – иди к батюшке и скажи, что не нужно тебе ни другой стрелы, ни другой суженой. Скажи, женишься на лягушке. Батюшка возразить не сможет: суженую стрела выбрала, со стрелой не спорят. А уж коли жена у тебя будет лягушка, царём точно не станешь: бояре с купцами заропщут, пёстрая власть[72] тем паче не допустит. Соседи обсмеют, решат, совсем царь Озёр-Чащоб ума лишился, новой войной под шумок пойдут… Нет, не сделает тебя батюшка царём.
Иван втянул воздух, глянул на царицу. Жуткое дело Гнева предлагала, но и вправду: его и без того чудным кличут, а коли на лягушке женится – точно дураком назовут али безумным. Тогда уж батюшке волей-неволей придётся от мысли своей отказаться…
Обернулся. Рывком распахнул двери, вошёл к царю. Тот стоял, прислонившись к стене, всё ещё в ночной рубахе, белый как полотно. Дрожащим голосом прошептал:
– Что тебе, Иван?
– Не хочешь по-доброму, не хочешь по моей воле, – по-дурному будет: женюсь на лягушке, – рубанул Иван. – Она моя суженая, её стрела выбрала – на ней и женюсь.
Брызнуло в окна солнце.
– Ваня! – вскрикнул батюшка. – Что ж это за царь будущий, у которого жена – лягушка?
– Вовсе это не царь, – зло, весело ответил Иван. – Вовсе это не царь никакой, не бывает таких царей!
И пошёл прочь с колотящимся сердцем. Показалось, будто матушка с укоризной шепнула: зачем так с батюшкой, Ваня? Иван бросился вверх, перешагивая по три ступени. Вбежал в светёлку. Затворил дверь, а там и ярче, и темней словно, чем всюду во дворце, и стыло, и жарко.
Лягушка нежилась у огня. Иван сел рядом, с ужасом поглядел на тёмное тело. С оторопью подумал: неужто и вправду на ней жениться? А лягушка приоткрыла глаз, слабо квакнула:
– Спасибо тебе, Иван, за помощь. Придёт время, и я тебе помогу, и я тебя в своих покоях попотчую по-царски. А пока ложись почивать. Утро по́зднее утра раннего когда плоше, а когда мудренее.
– Твоя правда, – прошептал Иван, привалился к брёвнам, да так и уснул сидя, приняв на себя последние отголоски Кощеевых сонных чар.
Василиса вспрыгнула на окно, сквозь мутную слюду вглядываясь в Крапиву-Град. Дымил за мостом пушечный двор, отливал каменный дроб[73]. Развевались повсюду царские знамёна. Смотрела Василиса, как валит густой дым, ждала, пока царевич проснётся, гадала на день грядущий по птичьим чёрточкам… Так и начали жить во дворце Иван – царский сын и лягушка из Край-Болота.
* * *
А тем временем в дальней горнице гладила Гнева Милонега по седым волосам, шептала:
– Тише, тише, сокол мой. Всё ж таки больше года по болотам, по лесам плутал, кто знает, с кем водился. Может, чары кто навёл, помутил разум. Тише… Дай сыну в себя прийти.
Царь тяжело дышал, сплетал, расплетал пальцы.
– Гневушка… Надежда он моя. Память о Яромиле. Всё в нём есть, чтобы царём стать, чтобы Озёра-Чащобы укрепить, защитить, силу умножить. А он…
– А он пропал, схоронен был да ожил, лягушку привёз и в жёны её взять хочет. Точно ли, батюшка, такой царь нужен царству?
– Не знаю, – прохрипел Милонег. – Не знаю, что делать теперь.
– Я знаю, – тихо откликнулась Гнева. Взяла в руки его ладонь, коснулась губами. – Стрелу новую закажи непременно: лягушачий век короток. Глядишь, пока стрелу делают, околеет эта болотница. На Ивана не напирай, не неволь. Позволь делать что хочет, сыграй свадьбу – авось сам вперёд опомнится. А кроме того… – Гнева вздохнула, выпустила ладонь Милонега. Отвернулась. Глядя на полстину, на которой вытканы были царь с сыновьями, сказала: – Окромя того, вспомни, сокол мой, что есть у тебя ещё два сына. Взрослые, разумные, такие, что голову за царство сложить не побоятся и править, коли доведётся, станут крепкой рукой, добрым сердцем. Вспомни, сокол мой.
Царь тоскливо глянул на полстину. Выпрямился, опёршись на посох. Поднялся.
– Верно говоришь, Гнева. Так тому и быть. Только темно. Темно-то как на душе.
– А ты посмотри на двор, – попросила Гнева. Шагнула к окну, отдёрнула занавесь. – Посмотри… Снежень[74] кончается. Скоро лёд пойдёт, поплывут корабли. А там – весна со снегами, с таяньем, с лебедями… Светлей будет.
Царь тяжело подошёл к окну, встал рядом с царицей.
– И правда. Поплывут корабли.







