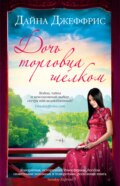Дайна Джеффрис
Ночной поезд на Марракеш
Глава 7
Вцепившись в руку Ахмеда, Викки пробиралась через толпу людей, устремившихся к арочному центральному входу на рынок, где, по словам Ахмеда, торговали уже много веков. Они шли по пыльным лабиринтам проходов, затененных скрещивающимися над головой пальмовыми ветвями, и Викки начало немного угнетать подобное столпотворение.
– Что-то я сомневаюсь насчет рынка, – сказала Викки.
– Все нормально.
Его улыбка должна была успокаивать, и вообще он казался очень расслабленным, но Викки уже была на грани паники. Удушающий зной казался невыносимым, и она вытирала пот со лба, пытаясь сориентироваться в этой сумятице образов, звуков… и запахов! Запахов специй, табака, верблюдов, мулов, человеческих тел, канализации.
– Ты должна попробовать заблудиться. Так будет веселее. – Увидев растерянное лицо Викки, Ахмед рассмеялся. – Да не волнуйся ты! Я с тобой.
Викки категорически не устраивала идея заблудиться. Она пыталась быть по мере сил осторожной, но это суматошное место таило угрозу. А сейчас ей нужны были порядок и предсказуемость. Отнюдь не это.
На рынке можно было найти все, чего душа пожелает, начиная с консервированных лимонов, куркумы, тмина, незнакомых специй, мяса и птицы и кончая одеждой и предметами меблировки. Викки немного расслабилась, ей сразу захотелось все потрогать, за исключением, конечно, выложенных в ряд овечьих голов – от отвратительного запаха у нее скрутило живот. Отпрянув, она увернулась от запряженной осликом повозки и столкнулась с оказавшимся у нее на пути молодым человеком, который под дружный смех толпы повалился навзничь на мешок с зерном.
– Merde! Вот дерьмо! – пробормотала себе под нос Викки.
Крайне недовольная собой, она сердито посмотрела на парня, поставившего ее в неловкое положение на глазах у Ахмеда.
– Привет! – растерянно заморгал парень.
Его приятель оперативно помог ему встать на ноги.
Парень, которого Викки сбила с ног, был примерно одних лет с ней, наверняка англичанин, с копной длинных рыжеватых волос, веснушчатым лицом, в очках в проволочной оправе, закрывавших близорукие ярко-голубые глаза.
– Прошу прощения. – Запоздало вспомнив о хороших манерах, Викки перешла на английский.
– Вот так-то лучше, – с улыбкой сказал парень, отряхиваясь. – Ты всегда такая несдержанная?
– Да, если кто-то будет стоять как пень у меня на дороге, словно он заблудился.
– Я вовсе не заблудился. А ты?
Викки помотала головой:
– Я здесь с Ахмедом. С ним уж точно не заблудишься.
– Ну, тогда ты должна следовать за ним хвостом. – Он обезоруживающе улыбнулся. – Я Джимми. Джимми Петерсен. А это мой друг Том Гудвин.
У Джимми были добрые глаза и интеллигентное лицо, и тем не менее он выглядел как типичный любитель травки в «вареной» футболке. Викки вдоволь насмотрелась на таких в Лондоне. В отличие от него, Том был серьезным молодым англичанином примерно двадцати трех лет со сногсшибательной внешностью: пепельный блондин с глубокими темными глазами на загорелом лице.
– Привет, – кивнула Викки, сразу почувствовав влечение к этому парню.
– Том – политический журналист, – объяснил Джимми.
– Викки, – представилась она, по-прежнему не сводя глаз с Тома. – Викки Боден.
– Француженка? – поинтересовался Том.
– Меня, наверное, выдает мое имя.
– Ну да. А еще легкий акцент. Ты здесь на каникулах?
– Не совсем. Я здесь с особой целью.
Том поднял брови и, на секунду замявшись, сказал:
– Послушай, вечером мы встречаемся с ребятами в местном баре.
– О?..
– Тебе тоже стоит прийти. Познакомишься с нашей компанией. Где ты остановилась? Мы за тобой заедем.
– Я ведь тебя совсем не знаю, – замялась Викки.
Она всегда тяжело сходилась с людьми, но грех было упустить такой шанс.
Уголок рта Тома насмешливо пополз вверх.
– Уверяю тебя, мы не кусаемся.
Викки смущенно потупилась, не зная, что сказать. И тут в разговор вмешался Джимми.
– Ахмед нас знает, – ухмыльнулся он. – Честно говоря, Ахмед знает тут практически всех. И если придешь, ты тоже будешь всех знать.
Ахмед улыбнулся, весьма загадочно. Викки не поняла, это розыгрыш или нет, но дала адрес Этты.
– Мы с Томом снимаем комнаты у Джамала, чуть в стороне от твоего дома, – сказал Джимми. – Всего в нескольких минутах ходьбы. Увидимся позже.
Когда молодые люди затерялись в толпе, Викки с Ахмедом направились вперед. Они прошли мимо плотной завесы из шелковых нитей, свисающих из разноцветных мотков – фиолетовых, оранжевых и желто-зеленых, мимо шелкопрядильщиков и красильщиков шелка и добрались до больших складов, где торговали коврами, совсем тонкими, сотканными вручную, и толстыми, с мягким блестящим ворсом, удивительно приятными на ощупь; ковры или лежали высоко на полках, или были развешены в зависимости от цветовой гаммы.
Несмотря на постоянные отвлекающие моменты, Викки твердо придерживалась первоначального плана покупок и, по совету Ахмеда, отчаянно торговалась. Сбив втрое запрашиваемую цену, она в результате купила синюю шаль с продернутыми сквозь ткань серебряными нитями, две узорчатые подушки – оранжевую и розовую, – латунную лампу под фиолетовым стеклянным абажуром и, наконец, зеркало, без которого тщеславная Беатрис не могла прожить даже дня.
Вспомнив о высокой светловолосой кузине, Викки тут же спросила себя, понравится ли той Марракеш. Стоило приглашать Беа сюда или со стороны Викки это было проявлением эгоизма? Беа, инфантильная и беспомощная, в этом походила на свою мать Флоранс, которая тоже вечно витала в облаках и отличалась удивительной непрактичностью. Тетя Флоранс писала романы, и ее интересовало лишь творчество и выращивание овощей. Тем не менее кузины отлично ладили, и Викки, решив отправиться в Марокко, с удовольствием пригласила Беа, но из-за путаницы с билетами в путешествие они отправились в разное время.
Викки посмотрела на Ахмеда, терпеливо ожидавшего, когда она выйдет из глубокой задумчивости, и в очередной раз удивилась его олимпийскому спокойствию.
– Можно задать вопрос? – спросила она. – Как тебе удается оставаться таким невозмутимым и всегда в хорошем расположении духа?
– Я довольствуюсь тем, что есть, и меня не интересует успех, – с улыбкой ответил Ахмед.
– А почему нет? – растерялась Викки. – Разве мы не должны стремиться к успеху?
– Нашу судьбу определяет Бог. Мы не хозяева своей судьбы. И пока мне хватает денег на жизнь, зачем суетиться? В отличие от вас, мы не ведем борьбу за существование. Ведь все от Бога. И хорошее и плохое.
– И хорошее, и плохое, – эхом повторила за ним Викки, но, увидев торговца одеждой, тут же отвлеклась. – Ой, я хочу посмотреть на кафтаны! У нас еще есть время?
– Если только недолго.
Викки перебрала все кафтаны, в конце концов остановившись на двух из них, и то лишь после того, как Ахмед напомнил, что они опаздывают на ланч с Клеманс.
«Кафе де Франс» находилось в здании в колониальном стиле, выходящем на центральную площадь, запруженную осликами, страусами и верблюдами. С лотков под парусиновыми тентами торговали лимонадом, женщины, сидевшие на корточках перед большими корзинами, продавали засушенные ирисы и розы. Расставшись с Ахмедом у дверей кафе, Викки поднялась на террасу на крыше, где ее уже ждала бабушка.
Террасу окружали низкие терракотовые стены, возле кофейных столиков лежали синие подушки, муслиновые драпировки защищали посетителей от солнца. Клеманс встала и расцеловала внучку в обе щеки:
– Как тебе вид с террасы?
Викки улыбнулась, раскинув руки:
– Просто сказочный!
Клеманс показала внучке дворец паши, Дар-эль-Бача, возвышавшийся на фоне бескрайнего персикового неба, а затем – шикарный отель «Ля Мамуния».
– Здесь обычно останавливался Уинстон Черчилль, – сказала Клеманс. – Причем, как правило, зимой. Говорят, он любил переходить с балкона на балкон, чтобы ловить подходящее освещение для создания своих акварелей.
– Охотно верю. А что представляет собой дворец паши?
– Тами Эль-Глауи был последним пашой, или губернатором Марракеша, прозванным Повелителем Атласа, и это его дворец. Чуть больше десятилетия назад перед дворцами паши можно было увидеть ряды насаженных на пики отрубленных и засоленных голов. Да и сама центральная площадь имеет древнюю кровавую историю. Джемаа-эль-Фна некогда называли Площадью Мертвых из-за проводившихся здесь смертных казней.
– Боже правый!
– Сам паша был военачальником горных племен, контролировавших торговлю драгоценными металлами, специями и проституцию.
– Значит, он был на стороне колониалистов?
– Естественно. У него была касба в Высоком Атласе. Он сажал в казематы националистов и других врагов, и тем уже было не суждено увидеть свет дня. Касба Телуэт – так она называлась.
Викки, которая совершенно не знала истории Марокко, во все глаза смотрела на бабушку, собираясь расспросить ее подробнее. Однако Клеманс, похоже, закрыла тему.
– А теперь предлагаю спуститься вниз, – сказала она. – Там сейчас попрохладнее. Я уже заказала еду. Овощной салат с кориандром и острыми оливками с тмином. Ну что, тебя устраивает?
Викки все устраивало, и они спустились на первый этаж. Официант провел их к накрытому для ланча низкому столику с узорчатыми желтыми подушками на полу.
– Тебе понравился рынок? – спросила Клеманс.
– Ужасно понравился! Ахмед мне очень помог, – ответила Викки и, взглянув на бабушку, спросила: – А он кто? Я имею в виду Ахмеда.
– Он из берберской деревни. С пятилетнего возраста рос на моих глазах, – спокойно ответила Клеманс. – В детстве он был очень любознательным. Я заботилась о нем, когда умер его отец и семья переживала трудные времена. А теперь он заботится обо мне.
– Вроде телохранителя?
– Ему наверняка понравилась бы такая мысль, – рассмеялась Клеманс.
Ответ был слишком расплывчатым, и Викки, не рассчитывавшая вытянуть из Клеманс что-то еще, решила сменить тему разговора:
– Вы говорили, что постараетесь помочь мне познакомиться с Ивом Сен-Лораном.
– Да, – медленно кивнула Клеманс и, когда официант принес им необычный чайник с водой, объяснила: – Это для ритуала тасс.
– Тасс?
– Мытье рук перед едой. Здесь такая традиция.
Когда им подали еду, за столиком воцарилась тишина: слышалось лишь звяканье ложек о металлические тарелки. Пока Клеманс раскладывала салат, Викки исподтишка изучала ее, пытаясь уловить в бабушкином поведении то, что постоянно ускользало и было недоступно для понимания. В гостях у Этты Клеманс в какой-то момент оттаяла, хотя, возможно, Викки выдавала желаемое за действительное. Возможно, она вовсе не нравилась бабушке, и гордые нотки в ее голосе были всего-навсего игрой воображения.
– Ты можешь рассказать о своей матери? Элиза, если не ошибаюсь? – спросила Клеманс, не дав Викки снова заговорить об Иве Сен-Лоране.
– Конечно. – Викки была немного удивлена; хотя, если она ответит на вопросы Клеманс, та, вероятно, ответит и на вопросы внучки. – Мама в свое время жила вместе с двумя сестрами, в их семье всего трое детей, в департаменте Дордонь во Франции. Но мамины сестры, Элен и Флоранс, уже давно уехали из страны. Мама по-прежнему живет во Франции, хотя и не в нашем старом доме, а в шато моего отчима Анри.
Викки изо всех сил старалась, чтобы при упоминании отчима ее голос звучал все так же жизнерадостно. Она решительно не могла понять, что мать нашла в своем чопорном муже Анри. И считала этот брак предательством. Не то чтобы Анри был нехорошим человеком, нет, конечно, однако он не шел ни в какое сравнение с Виктором, родным отцом Викки. И хотя она не знала своего отца, для нее он был героем Сопротивления, и за последние несколько лет незримая связь с покойным отцом и желание узнать о нем как можно больше лишь усилились. Викки безумно хотелось поговорить с матерью, но сирые и убогие заботили Элизу куда больше, нежели родная дочь.
– Звучит впечатляюще, – заметила Клеманс.
– Полагаю, что да. Во время войны мама была во французском Сопротивлении, но, когда бы я ни спросила об этом, категорически отказывается отвечать. Хотя я понимаю, об этом действительно тяжело говорить. – Викки вспомнила, как прошлой зимой буквально одолевала мать просьбами рассказать чуть больше о Викторе. – В прошлое Рождество я буквально умоляла рассказать мне об отце. И когда она отказалась, наговорила ей… ужасных вещей.
– Мы все иногда говорим то, что не думаем. – (Викки с несчастным видом кивнула.) – А она не возражала против твоего приезда ко мне? – поинтересовалась Клеманс.
Викки не сразу нашлась с ответом. Ей не хотелось признаваться, что Элиза даже не подозревает о существовании Клеманс. Викки подумала о своей матери, такой равнодушной к модным тенденциям и такой несгибаемой, вспомнила их последнюю кошмарную ссору и ее холодные глаза – глаза, которые становились прекрасными, когда она улыбалась. Впрочем, в последнее время она крайне редко улыбалась дочери и постоянно жаловалась, что та слишком много времени проводит со своим дедушкой Жаком. А когда Викки, закончив художественный колледж в Лондоне, сообщила, что, вместо того чтобы провести лето в шато Анри, собирается поехать в Марокко, Элиза взорвалась. Она обвинила дочь в эгоизме, а также в наплевательском отношении к материнским усилиям, затраченным на организацию обедов со старыми школьными друзьями и соседями из Сент-Сесиль и окрестностей. Викки понятия не имела об этой затее матери, да и вообще ни о чем ее не просила, и тем не менее та ужасно обиделась.
– На самом деле мы с ней не слишком близки, – пробормотала Викки.
Удивленно посмотрев на внучку, Клеманс неожиданно мягким тоном сказала:
– Она будет за тебя волноваться. Ведь так?
Викки покачала головой, с трудом сдерживая слезы. Она вдруг вспомнила, как играла с дедушкой Жаком в карты. Дедушка всегда выигрывал, но в качестве утешительного приза обычно угощал внучку восхитительным домашним лимонадом, который они пили за выкрашенным синей краской столом в саду его дома в Сент-Сесиль.
– Значит, дедушка Жак когда-то жил в Марокко. Именно здесь вы и познакомились, да? – Викки посмотрела на бабушку, и та едва заметно кивнула. – А когда вы с ним виделись в последний раз?
– С Жаком? Дай-ка подумать. Это было очень давно.
– Но вы ведь поддерживаете с ним связь?
Клеманс передернула плечами и, положив на тарелки еще салата, перевела разговор на политическую ситуацию в Марракеше, описание которой она закончила словами:
– ЦРУ и французские спецслужбы так и рыщут вокруг.
– Шпионят? А зачем?
– Кто его знает? Наверное, чтобы поддержать режим. Выявить диссидентов. Вот потому-то я и прошу: будь осторожна, от греха подальше.
В разговоре наступила длинная пауза.
Когда они закончили есть, Викки грустно вздохнула.
– Надо же, какой тяжелый вздох, – заметила Клеманс.
Покосившись на нее, Викки осторожно спросила:
– И вы потом так и не вышли замуж? – (Клеманс молча покачала головой.) – Ну, пожалуйста, расскажите, как все было. Почему вы не уехали во Францию вместе с мужем и ребенком? Моим отцом. Почему отправили Жака одного?
Клеманс задумчиво посмотрела на небо и только потом перевела взгляд на внучку:
– Я была очень молода и заключила сделку.
– С кем?
– Со своей матерью.
– Ну и?..
Клеманс промолчала. Ее лицо стало непроницаемым. Она посмотрела на часы и отодвинула подушку. Викки поняла, что разговор окончен.
– Извини, но мне пора уходить. Закажи себе какой-нибудь десерт. Или у вас в Англии это называется пудингом? И пусть запишут на мой счет. Сумеешь найти обратную дорогу до риада? – Не дожидаясь ответа, она решительно встала, и Викки осталась сидеть, растерянно хлопая глазами. – А пока до свидания и береги себя. Желаю хорошо провести время в Марракеше. Ну и конечно, ты в любое время можешь приехать ко мне в касбу. Ахмед регулярно наведывается в Марракеш и всегда заглядывает к Этте. Она будет в курсе и, что самое важное, присмотрит за тобой.
Викки ошарашенно смотрела вслед Клеманс и, чувствуя, как от обиды внутренности завязываются узлом, с силой вдавила кулак в живот. В Марокко у нее еще не было спазмов в животе на нервной почве, и она наивно считала, что справилась с проблемой. После отъезда из дома в Лондон она не раз обращалась к врачам по поводу пониженного настроения, и ей поставили диагноз «депрессия». Она научилась сдерживать свои эмоции, а иначе как объяснить ощущение зияющей пустоты внутри? В детстве она жаждала материнской ласки, на которую Элиза была крайне скупа. Викки знала, что мать ее любит, но при этом категорически не выносит того, что считает эмоциональной индульгенцией, и в результате у Викки в подростковом возрасте усилился синдром недолюбленности. Однако, когда ей было пятнадцать-семнадцать лет, отражение в зеркале никак не выдавало засевшего в груди отчаяния, и мать его тоже не замечала или не хотела замечать. А ее муж Анри, такой обходительный, любящий и, как отчим, никогда не преступающий границы дозволенного, всегда говорил: «Не волнуйся. Это чисто возрастное. Она это перерастет».
Встреча с новоявленной бабушкой должна была помочь Викки заполнить пустоту в душе и компенсировать как отсутствие в ее жизни отца, так и отстраненность матери. Однако сейчас девушка начинала постепенно осознавать, что ей, похоже, не суждено насладиться чувством принадлежности, которого она ждала от знакомства с Клеманс. Глядя на старую площадь перед кафе и думая о бабушке, Викки внезапно поняла, что прошлое ревностно хранит свои секреты и отнюдь не торопится ими делиться.
Глава 8
Клеманс
Трусиха, – пробормотала Клеманс. – Трусиха.
Перед глазами по-прежнему стояло разочарованное лицо внучки. Неужели ей, Клеманс, так трудно было найти для девочки нужные слова? Неужели так трудно было выразить свою радость по поводу счастливой возможности познакомиться с внучкой?! Внезапный прилив зарождающейся нежности стал для Клеманс неожиданностью, но, боясь потревожить лежащие между ней и Викки толстые слои темного прошлого, она просто трусливо сбежала. Правда состояла в том, что Клеманс сообщила Жаку свое новое имя и название касбы. И ничего более. Они не поддерживали отношений.
На секунду она закрыла глаза, молясь, чтобы у Викки хватило здравого смысла соблюдать осторожность. Не стоило, конечно, пугать бедную девочку до полусмерти, тем не менее следовало напомнить ей о необходимости придерживаться правил безопасности. Что для молоденькой девушки будет непросто. В девочке была жажда жизни, и она хотела получить ответы на вопросы, которые даже толком не могла сформулировать. Осторожность явно не входит в число ее приоритетов.
Между тем Клеманс понятия не имела, как приспособиться к столь колоссальным изменениям в жизни. Внучка. Моя плоть и кровь. Учитывая, что Клеманс совсем не знала своего сына Виктора, появление внучки казалось просто невероятным. Клеманс была и не была матерью. И как, собственно, объяснить, какие чувства порождает подобная двойственность?! Но разве в этом причина того, что она разрешила внучке приехать в Марокко?
Клеманс огляделась в поисках Ахмеда и, обнаружив его, поспешно покинула Джемаа-эль-Фна, чтобы наконец обрести покой в стенах родного дома. Она категорически не желала задерживаться в городе и, пока они шли к джипу, лишь коротко кивала при встрече с редкими знакомыми. Эти люди считали ее спокойной, несентиментальной, уравновешенной, но даже по прошествии стольких лет практически ничего о ней не знали. Здесь невозможно было сохранять анонимность, но, по крайней мере, Клеманс могла избегать фамильярности, что она с успехом и делала. В этих краях слухи распространялись быстро, так что нужно было держать ухо востро.
Пока Ахмед вел джип в гору по ухабистой дороге к Имлилю, откуда уже можно было рассмотреть очертания касбы, Клеманс вспоминала их старое фамильное поместье, где в детстве играла с Жаком, дедушкой Викки. Громкий свист или аромат яблок мгновенно возвращали ее к Жаку, с его оттопыренными ушами, озорными карими глазами, тощими мальчишескими ногами и с залихватским свистом, хуже которого она в жизни не слышала. Клеманс любила вспоминать те жаркие волшебные дни, по-прежнему припорошенные звездной пылью даже спустя столько лет.
Ее детская дружба с сыном папиного шофера Жаком, наполовину французом и наполовину марокканцем, хранилась в строжайшем секрете. Клеманс происходила из семьи высокопоставленных правительственных служащих и землевладельцев. И они, и другие французские поселенцы, так же как и их сторонники во Франции, пытались на корню пресечь любые шаги в направлении независимости Марокко и считали марокканцев, цитируя слова отца Клеманс, «грязными невежественными туземцами». Если бы отец обнаружил, что дочь водит дружбу с полукровкой, то немедленно положил бы этому конец и Клеманс снова стала бы такой же одинокой, какой была до знакомства с Жаком. И хотя Викки теперь знала, что Клеманс с Жаком познакомились в Марокко, Жак наверняка не рассказал внучке всю историю целиком.
Когда Клеманс была ребенком, ее воспитанием занималась гувернантка мадемуазель Ламори, довольно ленивая особа, любившая подремать в полуденную жару. И тогда Клеманс выбиралась наружу и, переждав для безопасности какое-то время в розарии, бежала через яблоневые сады, а затем мимо апельсиновых рощ туда, где ее поджидал Жак. Обычно он ждал подругу в небольшой пещере, которую с помощью ветвей мимозы и пальмовых листьев они превратили в тенистое убежище. Клеманс и Жак – им тогда было по восемь-девять лет, оба единственные дети в семье – клялись друг другу в верности и представляли, что они брат и сестра, потому что именно этого хотели больше всего на свете.
– О, Жак, Жак, прости меня! – едва слышно прошептала Клеманс.
Она положила руку на сердце, позволив воспоминаниям о Жаке улечься. Тем не менее совсем другие моменты прошлого продолжали настойчиво всплывать в памяти, да и полученные накануне фотографии не могли не тревожить. Возможно, вам захочется это иметь. Зачем? И что Патрис делал на полпути к горной вершине, где нашел Мадлен? Было ли это простым совпадением? Клеманс сомневалась. Не сумев выкинуть из головы фото сгоревшего кабинета отца, она закрыла глаза, чтобы отключить мысленный образ. Ее секреты умрут вместе с ней.
Вернувшись в касбу, Клеманс в сопровождении собак прошла на кухню, где Надия вручила ей поднос с едой. Оттуда Клеманс направилась во флигель. Поднос пришлось поставить на мозаичный столик у входа, поскольку невозможно было открыть дверь с подносом в руках и при этом проследить за тем, чтобы Мадлен не выскользнула во двор.
Босероны, сопя и фыркая, крутились у Клеманс под ногами. Погладив обоих о голове, она дала им команду сторожить снаружи. Они сели, глядя на хозяйку влюбленными глазами.
– Маман! – позвала она, уповая на то, что ей удастся справиться с матерью так же легко, как и со своими дорогими мальчиками.
Мать не отозвалась.
Поставив поднос, Клеманс прошла в спальню. Мадлен сидела в кресле, перебирая костлявыми пальцами край ночной рубашки. Невозможно было без боли смотреть на эту старую женщину, которая жила, точно призрак, в доме, где всегда чувствовала себя чужой. Клеманс знала, что мать непременно нахмурится, взгляд ее будет метаться по комнате, будто в поисках чего-то знакомого, чего-то такого, что она страстно искала, но не могла найти, и все это под монотонные завывания: «Я хочу домой. Я хочу домой. Я хочу домой». Но, как подозревала Клеманс, дом, куда Мадлен так стремилась попасть, вовсе не был каким-то конкретным местом. Этот дом был ее собственным «я». Той Мадлен, какой она когда-то была. Или личностью, которой она, возможно, когда-то была или могла бы стать, но не судьба. Поди догадайся…
– Я тебя знаю? – спросила Мадлен тонким пронзительным голосом.
Клеманс вздохнула:
– Я твоя дочь. Ты что, забыла?
– Не лги мне. Ты не она. Моя дочь убежала. – Мадлен принялась всхлипывать, раскачиваться туда-сюда, стучать себя по голове и причитать: – Летучие мыши! Летучие мыши!
Клеманс гладила мать по спине, чувствуя под тонкой тканью ночной рубашки костлявый позвоночник и жуткие шрамы. Когда Мадлен, вдоволь наплакавшись, посмотрела на дочь с улыбкой, та промокнула материнские слезы фланелевой тряпочкой и открыла книгу о растениях. Мадлен любила растения. Ей нравилось трогать трясущимися пальцами картинки с розами и дельфиниумами.
Мадлен осторожно прикасалась к страницам книги, словно те были стеклянными. А потом подняла голову и сказала:
– Адель, моя дорогая девочка! Тебе следовало предупредить меня о своем приходе. Я бы приготовила для тебя гостевую спальню.
– Клеманс, маман. Ты разве не помнишь? – Клеманс проглотила ком в горле, стараясь сдержать рыдания; эти короткие моменты узнавания буквально надрывали ей душу, но она улыбнулась матери, незаметно смахнув слезы. – Не волнуйся, маман. Я уже приготовила гостевую комнату.