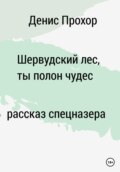Денис Викторович Прохор
Тайна императрицы
– Куды прешь, курвятина. Бемолем поперек диеза. По щам как надвину арфой.
Под сценой арфист пребольно стукнул скрипку. Гвендолин взбежал на сцену и рассеял всеобщее недоумение.
– Народные мотивы, господа, от заграничных артистов.
Гудошники под сценой и мартышки на сцене выправились, и припев спели чисто.
Дорох и Мария.
В это время пани Цибульская наклонилась к мужу.
– Я на минутку Анджей. Освежиться.
Она чинно пошла по проходу, посылая гостям улыбки. Как только она вышла из залы, поведение ее изменилось. Она быстро поднялась и ворвалась в темную спальню.
– У меня мало времени. Говори.
– Ты знаешь, зачем я пришел.
С облегчением Мария открыла сундук и взяла красный плащ.
– Забирай. Мне он больше не нужен.
– А я. А я Анхен тебе нужен?
– Не знаю о чем ты. Меня зовут Мария. Мария Цибульская.
– Пусть так. Мне все равно, как ты себя называешь.
– Оставь меня. Оставь.
– Думаешь, я не пробовал. Думаешь, не пытался. Землю жрал, под пули лез. Не смог. Присушила ты меня. – Дорох попытался обнять Марию- Любишь ведь, любишь.
– Неправда. – Марии удалось вырваться из объятий Дороха. Она горячо зашептала. – Любила. Любила и за любовь свою погибла. Все. Нет меня прежней. И тебя нет. Ничего нет.
– Как ты ошибаешься. Как ты ошибаешься. Как ты ошибаешься.
Когда Дорох спускался, это видели Цибульский и Гвендолин. Они обменялись многозначительными взглядами.
Ночь у Кулебякина .
- Ловко они вас, шельмы! Ах, как ловко. – Кулебякин подлил вина в кубок Бабицкого. Они сидели за столом в доме Кулебякина. Шлецер и Бабицкий были одеты в то, что выдал им подложный прапорщик Истомин. Домотканые длинные рубахи. Кулебякин поставил на стол подставку с пеньковыми трубками и мешочек с табаком.
– Заставы у нас неделю назад все посымали. Москва..Москва..– вздохнул Кулебякин и подсыпал зерна в клетку Пьетро. Он все-таки забрал его с собой.
– Рассказывайте Кулебякин – Шлецер сосредоточенно набивал трубку.
Кулебякин вернулся за стол:
– Началось все с полгода назад. У нас и раньше спокойно не было. Москва она, как чарка хмельная, от нее бежишь, к ней прибегаешь. Разбойнички у нас и раньше лютовали. Но теперь как-то мощно. Как-то регулярней. Что ни день, то купца обнесут, что ни неделя смертоубийство учинят. Как работают – с восхищением проговорил Кулебякин. – Без страха божьего. А Москва она ведь, что женка блудливая. Кнута нет и ее нет. Слухи тогда пошли. Оттого это случилось, что Ванька –каин всех под себя подмял.
– Кто таков? – спросил Бабицкий. Его кубок не оставался пустым.
– Расписываюсь. – тяжело вздохнул Кулебякин. Меня сам император поставил Москву блюсти.
– Бери- сказал. – Кулебякин, Москву. Она мое сердце. Тебе оставляю. А мне без сердца легче.
– Кулебякин, вы как Страшный Суд. Никак не наступите.– Шлецер раскурил трубку.
– Простите, ваша милость. Значит, объявился этот Ванька, когда Ахметку-купца, что на Лубянке рыбой торговал, жгли. С тех пор и повелось, как где злоумышление крепкое случается, там и он. В красном плаще. Как в насмешку над службой государевой.
– Что ж взять не можете раз такой приметный? – поинтересовался Бабицкий.
– Так он ведь, как вьюн скользкий. Не ухватишь. Один говорит, что беленький. Другой, что черненький. То росту гренадерского, то плевком нечаянным зашибить можно. А при последней оказии, у князя, камердинер-скоморох доложился, что это баба была. Совсем Москва разумом оскудела.
– А ярыжки твои чего спят, Кулебякин.– спросил Бабицкий. – Слово и Дело кричать разучились.
– Так ведь не подступиться. У него свои люди озорничают. Непонятно кто. Откуда. В притонах их нет. Краденое не в Москве сбывают. Я бы знал. А так. Верите, сударь, все с ног сбились и сон потеряли. Такой урон делу.
– Что скажете, Шлецер? – спросил Бабицкий.
– Кулебякин действовал разумно. Он- страж порядка и методы его полицейские. Он – человек, а не вершитель, коими заслуженно или незаслуженно мним мы себя, Бабицкий. Тут нужно действовать радикально без оглядки.
– Что вы предлагаете? Уничтожить половину города? – Бабицкий усмехнулся.
Шлецер отложил трубку и внимательно посмотрел на Бабицкого:
– Москва –это фикция, Бабицкий. Впрочем, как и остальной мир. Я с легкостью уничтожу и то и это, при условии, что моя собственная шпага останется в ножнах.
Пристанище отставных боцманов.
Шлёцер и Бабицкий ехали в карете.
Шлёцер говорил.
– Первым делом стоит обозначить свое присутствие . Законное присутствие в этом городе. Злом гении нашего речистого Кулебякина. Раз я ревизор морской коллегии, отчего же не послужить на досуге. Как вы считаете, граф?
– Служение императрице и державе почитаю своим священным долгом.
– Да? Как вам повезло. А у меня от долгов всегда несварение случается. Прямо пучина морская. Кажется, приехали.
Выйдя из кареты, Бабицкий и Шлёцер оказались перед обшарпанным, ветшающим зданием. Внутри их встретил высокий человек в замызганном толстом халате.
– Шлёцер – ревизор морской коллегии. Это граф Генрих Бабицкий.
Высокий человек почтительно засеменил своим гибким от лжи языком.
– Ваше высокопревосходительство. Сердечно рад. Из самого Петербурга. Очень, очень восхищаюсь. А я надзиратель тутошний. Приглядываю по ложечке за сирыми, так сказать, и убогими, если понимать.
– Вы, как я понимаю, к морской службе отношение не имеете? Вы не боцман? –остро, как слуга государев, спросил Бабицкий.
Высокий человек искренне удивился.
– Как не боцман? Я самый настоящий боцман. Самуил сын Аронов Боцман, мещанин из Глухова.
Пришел черед удивляться Бабицкому.
– Что делаете в Москве? Евреям в городах империи селиться запрещено.
– Помилуйте, господин граф. Какие евреи. Я Боцман. Боцман из Глухова.
Он расстегнул ворот халата, из которого выглянул кусочек тельняшки.
Шлёцер заметил с ехидцой.
– Как вам Бабицкий? Боцман из Глухова. Это достойно пера Ваньки-Каина. Что же боцман показывайте свой корабль.
– Сейчас, сейчас, господин ревизор. Где то я… – Самуил похлопал по карманам и выудил оттуда блестящий и длинный свисток на цепочке. Он коротко свистнул три раза. Из дверей, выходящих в холл, начали выбегать люди, выстраиваясь в линию. Шлёцер с Бабицким увидели большое семейство крымских караимов, двух тощих полтавских хохлов с вислыми усами и бараньими шапками, босых калужских сапожников, несколько веселых девок, одного индуса, трех китайцев, куда ж без них. Последним, приковылял на костыле старый, но крепкий инвалид в морской форме. Шлёцер прогулялся вдоль безучастного и равнодушного строя. За ним, как привязанный, шел Самуил.
– Значит все боцманы. Морские волки. Краса и гордость российского флота. – Шлёцер остановился у толстой грудастой караимки, держащей на руках розового младенца.
– Отставлены от службы по возрасту. Пенсионеры. Так получается, господин надзиратель?
Младенец одобрительно мяукнул. Самуил потупил свои крохотные глазки.
– Значит, признаете, что под вывеской государственного заведения, устроили приют комедиантов.
– Каюсь, господин ревизор. Ваша воля казнить меня. Однако. – ударил он себя осторожно в грудь. – Взял грех на душу. Но по доброте своей страдаю. Призрел сироту не по ранжиру. Вот, господин ревизор.
Самуил подвел Шлёцера к человеку в морской форме и отрекомендовал.
– Инвалид Гангутского бою. Одинок в этом мире, без попечения оставлен.
– Не боцман? – спросил Шлёцер.
– Увы. – развел руками Самуил. – Всего лишь бомбардир с фрегата «Святое причастие»… Войдите в положение. Не мог отказать сироте.
Глядя Шлёцеру в лицо, Самуил опустил ладошку в карман Андрея.
– Войдите в положение, господин ревизор. Сказано в писании. Едино с милосердием войдем в царствие небесное. Не помню только, кто точно сказал. – Самуил вновь потупил глазки.
– Это тайна невеликая. Кто-то из ваших и сказал. Из боцманов.
Метода Шлёцера.
Покинув гавань отставных боцманов, Шлёцер и Бабицкий свернули в запруженный народом переулок. В людях и общем настроении чувствовалось приближение Охотного ряда.
– Ваше поведение неуместно, Шлёцер. Я буду жаловаться вице-канцлеру.
– Сделайте отдолжение, граф. Чиркните и от меня пару-тройку поклонов, его сиятельству.
– Вы были обязаны, взять этого жида под арест, а притон закрыть.
– Но он дал мне пять золотых, граф. Я привык отрабатывать свои деньги.
– Я считаю это не профессионально. Принимать деньги, играя роль имперского чиновника.
Напротив, я считаю, что роль чиновника мне удалась вполне…
Шлёцер остановился.
– Боже мой.
Шлёцер и Бабицкий увидели пеструю и шумную торговую площадь Москвы. Тысячи людей, сотни торговых рядов, смешение лиц, национальностей и вер.
– Не понимаю, Шлёцер. Как в этом Вавилоне вы собираетесь отыскать Каина. С ним не справилась вся московская полиция. Что же сделаете вы. Одинокий флибустьер.
– Использую королевский флот, граф. Со всеми пушками, парусами и крысами.
Пчелиные похороны.
Закусило нижнюю губу розовощекое и вихрастое имение губернатора Салтыкова. Два дня назад неизвестная болезнь погубило все семейство колумбийской пчелы необыкновенной. Сегодня хоронили. Впереди траурной процессии выступал сам губернатор. Плотный и низенький. С простецким выражением, за которым скрывалась бездонная трясина. Губернатор шел медленно, склонив голову. Печаль его была неподдельной. Вслед за губернатором четыре гайдука несли гроб, обшитый мрачным бархатом. За гробом парами выступали двадцать родных детей губернатора. Все они были удивительно похожи на губернатора. Прямо одно лицо. Мальчики и девочки. За потомством потянулись гости. Среди них выделялась странная фигура Гвендолина. Шла многочисленная дворня. Процессия вышла в яблоневый сад. Ветви гнулись под тяжестью щедрых плодов. Червяки в париках, пожиравшие яблоки, отвлеклись от этого занятия. Тихо играла музыка. На лужайке в середине сада, покрытой шелковой травой, было приготовлено место успокоения. Остановились. Губернатор снял кожаную треуголку. Кожаные треуголки сняли его дети. Бережно гайдуки опустили гроб. Губернатор махнул рукой. Из рядов гостей выступил худющий, с перевязанными зубами, придворный виршеплет Секретарский. Тяжелым похмельем веяло от него. Он достал несколько мятых листков и зачитал из них. Зубы его стучали. Отнюдь не от возбуждения.
Из праха птаха в прах сошед
Какожды мы. И я, и ты, и коты
Коровы, гуси, пауки.
Собаки, леопарды и жуки.
И бабы, и мужики, и трава, и цветы.
Пельмени тоже умирают, когда в желудке исчезают.
Всё прах един, лишь Бог один. А когда два, тогда беда.
Зело то много для души, хоть во все стороны греши.
– Приканчивай, Секретарский, частушки разводить. Давай, как у немцев. Чтобы гремело и блистало. – сказал губернатор. – Пышноголовую Фелицу давай.
Против воли своего Мецената, пиит не пошел. Исправился.
– О, божья тварь. О, наш крылатый тигр.
Блистающий мечом, что тихо спит меж мирных ягодиц.
Днесь пал ты от неведомой руки.
В одежды черные оделись мы, луга, луна,
И овцы, и быки, и с ними прочие скоты.
Ах, сколько я смогу, готов я гнать мою нуду.
Не спорь. Глаголь мой алкоголь. На помин души ея.
Родимая пчела.
– Оставь, Секретарский. – губернатор вытер слезы. – Выжал досуха. Прощаться давайте. Подходи по одному.
Гайдуки осторожно сняли верхнюю крышку гроба. Все кланялись парчовым подушкам, на которых кирпичом были сложены пчелы. У губернатора был особый извращенный вкус.
– Какая прелесть. – заметила дама, шедшая впереди Гвендолина. – Сразу виден наш губернатор. Созидатель и бескорыстный творец.
– Щедра его рука. – согласился Гвендолин. – И милосердна к просящим.
Гвендолин заглянул в гроб, однако вместо кирпича он увидел выложенный пчелами кукиш. Гвендолин протер глаза. Кукиш шевелился.
– Какая прелесть. – всплеснула руками дама. – Мертвые, ну как живые.
Это было последнее, что удалось сказать ей членораздельно. Потревоженная пчела милости не ведает. На лужайке началось всеобщее смятение. Пчелы не пощадили даже губернатора. Неподалеку под грузной яблоней за происходящим наблюдал человек в красном плаще и фехтовальной маске, скрывающей лицо. Он быстро пересек сад. Прошел в пустой дом. В кабинете князя разбил стеклянный куб. Смахнул осколки с потрепанной кожаной треуголки. Реликвии Салтыкова. Именно в ней был губернатор , когда удостоился собственноручной зуботычины Петра Великого. Спустившись, человек в красном плаще, выскочил из окна на задний двор. Там его ждала привязанная к дереву лошадь.
Разнос Кулебякина.
Кулебякин дожидался вызова к губернатору, созерцая распухшие физиономии Секретарского и Гвендолина.
– Злючая какая пчела пошла нынче. – заметил Кулебякин. – Чинов не признает. Ромашка трехфунтовая лучшее средство от такой революционерки.
– Фто саха стах. – отозвался Секретарский.
– Я не силен в греческом, господин поэт. К соседским яблокам у меня всегда было больше способностей. Но ваше негодование я поддерживаю.
Вышел адъютант. Такой же распухший.
– Фафеякин. Яво сисясество чтёт час.
– Не понял, поручик.
Адъютант молча отступил в сторону.
Губернатор был взбешен. Пароксизмы ярости сотрясали его широченное от пчелиных укусов лицо. Салтыков кричал, размахивал руками, стучал ногой, но что он говорил, Кулебякин не понимал. Переводил губернатора холодный и методичный жук. Его доверенный секретарь. Бестелесный в своем английском парике.
– У вас есть два выхода советник. Или романтическое путешествие в Сибирь на двоих. Вы и эскадрон свирепых туземцев из Эривани в качестве охраны. Либо вы в течении недели представите сего вора в красном плаще. Задействуйте все наличествующие полицейские силы. Привлеките московский гарнизон. Губернатор наделяет вас огромными полномочиями. Не церемоньтесь с этим отребьем.
В этот момент губернатор подлетел к Кулебякину и заорал ему прямо в лицо.
– Фуфеясин. Фы фанимаете хак фета фасна! Сесот вол укал сесусолку.
От напряжения Кулебякин вдруг перешел на губернаторский и проорал в ответ.
– Фесь. Футет фелано сасе фиясество!
Метода Шлёцера (продолжение).
– Отлично. – Шлёцер откинулся на назад, на мягкий валик вольтеровского кресла , в гостиной Кулебякина. Напротив за столом Бабицкий начинял порохом пистолеты. Кулебякин стоял у полок с банками. Пьетро напряженно наблюдал за происходящим.
– Виват отцу родному, губернатору. Теперь мы не сироты, граф. Всем миром будем искать пропащую душу. Держись, Москва! Натянем мы твою Басманку да на наш Адмиралтейский шпиль.
– Спешите, господин Шлёцер. – сказал советник. – Москва – это как семечки. Мешок съешь, а не распробуешь и не наешься.
– С такой-то силищей, Кулебякин. – воодушевился Бабицкий.– Всю нечисть из Москвы выметем. На раз два.
– То не наша цель, граф. Если забыли, мы закон поставлены блюсти, а не законом головы сечь. К тому же вся эта сила ни к чему. Я знаю, кто треуголку у губернатора умыкнул.
Кулебякин снял с полки полупустую баночку.
– Вот гостомысл непроходящий. Капельки хватит, чтобы человека на полдня обездвижить. А то пчелы. Я так считаю, что перестарались вы, господин Шлёцер.
Шлёцер и не думал отказываться.
– Браво! Браво! Господин тайный советник тайной канцелярии. Не ожидал от вас такой прыти.
– Неужели это правда, Шлёцер? Но зачем?
– Я строго следую своей методе, Генрих. Этого Ваньку-каина должны искать все, а найти мы.
– Я должен вас арестовать. Вы по закону вор и вы в моей юрисдикции. – сказал Кулебякин.
– Забудьте об этом советник. Я давно уже только в своей собственной юрисдикции.– Шлёцер бросил на стол потертую кожаную треуголку. – Исполняйте свой долг. Ищите Ваньку-каина. Со всей строгостью ищите. А мы с графом… Скажите, Кулебякин, а кто на Москве самый главный, когда губернатор спит?
– Мишка Животинский. Кто ж еще. Он первейший и подлейший среди воров.
– Полная аттестация. Где же обитает сей бубновый туз?
– Там где и положено. В Чертаново. Где же еще?
– Недурственное должно быть местечко. А что ценности какие дома он держит?
– Я с ним не живу. Знаю, что с крестом не расстаётся, это как корона у них у воровских людей.
В спальне императрицы (продолжение).
Бирон пилил неприступный крючок стальной ножовкой. Работа разгорячила его. Он снял камзол, и пот струился по его лицу. Императрица не шелохнулась.
Шайка Дороха.
Как и положено воровскому атаману, Дорох сидел на перевернутой винной бочке. Скупой свет факелов освещал своды подземелья. Здесь собралась вся его воровская ватага, и Дорох держал перед ней речь.