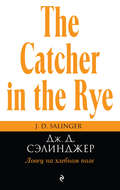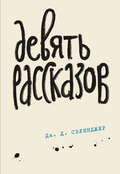Дж. Д. Сэлинджер
Фрэнни и Зуи
– Прошлым летом, чтоб ты знала, он был во Франции, – сообщил Лейн. – Я понимаю, – быстро добавил он, – но ты же очень не…
– Хорошо, – устало произнесла Фрэнни. – Во Франции. – Вытащила из пачки на столе сигарету. – Дело не только в Уолли. Господи боже мой, да это может быть девушка. То есть, будь он девушкой – например, из моей общаги, – он бы все лето писал декорации в каком-нибудь захудалом театре. Или ездил на велосипеде по Уэльсу. Или снимал квартиру в Нью-Йорке и работал бы в журнале, в рекламной фирме. Таковы то есть все. Всё, что все делают, – оно такое, я не знаю, не то чтобы неправильное, или даже гадкое, или даже обязательно глупое. А просто такое крошечное и бессмысленное, и – огорчительное. А хуже всего, что если уйдешь в богему или кинешься еще в какие-нибудь безумства – впишешься так же, как и прочие, только по-своему. – Она смолкла. Качнула головой – лицо совсем белое – и кратко дотронулась рукой до лба: вроде бы не столько проверить, есть ли испарина, сколько убедиться – будто она сама себе родитель, – что нет жара. – Мне так странно, – сказала она. – По-моему, я схожу с ума. А может, уже сошла.
Лейн смотрел на нее с непритворной заботой – скорее заботой, нежели любопытством.
– Ты вся жуть какая бледная. Очень бледная, а? – произнес он.
Фрэнни покачала головой.
– Все в порядке со мной. Сейчас все будет хорошо. – Она подняла взгляд, когда официант подошел с их заказом. – Ой, а улитки у тебя такие красивые. – Она только поднесла к губам сигарету, но та уже погасла. – Куда ты спички дел? – спросила она.
Лейн поднес ей огонь, когда официант снова отошел.
– Ты слишком много куришь, – сказал он. Взял вилочку, лежавшую у его тарелки, но перед тем, как пустить ее в ход, снова посмотрел на Фрэнни. – Ты меня тревожишь. Я серьезно. Чего за чертовщина с тобой происходит последние пару недель?
Фрэнни глянула на него, затем одновременно пожала плечами и покачала головой.
– Ничего. Абсолютно ничего, – сказала она. – Ешь. Ешь своих улиток. Они отрава, когда остынут.
– Ты ешь.
Фрэнни кивнула и перевела взгляд на куриный сэндвич. Слабо накатила тошнота, и Фрэнни тут же подняла голову и затянулась.
– Как спектакль? – спросил Лейн, приступив к улиткам.
– Не знаю. Я не играю. Бросила.
– Бросила? – Лейн поднял голову. – Мне казалось, ты без ума от этой роли. Что произошло? Ее кому-то отдали?
– Нет, не отдали. Только моя была. Мерзость. Ох, это мерзость.
– Ну а так что случилось? Ты же не вообще с кафедры ушла?
Фрэнни кивнула и отпила молока.
Лейн сначала прожевал и проглотил, затем поинтересовался:
– Но, господи боже, почему? Я думал, театр этот зверский – твоя страсть. Ты ж только о нем и говорила…
– Просто бросила, и все, – сказала Фрэнни. – Мне стало неловко. Я вроде как стала таким мерзким маленьким себялюбцем. – Она подумала. – Не знаю. Вроде как вообще хотеть играть – такой дурной вкус. То есть – сплошное ячество. И я, когда играла, себя просто ненавидела после спектакля. Все эти я бегают кругом, такие ужасно великодушные, такие сердечные. Целуются со всеми, везде в гриме шастают, а потом стараются вести себя до ужаса естественно и дружелюбно, когда к тебе за кулисы приходят знакомые. Я просто ненавидела себя… А хуже всего, что мне обычно бывало стыдно играть в тех пьесах, где я играла. Особенно в летних театрах. – Она посмотрела на Лейна. – И роли у меня были хорошие, можешь на меня так не смотреть. Дело не в этом. Но мне было бы стыдно, если б, скажем, тот, кого я уважаю, – мои братья, например, – пришел и услышал, какие реплики я вынуждена говорить. Я обычно писала и просила не ходить на спектакли. – Она опять подумала. – Кроме Педжин в «Удалом молодце»[12] прошлым летом. То есть это было бы очень славно, вот только болван, который Молодца играл, все удовольствие портил. Был весь из себя такой лиричный – господи, как же он был лиричен!
Лейн доел улиток. И теперь сидел с подчеркнуто непроницаемым лицом.
– У него были великолепные отзывы, – сказал он. – Ты же мне сама, если помнишь, рецензии присылала.
Фрэнни вздохнула.
– Хорошо. Ладно, Лейн.
– Нет, я в смысле, ты уже полчаса говоришь так, будто на всем белом свете здравый смысл – только у тебя, и только у тебя есть хоть какая-то способность критически судить. В смысле, ведь если даже лучшие критики сочли, что этот человек играл великолепно, может, он великолепно играл, а ты не права. Такое тебе в голову не приходило? Ты же, знаешь ли, пока не достигла зрелого мудрого…
– Для просто таланта он был великолепен. А если хочешь играть Молодца правильно, нужно быть гением. Нужно, и все – что тут поделаешь? – сказала Фрэнни. Она чуть изогнула спину и, чуть приоткрыв рот, положила ладонь на макушку. – У меня голова так смешно кружится. Не знаю, что со мной такое.
– А ты, значит, гений?
Фрэнни опустила руку.
– Ай, Лейн. Прошу тебя. Зачем ты так?
– Я никак не…
– Я знаю одно – я теряю рассудок, – сказала Фрэнни. – Меня просто тошнит от я, я, я. Своего «я» и всех остальных. Меня тошнит от всех, кто хочет чего-то достичь, сделать что-нибудь замечательное и прочее, быть интересным. Это отвратительно – точно, точно. Мне плевать, что другие говорят.
Лейн воздел брови и откинулся на спинку – дабы лучше подчеркнуть то, что скажет.
– Ты уверена, что просто не боишься состязаться? – спросил он с напускным спокойствием. – Я не очень в этом разбираюсь, но вот спорить готов, что хороший психоаналитик – в смысле, по-настоящему компетентный – вероятно, решил бы…
– Я не боюсь состязаться. Все в точности наоборот. Неужели непонятно? Я боюсь, что стану состязаться – вот что страшно. Вот почему я бросила драму. И все это не становится правильным только потому, что я так кошмарно предрасположена принимать чужие ценности, и мне нравятся аплодисменты, и когда люди от меня в восторге. Вот чего мне стыдно. Вот от чего меня тошнит. Тошнит, что не хватает духу быть абсолютно никем. Тошнит от себя и всех остальных, которым хочется оставить какой-то всплеск. – Она помолчала, схватила стакан молока и поднесла к губам. – Я знала, – сказала она, ставя его обратно. – Вот еще новости. У меня зубы рехнулись. Они стучат. Позавчера чуть стакан не прокусила. Может, я сбрендила, ополоумела и сама не догадываюсь.
Вперед выступил официант – подать лягушачьи лапки и салат, и Фрэнни посмотрела на него снизу. Он, в свою очередь, посмотрел сверху на ее нетронутый куриный сэндвич. Спросил, не желает ли, быть может, леди поменять заказ. Фрэнни поблагодарила и ответила, что нет.
– Я просто очень медленная, – сказала она. Официант, человек немолодой, вроде бы задержал взгляд на ее бледном и влажном лбу, затем поклонился и отошел.
– Тебе не нужно на секундочку? – неожиданно спросил Лейн. Он протягивал ей сложенный белый платок. Голос его звучал сочувственно, по-доброму, хотя Лейн как-то извращенно пытался говорить как ни в чем не бывало.
– Зачем? Нужно?
– Ты потеешь. Не потеешь, а я в смысле, у тебя лоб немного в испарине.
– Правда? Какой кошмар! Извини… – Фрэнни подняла сумочку повыше, открыла и стала в ней рыться. – У меня где-то «клинекс» был.
– Возьми мой платок, бога ради. Ну какая разница?
– Нет – я люблю этот платок и не хочу его испаривать, – сказала Фрэнни. В сумочке у нее было тесно. Чтобы лучше видеть, Фрэнни принялась выгружать содержимое на скатерть, слева от ненадкусанного сэндвича. – Вот он, – сказала она. – Открыла пудреницу и торопливо, легко промокнула лоб «клинексом». – Господи. Я на призрака похожа. Как ты меня выносишь?
– Что за книжка? – спросил Лейн.
Фрэнни буквально подскочила. Окинула взглядом мешанину груза на скатерти.
– Какая книжка? – спросила она. – Эта, что ли? – Она взяла томик в матерчатой обложке и запихнула обратно в сумочку. – Я просто посмотреть с собой в поезде взяла.
– Так и давай посмотрим. Что это?
Фрэнни его будто и не услышала. Снова раскрыла пудреницу и посмотрела в зеркальце.
– Господи, – сказала она. После чего смахнула все – пудреницу, бумажник, счет из прачечной, зубную щетку, пузырек аспирина и позолоченную палочку для коктейлей – обратно в сумочку. – Не знаю, зачем я таскаю с собой эту палочку дурацкую, – сказала она. – На втором курсе мне ее на день рождения подарил один сусальный мальчик. Решил, что это такой прекрасный и одухотворенный подарок, наблюдал за мной, пока я разворачивала. Все время хочу выбросить, но просто не могу. Сойду с нею в могилу. – Она подумала. – Он ухмылялся и говорил, что мне будет фартить, если я ее всегда буду держать при себе.
Лейн принялся за лягушачьи лапки.
– Так а что за книжка-то была? Или это что, секрет какой-то зверский? – спросил он.
– Которая в сумке? – переспросила Фрэнни. Она смотрела, как Лейн разъединяет пару лапок. Затем вытащила сигарету из пачки на столе и сама прикурила. – Ох, я не знаю, – сказала она. – Ну, такая – называется «Путь странника»[13]. – Она мгновение посмотрела, как Лейн ест. – В библиотеке взяла. Про нее говорил этот, который ведет у нас в нынешнем семестре обзор религий. – Затянулась. – Она у меня уже много недель. Все забываю вернуть.
– Кто написал?
– Не знаю, – обронила Фрэнни. – Видимо, какой-то русский крестьянин. – Она все наблюдала, как Лейн ест лягушачьи лапки. – Имени своего он так и не говорит. Все время, пока рассказывает, не знаешь, как его зовут. Просто рассказывает, что крестьянин, что ему тридцать три года и у него усохла рука. И жена умерла. Дело происходит в девятнадцатом веке.
Лейн только что переключился с лягушачьих лапок на салат.
– Хорошая? – спросил он. – Про что?
– Не знаю. Чудная. То есть, в первую очередь, набожная. В каком-то смысле, наверное, можно сказать – ужасно фанатичная, но в другом смысле – и нет. То есть все начинается, когда этот крестьянин, странник, хочет узнать, что это значит в Библии, когда там говорят, будто нужно непрестанно молиться[14]. Ну, понимаешь. Не останавливаясь. В «Фессалоникийцах» или где-то[15]. Поэтому он пускается пешком по всей России – искать того, кто его сможет научить, как непрестанно молиться. И что при этом нужно говорить. – Фрэнни, по всей видимости, очень интересовало, как Лейн расчленяет лягушачьи лапки. Пока она говорила, взгляд ее не отрывался от его тарелки. – И с собой он носит лишь котомку с хлебом и солью. А потом встречает человека, которого называет «старец» – какой-то ужасно умный набожный человек, – и этот старец рассказывает ему про книжку, которая называется «Добротолюбие»[16]. Которую, очевидно, написало несколько ужасно умных монахов, которые как бы распространяли такой взаправду необычайный способ молиться.
– Не дергайтесь, – сказал Лейн паре лягушачьих лапок.
– В общем, странник учится молиться, как велят эти очень мистические люди, – то есть все молится и молится, пока до совершенства не доходит и все такое. А потом идет дальше по всей России, встречается со всякими абсолютно великолепными людьми и рассказывает им, как молиться этим невообразимым способом. То есть вот это и есть вся книжка.
– Не хотелось бы упоминать, но от меня будет вонять чесноком, – сказал Лейн.
– Он в каком-то странствии встречает одну семейную пару, и вот их я люблю больше всех, про кого в жизни читала, – сказала Фрэнни. – Он идет по дороге где-то в глуши, с котомкой за спиной, а эти двое малюток бегут за ним и кричат: «Нищенькой! Нищенькой! Постой!.. Пойдем к маменьке, она нищих любит»[17]. И вот он идет с малютками к ним домой, и из дома выходит такая по-честному прекрасная женщина, их мать, вся такая хлопотливая, и наперекор ему помогает снять с него старые грязные сапоги, и наливает ему чаю. Потом домой возвращается отец – он, очевидно, тоже любит нищих и странников, и все они садятся ужинать. И пока они ужинают, странник спрашивает, кто все эти женщины, которые тоже сидят за столом, и муж отвечает, что это служанки, но едят они всегда с ним и его женой, потому что все они – сестры во Христе. – Фрэнни вдруг чуточку выпрямилась на стуле – как-то застенчиво. – То есть мне очень понравилось, что страннику захотелось знать, кто все эти женщины. – Она посмотрела, как Лейн намазывает маслом кусок хлеба. – В общем, странник остается ночевать, и они с мужем сидят допоздна и разговаривают об этом способе непрестанно молиться. Странник ему рассказывает, как. А утром уходит, и у него начинаются новые приключения. Он встречает всяких людей – то есть, на самом деле, про это вся книжка – и всем рассказывает, как надо по-особому молиться.
Лейн кивнул. Воткнул вилку в салат.
– Ей-богу, надеюсь, мы на выходных выкроим время, чтобы ты быстренько взглянула на эту мою зверскую работу – ну, я говорил, – сказал он. – Не знаю. Может, я вообще ни шиша с ней делать не буду – в смысле, публиковать ее или как-то, – но я бы хотел, чтобы ты ее как бы проглядела, пока ты здесь.
– Хорошо бы, – сказала Фрэнни. Она посмотрела, как он намазывает маслом еще один кусок хлеба. – А тебе книжка, наверно, понравилась бы, – вдруг сказала она. – Она такая простая, то есть.
– Рассказываешь интересно. Ты не будешь масло?
– Нет, забирай. Я тебе не могу дать, потому что она и так просрочена, но ты, наверно, можешь тут сам взять в библиотеке. Наверняка.
– Ты этот чертов сэндвич даже не попробовала, – вдруг сказал Лейн. – А?
Фрэнни опустила взгляд к своей тарелке, словно та перед ней только что возникла.
– Сейчас попробую, – сказала она. Посидела с минуту тихо, держа сигарету в левой руке, но не затягиваясь, а правой напряженно обхватив стакан молока. – Хочешь, расскажу, как молиться по-особому, как старец говорил? – спросила она. – Это как бы интересно с какой-то стороны.
Лейн вспорол ножом последнюю пару лягушачьих лапок. Кивнул.
– Само собой, – сказал он. – Само собой.
– Ну вот, странник этот, простой крестьянин, все странствие начал, чтобы только понять, как это, по Библии, непрестанно молиться. И потом он встречается со старцем, с этим самым, сильно набожным человеком, я говорила, который много-много-много лет читал «Добротолюбие». – Фрэнни вдруг умолкла – поразмыслить, упорядочить. – Ну, и старец перво-наперво говорит ему про Иисусову молитву. «Господи, помилуй». То есть она вот такая. И объясняет ему, что это для молитвы – лучшие слова. Особенно слово «помилуй», потому что оно такое огромное, может много чего означать. То есть не обязательно помилование. – Фрэнни снова помолчала, размышляя. В тарелку Лейну она больше не смотрела – смотрела ему за плечо. – В общем, – продолжала она, – старец говорит страннику, что если будешь повторять эту молитву снова и снова – а сначала делать это нужно одними губами, – в конце концов молитва как бы сама заводится. Через некоторое время что-то происходит. Не знаю, что, но происходит, и слова совпадают с биеньем сердца, и после этого уже ты молишься непрестанно. И на все твое мировоззрение начинает воздействовать просто неимоверно, мистически. То есть в этом и весь смысл – ну, примерно. То есть ты это делаешь, чтобы все твое мировоззрение очистилось и появилось абсолютно новое представление о том, что вообще к чему.
Лейн доел. Теперь, когда Фрэнни опять умолкла, он откинулся на спинку, закурил и стал наблюдать за ее лицом. Она по-прежнему рассеянно смотрела вперед, над его плечом – казалось, едва осознавая, что он сидит напротив.
– Но дело в том – самое великолепное в том, что когда только начинаешь так поступать, даже вера не нужна в то, что делаешь. То есть даже если тебе ужасно неловко, все в порядке. Ты никого не оскорбляешь, ничего такого. Короче, когда только начинаешь, никто не просит тебя ни во что верить. Не нужно даже думать о том, что произносишь, сказал старец. Вначале нужно одно количество. А потом, уже позже, оно само становится качеством. Самостоятельно или как-то. Он говорит, такой чудной, самостоятельной силой обладает любое имя Бога – вообще любое имя, и это начинает действовать, когда его как бы заводишь.
Лейн несколько обмяк на стуле – курил, глаза внимательно сощурены, смотрел на Фрэнни. А ее лицо по-прежнему оставалось бледным, хотя временами, пока эти двое сидели в «Сиклерз», бывало и бледнее.
– Вообще-то смысл в этом абсолютный, – сказала Фрэнни, – потому что в буддистских сектах Нэмбуцу[18] люди твердят «Наму Амида Буцу» – что значит «Хвала Будде» или что-то вроде, – и у них происходит то же самое. В точности то же…
– Полегче. Ты полегче давай, – перебил ее Лейн. – Во-первых, ты вот-вот пальцы обожжешь.
Фрэнни удостоила левую руку минимальнейшим взглядом и выронила остаток еще тлевшей сигареты в пепельницу.
– То же происходит и в «Облаке Незнания»[19]. Просто со словом «Бог». То есть просто повторяешь слово «Бог». – Она глянула на Лейна прямее, чем в прошедшие минуты. – То есть смысл в чем – ты когда-нибудь в жизни слышал такое чудо с какой-то стороны? То есть трудно просто взять и сказать, что это абсолютное совпадение, и всё, забыли, – вот в чем, по-моему, все чудо. По крайней мере, вот что так ужасно… – Она осеклась. Лейн нетерпеливо ерзал на стуле, а гримасу его – воздетые брови главным образом – Фрэнни отлично знала. – Что? – спросила она.
– Ты, что ли, и впрямь в такое веришь?
Фрэнни потянулась к пачке и вытащила сигарету.
– Я не сказала, что верю или не верю, – ответила она и обшарила взглядом стол в поисках спичек. – Я сказала, что это чудо. – Она приняла огонек от Лейна. – Я просто думаю, что это ужасно чудное совпадение, – сказала она, выпуская дым, – когда то и дело сталкиваешься с такими советами – то есть все эти по-настоящему умные и абсолютно нелиповые набожные люди все время говорят, что если твердить имя Бога, что-то случится. Даже в Индии. В Индии советуют медитировать на «Ом»[20], что вообще-то означает то же самое, и результат ровно тот же. Поэтому я что хочу сказать – тут нельзя просто рассудком отмахнуться, даже не…
– А каков результат? – резко спросил Лейн.
– Что?
– В смысле – какой результат должен быть? Все эти совпадения с ритмами сердца и прочая белиберда. Мотор станет шалить? Не знаю, приходило тебе в голову или нет, но ты себе можешь… да кто угодно может себе всерьез…
– Ты видишь Бога. Что-то происходит в абсолютно нефизической части сердца: индусы говорят, там живет Атман[21], если ты какое-нибудь религиоведение проходил, – и видишь Бога, вот и все. – Она застенчиво смахнула пепел с сигареты, слегка промахнувшись мимо пепельницы. Пальцами подобрала и положила внутрь. – И не спрашивай меня, кто или что такое Бог. То есть я даже не знаю, есть Он или нет. Я в детстве, бывало, думала… – Она замолчала. Подошел официант – убрал тарелки и вновь раздал меню.
– Хочешь десерта или кофе? – спросил Лейн.
– Я, наверно, просто молоко допью. А ты возьми, – сказала Фрэнни. Официант только что унес ее тарелку с нетронутой едой. Фрэнни не осмелилась на него взглянуть.
Лейн посмотрел на часы.
– Боже. У нас нет времени. Еще повезет, если на матч успеем. – Он поднял взгляд на официанта. – Мне, пожалуйста, только кофе. – Посмотрел, как официант уходит, затем подался вперед, выложил руки на стол, – совершенно расслабленный, желудок полон, кофе сейчас принесут, – и сказал: – Ну, все равно это интересно. Всякое такое… По-моему только, ты не оставляешь здесь никакого простора даже для самой примитивной психологии. В смысле, я думаю, все эти религиозные переживания имеют под собой весьма очевидное психологическое основание – ты понимаешь… Хотя интересно. В смысле, этого нельзя отрицать. – Он перевел взгляд на Фрэнни и улыбнулся. – Как бы то ни было. На тот случай, если я забыл упомянуть. Я тебя люблю. Я уже говорил?
– Лейн, ты извинишь меня еще разок на секундочку? – спросила Фрэнни. Она поднялась, еще не завершив вопроса.
Лейн тоже встал – медленно, глядя на нее.
– Все в порядке? – спросил он. – Тебя опять тошнит или что?
– Мне странно, и все. Я быстро.
Она живо прошла по обеденной зале – тем же маршрутом, что и раньше. Но у небольшого коктейль-бара в дальнем углу остановилась как вкопанная. Бармен, вытиравший насухо лафитник, посмотрел на нее. Она положила правую руку на стойку, опустила – склонила – голову и поднесла левую руку ко лбу, едва коснувшись его кончиками пальцев. Чуточку покачнулась, затем, потеряв сознание, рухнула на пол.
Фрэнни совершенно пришла в себя только минут через пять. Она лежала на тахте в кабинете управляющего, а рядом сидел Лейн. Лицо его, тревожно нависшее над ней, нынче располагало собственной примечательной бледностью.
– Ты как? – спросил он довольно больнично. – Лучше?
Фрэнни кивнула. На секунду зажмурилась – свет резал глаза, – потом вновь их открыла.
– Я должна спросить: «Где я?», да? – спросила она. – Где я?
Лейн рассмеялся.
– Ты в кабинете управляющего. Все носятся, ищут нашатырь и врачей, и чем бы тебя еще привести в чувство. Нашатырь у них, судя по всему, закончился. Ты как, а? Серьезно.
– Отлично. Глупо, но отлично. Я честно упала в обморок?
– Не то слово. Грохнулась по-настоящему, – ответил Лейн. Взял ее руку в свои. – Что же с тобой такое, а? В смысле, ты говорила так… ну, знаешь… так безупречно, когда мы на прошлой неделе с тобой по телефону разговаривали. Ты сегодня не завтракала, что ли?
Фрэнни пожала плечами. Глаза ее обшаривали комнату.
– Так стыдно, – сказала она. – Кому-то по правде пришлось меня нести?
– Нам с барменом. Мы тебя как бы волоком сюда. Ты меня просто дьявольски напугала, честно.
Фрэнни задумчиво, не мигая, смотрела в потолок, пока ее держали за руку. Затем повернулась и свободной рукой как бы отогнула Лейну манжету.
– Который час? – спросила она.
– Да ну его, – ответил Лейн. – Мы не спешим.
– Ты же на коктейль хотел.
– Ну его к черту.
– И на матч опоздали? – спросила Фрэнни.
– Послушай, я же говорю – ну его к черту. Ты сейчас отправишься к себе в как их там… «Голубые ставни» и хорошенько отдохнешь, это важнее всего, – сказал Лейн. Он подсел чуточку ближе, нагнулся и поцеловал ее – кратко. Повернулся, глянул на дверь, затем снова на Фрэнни. – Сегодня будешь только отдыхать. И больше ничего не делать. – Очень недолго он гладил ее руку. – А потом, может, немного погодя, если хорошенько отдохнешь, я смогу как-нибудь подняться. Там же, по-моему, есть задняя лестница. Я выясню.
Фрэнни ничего не ответила. Смотрела в потолок.
– Знаешь уже как зверски долго? – спросил Лейн. – Когда тот вечер в пятницу был? Это же в начале прошлого месяца, нет? – Он покачал головой. – Не пойдет. Слишком долго без единого глотка. Если выразиться грубо. – Он пристальнее посмотрел на Фрэнни. – Тебе правда получше?
Она кивнула. Повернула к нему голову.
– Только мне ужасно пить хочется. Мне можно воды, как ты думаешь? Это не очень сложно?
– Черт, да нет конечно! Тебе ничего будет, если я тебя на секундочку оставлю? Я, пожалуй, знаешь, что сделаю?
В ответ на второй вопрос Фрэнни покачала головой.
– Я пришлю кого-нибудь, чтобы тебе воды принесли. Потом найду старшего официанта и скажу, что нашатыря не надо, – и, кстати, расплачусь. Потом найду такси – чтобы ждало и нам не пришлось бегать его ловить. Может, несколько минут займет, большинство подбирают тех, кто на матч. – Он отпустил руку Фрэнни и поднялся. – Ладно? – спросил он.
– Отлично.
– Ладно, я сейчас вернусь. Замри. – И он вышел.
Фрэнни осталась лежать одна, вполне замерев, глядя в потолок. Губы ее задвигались, лепя беззвучные слова, – и двигаться не переставали.