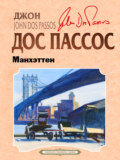Джон Дос Пассос
Три солдата
– Черт бы их побрал! Поскорее бы за океан!
– Что и говорить, хорошие места, – сказал Фюзелли. – Все там ну просто как на картине. Живописно, как говорится. И люди носят крестьянские платья… У меня дядька был оттуда, так рассказывал, как там все. Из-под Турина он был.
– А это где будет?
– Почем я знаю? Где-то в Италии!
– Скажи-ка, а много времени нужно, чтобы переправиться через океан?
– О, неделю-две, – сказал Эндрюс.
– Так долго!
Но кинематограф заработал снова. На ленте замелькали солдаты в заостренных шлемах, вступающие в бельгийские города, где то и дело попадались запряженные собаками тележки с молоком и старые женщины в крестьянских костюмах. Когда на картине показывался германский флаг, в зале поднимались свист и гиканье, а когда лента изображала, как немцы закалывают мирных граждан в широких голландских штанах и старых женщин в накрахмаленных чепцах, солдаты, набившиеся в барак ХАМА, посылали им громкие проклятья. Эндрюс чувствовал, как слепая ненависть в сидевших около него парнях нарастала, точно это было нечто, имеющее самостоятельное бытие. Она заражала его и увлекала, точно он находился среди охваченного паникой стада. Ужас, подобно хищным рукам, сжимал его горло. Он посмотрел на лица окружающих – они все были полны напряженного внимания, разгорячены и блестели от пота в жаркой комнате.
Выходя из барака, стиснутый в плотном потоке солдат, двигающихся к выходу, Эндрюс услышал, как кто-то сказал:
– Я никогда в жизни не обижал женщины, но клянусь Богом, что теперь я это сделаю! Ничего бы не пожалел, чтобы изнасиловать какую-нибудь проклятую немку!
– Я их тоже не перевариваю, – раздался другой голос, – мужчин, женщин, детей и даже… и даже не родившихся ребят. Они или круглые идиоты, или такие же бандиты, как их правители, если позволяют этой шайке генералов командовать над собой.
– Вот если попадется мне в плен германский офицер, я его сначала заставлю сапоги чистить, а потом пристрелю, как собаку, – сказал Крис Эндрюсу, когда они возвращались по длинной улице в свой барак.
– Правда?
– Да! Только сейчас мне хотелось бы подстрелить кое-кого другого! – с жаром продолжал Крис. – Недалеко искать придется; уж я сделаю это, если он не перестанет приставать ко мне!
– Кто это?
– А этот большой балбес Андерсон, правофланговый. Он, кажется, вбил себе в голову, что если я ниже его ростом, то уж он может издеваться надо мной как хочет.
Эндрюс круто обернулся и посмотрел в лицо своему спутнику. Что-то в мрачном голосе парня поразило его. Для него все это было необычно. Он считал себя горячим человеком, но никогда в жизни не чувствовал желания убить кого-нибудь.
– Ты в самом деле хочешь убить его?
– Пока еще нет, но он меня доводит до черта своим приставанием. Вчера я замахнулся на него ножом. Тебя тогда не было. Разве ты не заметил, что я был немного не в себе на учении?
– Да… но сколько тебе лет, Крис?
– Двадцать. Ты ведь постарше меня будешь, правда?
– Мне двадцать два. – Они стояли прислонившись к стене своего барака и смотрели вверх, в сияющую звездную ночь.
– Скажи-ка, что там, за океаном, такие же звезды, как здесь?
– Должно быть, такие же, – ответил Эндрюс смеясь. – Хотя я никогда не бывал там и не видел их!
– Мне не пришлось много учиться, – продолжал Крис. – Я вышел из школы, когда мне было двенадцать, потому что толку от этого было мало, а отец сильно пил – так я понадобился на ферму для работы.
– Что у вас там сеют в Индиане?
– Больше всего маис, потом еще пшеницу и табак, а главное, скота много разводят. Так вот я как раз хотел рассказать тебе, как я раз чуть не уложил одного молодца.
– Расскажи-ка!
– Я в то время здорово пил. Бедовая была у нас тогда компания. Работали мы, бывало, только покуда не наберем достаточно монет, чтобы покутить с девочками. В картишки тоже дулись и виски лакали здорово. Случилось это как раз во время жатвы. Черт, я уже и забыл даже, из-за чего все вышло, только поссорился я с одним парнем, с которым мы до того были настоящими друзьями. Он замахнулся и ударил меня по щеке. Не помню, что я тут сделал, только прежде чем я успел что-нибудь сообразить, у меня в руке очутился рабочий нож, и я занес его над парнем. Такой нож… если всадить в человека – тут ему и конец. Потребовалось четверо молодцов, чтобы удержать меня и вырвать нож. А все-таки я успел ему здорово раскроить грудь. Я был просто до чертиков пьян тогда. Эх, брат, и вид же у меня был, когда я возвращался домой: половина платья содрана, рубаха в клочья… Свалился я в канаву и проспал там до самого утра, все волосы в грязи вывалял… А теперь я редко когда и каплю в рот возьму.
– Так тебе тоже хочется поскорее за океан, Крис? – сказал Эндрюс после долгой паузы.
– Я спихну этого гуся Андерсона в море, если нас отправят на одном пароходе, – сказал Крис смеясь, но после паузы прибавил: – Скверно было бы все-таки, если бы я уложил тогда этого парня. Вот уж, по совести говорю, не хотел я этого.
– Да, брат, скрипач – это дело прибыльное, – сказал кто-то.
– Вовсе нет, – раздался меланхолический, тягучий голос из тощего человека, который сидел согнувшись вдвое, положив свое длинное лицо на руку и уперев локти в колени. – Только-только кормит.
Несколько человек толпились в глубине барака. Длинный ряд коек, освещенный случайными слабыми отсветами электрических ламп, тянулся от них к маленькому столику сержанта около дверей. Некоторые уже спали, другие торопливо раздевались.
– Увольняешься, не так ли? – спросил человек с сильным ирландским акцентом и красным лицом веселой гориллы, выдававшим в нем содержателя бара.
– Да, Фланнаган, увольняюсь, – уныло произнес тощий человек.
– Вот уж не везет парню, – раздался голос из толпы.
– Да, не везет, братец, – сказал тощий человек, рассматривая впалыми глазами лица столпившихся вокруг него солдат. – Я должен был бы зарабатывать сорок долларов в неделю, а здесь я едва выколачиваю семь, да к тому же еще служу в армии.
– Да я не про то. Не везет, говорю, что из этой проклятой армии увольняют.
– «Армия, армия, демократическая армия!» – запел кто-то шепотом.
– Ну а я, черт возьми, хочу отправиться за океан гуннов посмотреть, – сказал Фланнаган, ухитрявшийся с необычайным искусством соединять ирландский акцент с говором лондонца.
– За океан, – подхватил тощий человек. – Если бы мне только удалось поехать поучиться за океан, я зарабатывал бы не меньше Кубелика. У меня задатки хорошего скрипача.
– Почему же ты не поедешь? – спросил Эндрюс, стоящий с краю вместе с Фюзелли и Крисом.
– Посмотрите на меня – туберкулез, – сказал тощий человек.
– Просто дождаться не могу, чтобы они переправили меня туда, – сказал Фланнаган.
– Забавно, должно быть, не понимать, что народ кругом говорит. Мне один парень сказывал, что они говорят там «вуй» вместо «да».
– Можно знаками объясняться, – сказал Фланнаган, – ну да ирландца всюду поймут. Зато уж с гуннами беседовать не придется. Черт побери! Как только доберусь туда, сейчас же открою ресторанчик. Что вы на это скажете?
Все рассмеялись.
Недурно будет, а? Вот увидите, открою в Берлине ирландский ресторан. И будь я проклят, если сам английский король не приедет ко мне и не заставит проклятущего кайзера поставить всем выпивку.
– К тому времени кайзера вздернут на телеграфном столбе. Тебе нечего беспокоиться, Фланнаган!
– Его нужно бы замучить до смерти, как негров, когда их линчуют на юге.
Где-то далеко на учебном плацу проиграл горнист, и все молча разошлись по своим койкам. Джон Эндрюс завернулся в одеяло, обещая себе спокойно подумать некоторое время перед сном. Для него сделалось необходимостью лежать таким образом по ночам без сна, чтобы не совсем оборвать нить своей личной жизни – жизни, которую он начнет снова, если сможет пережить все это. Он отогнал мысль о смерти. Она не занимала его и была ему безразлична. Но когда-нибудь в нем снова проснется желание играть на рояле, писать музыку. Он не должен позволять себе слишком глубоко проникаться беспомощной психикой солдата. Ему необходимо сохранить свою волю.
Нет, он не об этом хотел думать сегодня. Он так устал уже от самого себя. Ему нужно во что бы то ни стало забыть о себе. С первого года своего учения в колледже, он, казалось, только и делал, что думал о себе, говорил о себе. Здесь, на дне, в глубочайшем унижении рабства, он сможет, по крайней мере, найти забвение и начать заново возводить здание своей жизни, на этот раз из прочного материала: работы, дружбы и презрения. Презрение – вот чего ему недоставало. В каком грубом фантастическом мире очутился он вдруг! Вся его жизнь до этой недели казалась ему главой, вычитанной из романа, картиной, которую он увидел в витрине магазина – так мало походила она на окружающую его действительность. Полно, да разве могло все это происходить в одном и том же мире? Он, должно быть, умер, сам не зная этого, и родился опять в новом, жалком аду…
Свое детство он провел в разрушенной усадьбе, стоявшей среди старых дубов и каштанов у дороги, по которой лишь изредка проезжали одноколки и запряженные быками телеги, нарушая однообразие песчаных полей, тянувшихся в узорчатой тени. Он так любил мечтать в то время; в длинные виргинские дни, лежа под миртовым кустом на краю запущенного сада, он предавался под сонное жужжание кружившихся на солнце оводов мечтам о мире, в котором он будет жить, когда вырастет. Как много завидных поприщ рисовалось ему! Он будет полководцем, как Цезарь, покорит мир и погибнет от руки убийцы в величественном мраморном зале; или странствующим менестрелем – обойдет с песнями чужие земли, участвуя в бесконечных сложных приключениях; или сделается великим музыкантом: будет сидеть за роялем, как Шопен на гравюре, прекрасные женщины будут рыдать, слушая его, а мужчины с длинными вьющимися волосами закроют руками лица. Одного только рабства он не представлял себе – его раса властвовала для этого слишком много веков. И все же мир покоился на различных видах рабства.
Джон Эндрюс лежал на спине на своей койке, тогда как вокруг него в темном бараке все спали и храпели. Какой-то страх охватил его. В одну неделю величественное здание его романтического мира, с его бесконечным богатством красок и гармонии, пережившее и школу, и колледж, и удары, полученные в борьбе за существование в Нью-Йорке, распалось в прах вокруг него. Он очутился в полной пустоте. «Как глупо, – подумал он, – ведь это тот мир, которым живет большая часть человечества – нижняя половина пирамиды».
Он подумал о своих друзьях, о Фюзелли и Крисфилде, и об этом забавном маленьком человечке, Эйзенштейне. Они чувствовали себя как дома в этой армейской жизни; их, казалось, нисколько не пугала потеря свободы. Но ведь они никогда не жили в другом, сияющем мире. Однако он не мог презирать их за это, как хотел бы. Он представил себе их поющими под управлением христианского юноши:
Ура, ура, все мы в сборе здесь!
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим
Разом!
Он вспомнил, как подбирал с Крисфилдрм окурки и беспрерывное «топ-топ-топ» на учебном плацу. В чем была связь между всем этим? Не одно ли тут безумие? Ведь эти спящие вокруг люди собрались сюда из таких различных миров, чтобы слиться в этом дне. Что они думали об этом, все эти спящие? Разве и они не мечтали, как он, когда были мальчиками? Или предшествовавшие поколения подготовили их только к этому? Он вспомнил, как лежал, бывало, под миртовым кустом в знойный, ленивый полдень, следя за тем, как бледные звезды цветов ложатся узором на сухую траву, и снова чувствовал, закутанный в свое теплое одеяло среди всей этой массы спящих, как напрягаются его ноги от жгучего желания понестись, не чувствуя на себе пут, по свежему вольному воздуху. Внезапно тьма заволокла его сознание.
Он проснулся. Снаружи играл горнист.
– Вставай веселее! – кричал сержант.
Еще один день.
IV
Звезды горели очень ярко, когда Фюзелли со слипающимися от сна глазами спотыкаясь вышел из барака. Они трепетали как куски блестящего студня на бархатном фоне неба, точь-в-точь так же, как что-то внутри его трепетало от возбуждения.
– Знает кто-нибудь, где зажигается электричество? – спросил сержант добродушным голосом.
Свет над дверьми барака вспыхнул, осветив маленького веселого человечка с желтыми усиками и незажженной папиросой, болтавшейся в углу рта. Столпившиеся вокруг него солдаты, в шинелях и шляпах, опустили свои ранцы на колени.
– Ну, стройтесь, ребята!
Когда Фюзелли выстроился вместе с остальными, на него со всех сторон устремились любопытные взоры. Он был переведен в роту только в прошлую ночь.
– Смирно! – закричал сержант, затем прищурил глаза и стал сосредоточенно рассматривать клочок бумаги, который держал в руке, в то время как солдаты его роты сочувственно следили за ним.
– Откликайтесь, когда услышите свое имя. Аллан!
– Здесь! – раздался пронзительный голос с конца шеренги.
– Анспах!
– Здесь!
В то же время перед бараками других рот происходили переклички. Откуда-то с конца улицы доносились радостные крики.
– Ну, теперь я могу объявить вам, ребята, – сказал со своим обычным видом спокойного всеведения сержант, назвав последнее имя. – Нас отправляют за океан!
Все возликовали.
– Заткнитесь! Уж не хотите ли вы, чтобы гунны услышали нас?
Солдаты расхохотались, а на круглом лице сержанта расплылась широкая усмешка.
Вдруг в полосе света появился лейтенант. Это был мальчик с розовым лицом; его новая защитного цвета шинель была слишком широка и не сгибаясь оттопыривалась при ходьбе.
– Все в порядке, сержант? Все готово? – спросил он несколько раз, переминаясь с ноги на ногу.
– Все готово к посадке, сэр, – с чувством сказал сержант.
– Очень хорошо! Я передам вам через минуту приказ о выступлении.
У Фюзелли стучало в ушах от необычайного волнения. Эти слова – «посадка», «приказ выступать» – звучали чем-то необыкновенным, серьезным, деловым. Он вдруг попытался представить себе ощущение, которое испытываешь под обстрелом. В его голове замелькали воспоминания о кинематографических лентах.
– Господи, ну и рад же я выбраться из этой чертовой дыры, – сказал он своему соседу.
– Смотри, как бы следующая не оказалась еще почище, брат, – сказал сержант, прохаживаясь взад и вперед своей внушительной, самоуверенной походкой.
Все засмеялись.
– Что за молодчина этот наш сержант, – сказал ближайший к Фюзелли человек, – ума палата, что и говорить!
– Вольно! – сказал сержант. – Только если кто-нибудь отлучится из этого барака, я засажу его на кухню до тех пор, пока он не научится чистить картошку во сне!
Рота снова расхохоталась. Фюзелли с неудовольствием заметил, что высокий человек с резким голосом, имя которого было вызвано первым при перекличке, не смеялся, а презрительно сплевывал углом рта. «Что ж, в семье не без урода!» – подумал Фюзелли.
Серые тени, постепенно светлея, ложились вокруг, предвещая зарю. Ноги Фюзелли устали от долгого стояния. Вдоль улицы, насколько хватал глаз, извилистой линией тянулись перед бараком ряды ожидающих солдат.
Взошло горячее солнце, день был безоблачный. Несколько воробьев чирикали на оцинкованной крыше барака.
– Черт, сегодня уж мы не двинемся!
– Почему? – спросил кто-то порывисто.
– Войска всегда выступают ночью.
– Черт бы их побрал!
– Вот идет сержант.
Все вытянули шеи в указанном направлении; сержант подошел с таинственной улыбкой на лице.
– Складывайте шинели и доставайте котелки!
Котелки забренчали и заблестели в косящих лучах солнца. Солдаты промаршировали в столовую и, вернувшись обратно, снова выстроились с ранцами за спиной и стали ждать.
Все начали понемногу уставать и брюзжали. Фюзелли думал о том, где теперь его старые друзья из другой роты. Славные ребята, Крис и тот ученый малый, Эндрюс. Жаль, что не пришлось отправиться вместе.
Солнце поднималось все выше. Люди один за другим заползали в бараки и ложились на голые койки.
– Кто хочет пари, что мы еще неделю проторчим здесь? – спросил кто-то.
В полдень они снова выстроились, чтобы идти к котлу, и угрюмо, торопливо проглотили обед. Когда Фюзелли выходил из столовой, выбивая двумя грязными ногтями зорю на своем котелке, капрал обратился к нему тихим голосом:
– Вымойте-ка хорошенько свой котелок, братец! У нас, может быть, будет осмотр ранцев. – Капрал был худой, желтолицый человек. Лицо его, несмотря на молодость, было все в морщинах, а рот, изогнутый в дугу, открывался и закрывался, как те рты, которые дети вырезают из бумаги.
– Слушаюсь, капрал! – весело ответил Фюзелли; ему хотелось произвести хорошее впечатление. «Скоро ребята станут и мне говорить «слушаюсь, капрал!», – подумал он. В голове его мелькала мысль, которую он напрасно старался отогнать. У капрала болезненный вид, он недолго протянет за океаном. И Фюзелли представлял себе, как Мэб пишет на конверте: «капралу Дэну Фюзелли».
К концу дня вдруг появился офицер; лицо его горело от волнения, а защитная шинель торчала еще больше, чем обыкновенно.
– Ну, сержант, выстройте своих молодцов, – сказал он задыхающимся голосом.
Вдоль всей улицы строились роты. Они выступали одна за другой колоннами по четыре человека в ряд с ранцами на плечах. День уже окрашивался янтарем заката. Протрубили зорю. Мозг Фюзелли вдруг деятельно заработал. Звуки трубы и оркестра, игравшего национальный гимн, просеивались в его сознании сквозь грезы о том, что ждет его там. Он видел себя в каком-то месте, где толпились старики и женщины в крестьянских костюмах. Люди в остроконечных касках, похожие на пожарных, беспрерывно стреляли, напоминая ку-клукс-клановцев в кинематографе. Они соскакивали с лошадей, поджигали здания и накалывали младенцев на свои длинные штыки со странными чуждыми движениями. Это были гунны. Тут же развевались по ветру знамена и гремели звуки оркестра, игравшего «Янки подходят». Все это потонуло в кинематографической картине, на которой одетые в хаки полки быстро маршировали по экрану. Воспоминание о радостных криках, всегда сопровождавших ее, затмило картину.
– Воображаю, какую трескотню поднимают, однако, эти гунны, – прибавил он в виде заключения.
– Смирно! Вперед, марш!
Длинная улица лагеря наполнилась топотом ног. Солдаты двинулись. Когда они проходили через ворота, Фюзелли заметил Криса, который стоял, обнявшись с Эндрюсом. Оба они махали руками, скалили зубы и выпячивали грудь. Все-таки это были только новички. А он отправлялся за океан.
Тяжесть ранца оттягивала ему плечи и делала ноги тяжелыми, точно они были налиты свинцом. Пот скатывался из-под походной фуражки с его низко остриженной головы, заливал глаза и стекал по обеим сторонам носа. Сквозь топот ног до него смутно доносились с тротуара восторженные крики. Затылки и покачивающиеся ранцы перед ним все уменьшались ряд за рядом вверх по улице. Над ними из окон свешивались флаги, лениво колебавшиеся в сумерках. Но тяжесть ранца заставила его нагнуть голову и вытянуть ее вперед. Подошвы сапог, обернутые обмотками икры и нижний ремень ранца на человеке, шедшем перед ним, – вот все, что он мог видеть. Ранец был так тяжел, что мог, казалось, заставить его провалиться сквозь асфальт мостовой. А вокруг раздавалось лишь легкое звяканье амуниции и топот ног. Фюзелли обливался потом и смутно чувствовал испарения, поднимавшиеся от рядов напрягающихся вокруг него тел. Но постепенно он забыл обо всем, кроме ранца, давившего на плечи и оттягивавшего вниз бедра, колени и ноги, и однообразного ритма собственных ног, отбивавших шаг по мостовой, и других беспрерывно скрипевших ног – впереди него, позади него, около него. Кр… кр… кр…
Поезд был пропитан запахом новой амуниции, на которой высох пот, и дымом дешевых папирос. Фюзелли проснулся точно от толчка. Он спал, положив голову на плечо Билли Грея. Был уже полный день. Поезд медленно трясся по пересекающимся путям в каком-то унылом предместье, среди длинных закопченных товарных складов и бесконечных цепей товарных вагонов, за которыми мелькали коричневые болота и грифельно-серые полосы воды.
– Господи! Никак это Атлантический океан! – воскликнул взволнованно Фюзелли.
– В первый раз видишь, что ли? Это река Перс, – презрительно сказал Билли Грей.
– Откуда же я мог видеть! Я из Калифорнии!
Они высунули вместе головы из окна, так что щеки их соприкасались.
– Черт возьми, да тут есть девочки, – сказал Билли Грей.
Поезд дернул и остановился. Две неряшливые рыжеволосые девицы стояли около полотна, махая руками.
– Поцелуйте нас! – закричал Билли Грей.
– С удовольствием, – ответила одна из девушек. – Для таких молодцов нам ничего не жаль.
Она поднялась на цыпочки, а Грей высунулся из окна и с трудом ухитрился коснуться губами лба девушки.
Фюзелли почувствовал, как волна желания охватила его.
– Подержи-ка меня за пояс, я поцелую ее как следует!
Он высунулся далеко вперед и, обхватив руками розовые ситцевые плечи девушки, поднял ее над землей и стал яростно целовать в губы.
– Пустите, пустите! – кричала девушка.
Люди, высунувшиеся из окон вагонов, гоготали и кричали.
Фюзелли поцеловал ее еще раз и опустил на землю.
– Уж слишком много вы себе позволяете, черт возьми! – сердито сказала девушка.
Солдат в одном из окон заорал:
– Маме скажу!
Все расхохотались.
Поезд тронулся. Фюзелли гордо оглянулся кругом. На минуту перед ним встал образ Мэб, протягивающей ему пятифунтовую коробку леденцов.
– Никакого тут нет греха, так, баловство одно. Пустяк! – произнес он вслух.
– Нам бы только до Франции добраться! Уж там-то мы пофигуряем с мадимерзелями! А что, приятель? – сказал Билли Грей, шлепая Фюзелли по колену.
Красотка Кэтти,
Ки-ки-ки-Кэтти,
Ты всех других девиц ми-ми-милей!
Когда лу-лу-луна
Взойдет над хлевом,
Я буду ждать тебя у ку-ку-кухонных дверей.
Когда грохот колес на рельсах участился, все запели хором. Фюзелли с самодовольным видом оглянулся на товарищей, растянувшихся на своих узлах и шинелях в дымном вагоне.
– Важная штука быть солдатом, – сказал он Билли Грею. – Что в голову взбрело, то и валяй, черт возьми!
– Это, – сказал капрал, когда рота гуськом вошла в барак, в точности похожий на тот, который они оставили два дня назад, – это лагерь для посадки на суда. Но я хотел бы, черт побери, знать, на что нас будут сажать? – Он скривил свое лицо в улыбку, а затем с мрачным выражением скомандовал: – За едой!
В этой части лагеря было темно, хоть глаз выколи. Электричество горело жидким красноватым светом. Фюзелли напрягал зрение, ожидая увидеть в конце каждого прохода пристань и мачты пароходов. Солдаты продефилировали в мрачную столовую, где им налили в котелки жидкое варево. За кухонной перегородкой жизнерадостный старший сержант, второй мрачный сержант, похожий на пастора, и капрал с морщинистым лицом ели котлеты. Легкий запах жарящихся котлет распространялся по столовой, и от него жидкая остывшая похлебка казалась окончательно безвкусной.
Фюзелли с завистью поглядывал в сторону кухни, мечтая о том дне, когда он также будет в чинах. «Нужно будет поработать», – серьезно сказал он себе. За океаном, под огнем, ему легко будет найти случай, чтобы показать себя. И он представлял себе, как геройски выносит из огня раненого капитана, а за ним гонятся люди с развевающимися бакенбардами и в заостренных шлемах, напоминающих каски пожарных.
Бренчанье гитары странно прозвучало на темной лагерной улице.
– Здорово зажаривает малый, – сказал Билли Грей, который плелся рядом с Фюзелли, засунув руки в карманы. Они заглянули в дверь одного из бараков. Куча солдат сидела кольцом вокруг двух высоких негров. Их темные лица и груди блестели при слабом освещении, как черный янтарь.
– Ну-ка, Чарли, шпарь другую, – сказал кто-то. Один из негров начал петь, в то время как другой небрежно подыгрывал на гитаре.
– Вали лучше «Титаника»!
Гитара затренькала унылый регтайм. Голос негра вступил вдруг с очень высокой ноты:
Это песня о том, как «Титаник»
Вышел в море.
Гитара продолжала тренькать. В голосе негра слышалось что-то, заставившее смолкнуть все разговоры. Солдаты с любопытством смотрели на него.
Как «Титаник» столкнулся с горой ледяной,
Как «Титаник» столкнулся с горой ледяной
В открытом море.
Голос негра звучал уверенно и мягко, а гитара вторила ему, наигрывая тот же рыдающий регтайм. С каждым куплетом голос певца делался громче, а треньканье быстрее.
Опустился «Титаник» в синюю глубь,
Опустился в синюю глубь,
Опустился в море.
И все женщины и дети, плавая в воде,
И все женщины и дети, плавая в воде
Вокруг горы ледяной,
Пели: «Господи, идем к тебе!»
Пели: «Господи, идем к тебе,
Идем к тебе!»
Гитара играла мелодию гимна. Негр пел. Каждая струна в его гортани дрожала от напряжения. Он почти рыдал.
Человек рядом с Фюзелли тщательно прицелился и сплюнул в кадку с опилками, стоявшую в середине круга неподвижных солдат.
Гитара снова сыграла напев, быстро, почти насмешливо. Негр пел глубоким, искренним голосом. Он не успел кончить, когда вдалеке раздались звуки трубы. Все рассыпались.
Фюзелли и Билли Грей молча вернулись в свои бараки.
– Ужасная штука, должно быть, утонуть в море, – сказал Грей, закутываясь в одеяло. – Стоит только какой-нибудь из этих проклятых подводных лодок…
– Плевать я хотел на них! – сказал решительно Фюзелли.
Но когда он лежал уже на койке, уставившись в темноту, его сковал вдруг холодный ужас. Он подумал одну минуту о том, чтобы дезертировать, притвориться больным, все что угодно, только бы избежать переезда на транспорте.
Он чувствовал, как погружается в ледяную воду.
– Этакая подлость, черт возьми! Пересылать туда людей, чтобы топить их по дороге, – сказал он себе, и ему вспомнились холмистые улицы Сан-Франциско, зарево заката над гаванью и пароходы, входящие через Золотые Ворота. Сознание его постепенно затуманилось, и он заснул.
Колонна растянулась по дороге, покрывая ее, насколько хватал глаз, точно ковром защитного цвета. В роте Фюзелли люди переминались с ноги на ногу и ворчали: «Какого черта они еще ждут там!» Билли Грей, ближайший сосед Фюзелли по ряду, стоял согнувшись вдвое, чтобы облегчить плечи от тяжести своего ранца. Они стояли на перекрестке, на открытом возвышенном месте, откуда можно было видеть длинные навесы и бараки лагеря, тянувшиеся во всех направлениях, ряд за рядом, изредка прерываемые серыми учебными плацами. Перед ними до последнего поворота дороги тянулась колонна; она терялась на холме, среди горчично-желтых домов пригорода. Фюзелли был взволнован – он не переставал думать о прошедшей ночи. Когда помогал сержанту раздавать добавочные пайки и переносил ящики с сухарями, он тщательно вел им счет и ни разу не ошибся. Фюзелли был полон желания действовать, показать, на что он способен. «Черт побери, – сказал он себе, – славная штука эта война для меня. Я мог бы проторчать пять лет в лавке и ни черта не выдвинуться. А здесь, в армии, у меня есть возможность добиться чего угодно!»
Далеко впереди по дороге зашевелилась колонна. Голоса, выкрикивавшие приказания, резко звенели в утреннем воздухе. Сердце Фюзелли колотилось. Он гордился собой и ротой – лучшая рота во всей армии, черт побери! Рота впереди них двинулась; теперь был их черед.
– Вперед! Марш!
Они погрузились в однообразный топот ног. Пыль высоко поднималась над дорогой, по которой, точно темно-коричневый червяк, ползла колонна.
Тошнотворный, незнакомый запах ударил им в нос.
– Чего ради они загоняют нас сюда, вниз?
– Будь я проклят, если знаю!
Они спускались шеренгой по лестницам в пароходный трюм, казавшийся им страшной пропастью. У каждого в руке была синяя карточка с номером. В темном помещении, похожем на пустой товарный склад, они остановились.
– Должно быть, это и есть наша нора! – крикнул сержант. – Надо будет постараться устроиться тут получше. – Затем он исчез.
Фюзелли огляделся вокруг. Он сидел на самой низкой из скамеек, грубо сколоченных в три яруса из новых сосновых досок. Электричество, горевшее кое-где, освещало трюм слабым красноватым блеском. Только на лестницах были сильные лампы, дававшие яркий белый свет. Бесконечные шеренги солдат, вливавшиеся по лестницам, наполняли помещение топотом ног и стуком ранцев, сбрасываемых с нар. Где-то в проходе офицер пронзительным голосом кричал своим людям: «Пошевеливайтесь там, пошевеливайтесь!» Фюзелли, ошеломленный и подавленный, сидел на своей койке, следя за ужасающей суматохой, царившей вокруг. Сколько дней придется им пробыть в этой темной яме? Он вдруг почувствовал озлобление. Какое право они имеют так обращаться с людьми? Ведь он человек, а не ворох сена, которым можно распоряжаться как угодно.
– А ежели нас проткнет подводная лодка, нечего сказать, приятно будет здесь, внизу, – сказал он вслух.
– Тут везде наставлены часовые, чтобы мы не могли выбраться наверх, на палубу, – заметил кто-то.
– Будь они прокляты! Обращаются с людьми, точно это скотина, которую отправляют на убой!
– А ты что думал? Так и есть – говядина для гуннов!
Это сказал маленький человечек, лежащий на одной из верхних коек; при этом он скорчил свое желтое лицо в забавную гримасу, как будто слова вырывались из него против воли.
Все злобно посмотрели на него.
– Проклятый жид Эйзенштейн! – пробормотал кто-то.
– Отчего его не привязали снаружи! – добродушно крикнул Билли Грей.
– Дурачье, – проворчал Эйзенштейн, переворачиваясь на другой бок и закрывая лицо руками.
– Черт, хотел бы я знать, отчего это здесь так странно пахнет внизу? – сказал Фюзелли.
Фюзелли лежал, вытянувшись на спине на палубе, положив голову на скрещенные руки. Когда он смотрел прямо вверх, он видел над собой свинцового цвета мачту, колебавшуюся из стороны в сторону на фоне неба, затянутого светло-серыми, серебристыми и темными, серо-багровыми облаками с желтоватыми отблесками по краям; а когда он наклонял голову немного в сторону, он встречал тяжелое бесцветное лицо Билли Грея, темную щетину его небритого подбородка и слегка скошенный влево рот, из которого свисала потухшая папироса. Дальше были головы и туловища, перемешанные в одну сплошную массу с защитными шинелями и спасательными кругами. Когда же волна накреняла палубу, перед ними вставали движущиеся зеленые волны, какой-нибудь пароход, выкрашенный серыми и белыми полосами, и горизонт – темная, твердо изогнутая линия, прерываемая тут и там гребнями волн.
– О Господи, до чего мне тошно! – сказал Билли Грей, вынимая изо рта папиросу и злобно рассматривая ее.
– Все бы ничего, если бы не эта вонища! А уж столовая… Так наизнанку и выворачивает, только подумаешь о ней! – Фюзелли говорил ноющим голосом.
Верхушка мачты двигалась взад и вперед по пятнистым облакам, словно карандаш по бумаге.