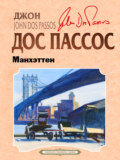Джон Дос Пассос
Три солдата
Вдруг женщина вскочила на ноги, вскрикнув от злости. Человек с рыжими волосами испуганно отодвинулся. Затем он поднял свою широкую грязную руку вверх.
– Камарад, – сказал он.
Никто не засмеялся. В комнате царило молчание, нарушаемое только случайным шарканьем ног по полу. Она надела шляпку и, вынув из сумки маленькую коробочку, начала пудриться, гримасничая перед зеркалом, которое держала в ладони.
Мужчины не спускали с нее глаз.
– Сдается мне, что она Бог весть что о себе воображает, – сказал один человек, поднимаясь на ноги. Он перегнулся через стол и плюнул в камин. – Я иду домой в бараки. – Он повернулся спиной к женщине и закричал полным ненависти голосом: – Бон суар!
Женщина вкладывала пуховку обратно в свой стеклярусный мешочек. Она не подняла глаз; дверь резко захлопнулась.
– Пойдем, – сказала вдруг женщина, откидывая назад голову, – пойдем. Кто идет со мной?
Никто не отозвался. Мужчины молча смотрели на нее. Не слышно было ни одного звука, кроме шарканья ног по полу.
III
Овсяная каша тяжело шлепнулась в котелок. Глаза Фюзелли все еще слипались от сна. Он уселся на темной засаленной скамье и глотнул горячий кофе, слегка отдававший посудными тряпками. Это немного разогнало сон. В кухонном бараке было мало разговоров. Солдаты, которых зоря вытащила из-под одеяла всего каких-нибудь пятнадцать минут назад, сидели в ряд, мрачно ели, щурясь друг на друга сквозь дымную мглу. Слышалось только шарканье ног по усыпанному золой полу и звяканье котелков об столы или изредка чей-нибудь кашель. У стойки, где раздавали пищу, один из кашеваров не переставая бранился плаксивым, однотонным голосом.
– Черт возьми, Билли, ну и голова у меня сегодня, – сказал Фюзелли.
– Поделом тебе, – проворчал Билли Грей. – Мне пришлось силой тащить тебя в барак. Ты все твердил, что хочешь вернуться назад, чтобы целоваться с этой девицей.-
– В самом деле? – сказал Фюзелли, хихикая.
– Мне чертовски трудно было протащить тебя мимо караула.
– Это все коньяк… Теперь у меня похмелье, – сказал Фюзелли.
– Будь я проклят, если смогу еще долго тянуть это.
– Что?
Они мыли свои обеденные котелки в чане с теплой водой, загустевшей от жира сотен вымытых в ней котелков. Электричество слабо освещало поверхность воды, где плавала овсянка и кофейная гуща, кадки для мусора с табличками «Сухой мусор», «Мокрый мусор», солдат, стоявших в очереди к чану.
– Эту чертову жизнь! – свирепо сказал Билли Грей.
– Да о чем ты?
– Только и дело, что упаковывать перевязочные материалы в ящики и вытаскивать их оттуда. Этак с ума сойти можно! Хотел напиться, так от этого не легче.
– Черт, ну и голова у меня сегодня, – повторил Фюзелли.
Когда они зашагали по направлению к баракам, Билли Грей обнял своей тяжелой, мускулистой рукой Фюзелли за плечи.
– Послушай, Дэн, я собираюсь на фронт.
– Не делай этого, Билли. Черт! Подумай о том, сколько у нас шансов получить капрала, если мы не напортим себе сами.
– Яйца выеденного я за все это не дам… Почему я, по-твоему, пошел в эту проклятую армию? Потому что мне форма, что ли, к лицу? – Билли Грей засунул руки в карманы и решительно плюнул перед собой.
– Но, Билли, ведь не хочешь же ты остаться вонючим рядовым?
– Я хочу попасть на фронт, я не желаю торчать здесь, пока не угожу в карцер за какое-нибудь безобразие или не попаду под суд. Послушай, Дэн, хочешь отправиться со мной?
– Тысяча чертей! Ты не поедешь, Билли. Ты просто дурачишь меня? Мы и так попадем на фронт довольно скоро. Я хочу сделаться капралом. – Он слегка выпятил грудь. – Прежде чем отправиться на фронт, я хочу показать, каков я человек. Понимаешь, Билли?
Заиграла труба.
– А я еще свою койку не убрал.
– Я тоже. Ничего не будет, Дэн… Не позволяй им оседлать себя.
Они выстроились на темной дороге, чувствуя, как грязь хлюпает у них под ногами. Выбоины были полны черной воды, в которой мерцали отражения далеких электрических фонарей.
– Сегодня все работают в складе А, – сказал сержант (тот, который был раньше проповедником) своим печальным, тягучим голосом. – Лейтенант приказал, чтобы все было кончено к полудню. Груз сегодня отправляется на фронт.
Кто-то свистнул от удивления.
– Кто это здесь свистит? Никто не отозвался.
– Вольно! – сердито выпалил сержант.
Они побрели в темноте по направлению к одному из освещенных зданий; ноги их то и дело погружались в лужи.
Фюзелли подошел к часовому у ворот лагеря, задумчиво ковыряя в зубах лучинкой от сосновой доски.
– Послушай, Фил, одолжи мне полдоллара! – Фюзелли остановился, засунул руки в карманы и посмотрел на часового, не вынимая лучинки изо рта.
– Очень сожалею, Дэн, – ответил тот. – У меня в кармане чисто. С самого нового года цента в глаза не видал.
– Почему они, черт возьми, не платят жалованья?
– А ваши ребята подписали уже платежную ведомость?
– Конечно, давно уже.
Фюзелли отправился вниз, к городу, по темной дороге, на которой грязь замерзала, образуя глубокие колеи. Он все еще не мог привыкнуть к этому городу. Его маленькие домики с потрескавшейся штукатуркой, по которой сырость расползалась серыми и зелеными пятнами, пестрота красных черепичных крыш, узкие, вымощенные булыжником улицы, извивавшиеся зигзагами то внутрь, то наружу между высоких облепленных балконами стен, – все казалось ему чужим и странным. Ночью, когда царила полная темнота и на мокрую улицу лишь кое-где падало золотистое отражение горевшей в окне лампы или проливался поток света из магазина или кафе, город казался почти до жути нереальным. Фюзелли пошел в сквер, где раздавалось журчанье фонтана. Дойдя до середины, он остановился в нерешительности. Шинель его была расстегнута, а руки засунуты до самого дна карманов, в которых они не могли, однако, нащупать ничего, кроме сукна. Он долго прислушивался к бульканью фонтана и шуму сцепляемых поездов, доносившемуся издалека с товарной станции. «И это война? – подумал он. – Просто курам на смех! Тут по ночам спокойнее, чем дома». На улице за сквером показался белый свет – пытливый фонарь штабного мотора. Оба глаза автомобиля уставились прямо в глаза Фюзелли, ослепляя его, затем повернули в сторону, оставляя за собой легкий запах бензина и отзвуки голосов. Фюзелли смотрел на фасады домов, которые автомобиль осветил, выезжая на главную дорогу. Затем город снова погрузился в темноту и тишину.
Он прошел через сквер по направлению к Cheval Blanc, большому кафе, где собирались офицеры.
– Застегните шинель! – раздался грубый голос.
Он увидел на углу высокую фигуру и очертания кобуры, которая висела, точно маленький окорок, на бедре человека. Военный полицейский! Он торопливо застегнул шинель и быстро зашагал дальше.
Фюзелли остановился перед заманчивым на вид кафе, на окне которого было выведено белой краской: «Ветчина и яйца». Кто-то сзади закрыл ему глаза двумя большими ладонями. Он высвободил голову.
– Хелло, Дэн, – сказал он. – Как ты вырвался из каталажки?
– Меня, брат, не удержишь, – сказал Дэн Коуэн. – Монета есть?
– Ни цента, черт побери!
– У меня тоже. Все равно, идем. Уж я устроюсь с Мари.
Фюзелли в нерешительности последовал за ним. Он немного боялся Дэна Коуэна и вспомнил к тому же, как на прошлой неделе одного солдата предали военному суду за то, что он хотел улизнуть из кафе, не заплатив за выпитое.
Он уселся за столик поближе к дверям. Дэн исчез в задней комнате. Фюзелли чувствовал тоску по дому. Давно уж что-то не приходило писем от Мэб. «Верно, завела уже другого парня!» – свирепо сказал он себе. Он постарался вспомнить ее лицо, но ему пришлось вынуть свои часы и заглянуть под крышку, прежде чем он мог решить, прямой или вздернутый у нее нос. Он поднял глаза, пряча часы в карман. Мари с белыми руками выходила смеясь из внутренней комнаты. Ее большие крепкие груди, обтянутые тесно облегающей блузкой, слегка колыхались при смехе. Ее щеки были очень красны. Вдоль шеи свисала выбившаяся прядь каштановых волос. Она поспешно подбирала ее, подкалывая шпилькой и держа руки за головой, и медленно выходила на середину комнаты. Вслед за ней в комнату вошел Дэн Коуэн с широкой усмешкой на лице.
– Ну, дружище, – промолвил он. – Я сказал ей, что ты заплатишь, когда приедет из Америки Дядя Сэм. Пил ты когда-нибудь кюммель?
– А что это за штука?
– Увидишь.
Они уселись в углу за столиком перед блюдом яичницы. Это был излюбленный столик, за который часто присаживалась поболтать сама Мари в те минуты, когда на нее не устремлялся взор строгой мадам.
Несколько человек пододвинули свои стулья – Дикий Дэн всегда собирал аудиторию.
– Похоже, что на Верден готовится новая атака, – сказал Дэн.
Кто-то неуверенно хмыкнул.
– Смешно, до чего мы мало знаем о том, что там творится, – сказал один солдат. – Я больше знал о войне, когда был дома в Миннеаполисе, чем теперь.
– Должно быть, мы им здорово накладываем, – сказал Фюзелли патриотическим тоном.
– Черт, в это время года, во всяком случае, ничего сделать нельзя, – сказал Коуэн. Улыбка расползлась по его красному лицу. – Последний раз, когда я был на фронте, боши устроили coup de main и захватили в плен целую линию окопов.
– Чьих?
– Да американских, наших.
– Что ты мелешь?
– Это дьявольская брехня! – закричал черноволосый малый с плохо выбритым подбородком, который только что вошел в кафе. – Ни одного американца никогда не забирали в плен и не заберут.
– А сколько времени ты был на фронте, братец? – спросил Коуэн холодно. – Ты, чай, и в Берлине успел побывать, а?
– Я говорю, что всякий, кто утверждает, будто американец позволит вонючему гунну взять себя в плен, – лгун, – сказал человек с плохо выбритым подбородком, усаживаясь с мрачным видом.
– Ну, ты бы, пожалуй, лучше не говорил мне этого, – сказал со смехом Коуэн, многозначительно поглядывая на один из своих красных кулаков.
На лице Мари мелькнула догадка. Она посмотрела на кулак Коуэна, пожала плечами и рассмеялась. В эту минуту в кафе ввалилась новая толпа.
– Да никак это Дикий Дэн? Хелло, старина! Как делишки?
Маленький человечек, шинель которого выглядела почти как офицерская благодаря хорошему покрою, горячо пожимал руку Коуэну. На нем были капральские нашивки и фуражка английского летчика. Коуэн очистил для него место на скамье.
– Что ты делаешь в этой дыре, Дак?
Тот скривил рот, так что его изящные черные усики перекосились.
– Чинюсь, – сказал он. – А ты?
Дэн Коуэн проглотил полстакана красного вина, причмокнул своими толстыми губами и начал повествовательным тоном:
– Наша дивизия только что выступила на Брасскую дорогу из Вердена, где мы просидели три недели точно в пекле. Нам приходилось то и дело взбираться там на одну маленькую высоту и рыть окопы. Грязища была такая, что ног не вытащить, а вонь подымалась невыносимая. Особенно когда снаряды разрывали землю, полную трупов. У тебя есть деньги?
– Есть немного, – отвечал Дак без восторга.
– Здесь чертовски вкусное шампанское. Я здесь компаньон в этом кабаке – тебе подадут со скидкой.
– Ладно.
Дэн Коуэн обернулся и прошептал что-то Мари. Она рассмеялась и скрылась за занавеской.
– Но под Шамфором было еще почище. Все мы вроде как бы нервничали, потому что немцы сбросили нам предупреждение, что дают три дня на эвакуацию госпиталя, а после этого снесут все к черту.
– Немцы это сделали? Брось врать-то, – сказал Фюзелли.
– Они сделали то же самое и в Сульи, – сказал Дак.
– Черт, да… Забавная там вышла штука. Госпиталь помещался в огромном запутанном доме, вроде американского отеля. Мы обыкновенно загоняли свой мотор во двор и спали в нем. Нам пришлось подобрать много контуженных молодчиков, которые орали как сумасшедшие и дрожали с головы до ног, а некоторые были вроде как бы парализованные. Во флигеле, как раз против того места, где мы обыкновенно спали, был один человек, который не переставал смеяться. Билли Риз спал со мной вместе в моторе; мы лежали с ним, растянувшись на своих одеялах, и не проходило минуты, чтобы кто-нибудь из нас не перевернулся и не прошептал: «Ну не сущий ли это ад, братец?» – потому что тот парень все продолжал смеяться, как будто он только что услышал шутку, такую смешную, что никак не мог остановиться. Это был совсем не такой смех, как бывает обыкновенно у сумасшедших. Когда я первый раз услыхал его, мне показа» лось, что человек и вправду веселится, и я, кажется, сам засмеялся, но он не останавливался… Мы с Билли Ризом лежали в автомобиле и дрожали. Вдали идет перестрелка, То и дело лопаются бомбы с аэропланов, а тут этот малый смеется и смеется, словно ему анекдоты рассказывают. – Коуэн выпил глоток шампанского и откинул голову набок. – И этот проклятый смех продолжался почти до полудня следующего дня, пока санитары не задушили парня. Вышли из себя, видно.
Фюзелли смотрел на другой конец комнаты, откуда доносился ропот справедливого негодования, исходивший от темноволосого человека с небритым подбородком и его товарищей. Фюзелли соображал, что будет, пожалуй, лучше, если его не увидят с таким парнем, как Коуэн, который рассказывает, будто немцы предупреждают госпитали перед обстрелом, а к тому же еще и сам находится под судом. Это может повредить ему. Он выскользнул из кафе в темноту. Влажный ветер носился по кривым улицам, подергивая рябью отраженный в лужах свет и беспрерывно колотя где-то ставнем. Фюзелли снова прошел в сквер, бросив завистливый взгляд в окно Cheval Blanc, где в ярко освещенной комнате, покрытой белым лаком и позолотой, играли на бильярде офицеры, а за стойкой надменно восседала белокурая девица в малиновой блузе. Он вспомнил военного полицейского и бессознательно ускорил шаги. В узкой улице по другую сторону сквера он остановился перед окном маленькой мелочной лавочки, тщательно избегая продолговатого пятна света, слабо освещавшего поросший травой булыжник и зеленовато-серые стены на другой стороне улицы. Внутри, за прилавком, сидела девушка с вязаньем, скромно поставив свои маленькие черные ножки рядышком на край ящика, полного красной свеклы. Она была очень мила и стройна. Лампа освещала гладко причесанные черные волосы. Лицо ее оставалось в тени. Несколько солдат стояли, неуклюже прислонившись к прилавку и косяку двери, и следили взглядом за каждым ее движением, как собаки следят за блюдом с мясом, которое передвигают на кухне.
Немного погодя девушка сложила свое вязанье и вскочила на ноги; она показала свое лицо – овальное белое личико с длинными темными ресницами и вызывающим ртом. Она постояла немного, глядя на солдат, толпившихся вокруг нее, затем скривила рот в гримасу и исчезла во внутренней комнате.
Фюзелли дошел до конца улицы, где был мост через маленькую речку. Он нагнулся над холодными каменными перилами и посмотрел на булькавшую между полыньями во льду воду, которую едва можно было разглядеть.
– Проклятая жизнь! – пробормотал он, вздрагивая от холодного ветра, но остался на месте, наклонившись над водой.
Вдали беспрерывно грохотали поезда, вызывая в нем представление об огромных унылых расстояниях. Часы на станции пробили восемь. В их бое звучала мягкая нота, похожая на басовую струну гитары. В темноте Фюзелли казалось, что он видит перед собой лицо девушки, гримасничающей своими полными вызывающими губами. Он подумал о темных бараках и людях, уныло сидящих у изголовья своих коек. Черт, он не в состоянии вернуться сейчас обратно! Все существо его жадно стремилось к нежности, теплоте и покою. Он поплелся обратно по узкой улице, злобно и монотонно ругаясь. Перед мелочной лавкой он остановился. Солдат уже не было. Он вошел, лихо сдвинув свою фуражку немного на сторону, так что вьющаяся прядь густых белокурых волос упала ему на лоб. Маленький колокольчик зазвонил в дверях.
Девушка вышла из внутренней комнаты и равнодушно подала ему руку.
– Как поживаете, Ивонна? Хорошо?
Его ломаный французский язык заставил ее показать в улыбке свои маленькие жемчужные зубки.
– Хорошо, – ответила она по-английски. Они расхохотались, как дети.
– Послушайте, хотите быть моей милой, Ивонна? Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась.
– Non compris, – сказала она.
– Yes, yes, хотите быть мой девушка?
Она вскрикнула, смеясь, и сильно хлопнула его по щеке.
– Venez! – сказала она, смеясь.
Он пошел за ней. Во внутренней комнате стоял большой дубовый стол, окруженный стульями. На конце его сидели Эйзенштейн и французский солдат, оживленно беседовавшие о чем-то. Они были так увлечены разговором, что не заметили, как в комнату вошел Фюзелли с девушкой. Ивонна взяла французского солдата за волосы, оттянула его голову назад и повторила ему, все еще смеясь, то, что сказал Фюзелли. Он засмеялся.
– Вы не должны так говорить, – сказал он по-английски, обращаясь к Фюзелли.
Фюзелли надулся и мрачно уселся на другом конце стола, не спуская глаз с Ивонны. Она вытащила из кармана своего передника вязанье и, забавно держа его между двумя пальцами, бросила взгляд на темный конец комнаты, где в кресле дремала старушка, с кружевным чепчиком на голове. Потом она, дурачась, упала на стул.
– Бум! – сказала она.
Фюзелли смеялся до тех пор, пока на глазах его не выступили слезы. Она рассмеялась тоже. Они довольно долго сидели, поглядывая друг на друга и хихикая, в то время как Эйзенштейн и француз продолжали разговаривать. Вдруг Фюзелли уловил фразу, которая поразила его.
– Что бы вы, американцы, стали делать, если бы во Франции вспыхнула революция?
– Мы сделали бы то, что нам приказали бы, – ответил Эйзенштейн с горечью. – Мы рабы.
Фюзелли заметил, что обычно желтое, отекшее лицо Эйзенштейна теперь раскраснелось, а в глазах появился блеск, которого он никогда не замечал у него раньше.
– Как это революция? – спросил Фюзелли, сбитый с толку.
Француз испытующе перевел на него свои черные глаза.
– Я хочу сказать: прекращение бойни – свержение капиталистического правительства, социальная революция…
– Но ведь у вас же республика! Разве нет?
– Такая же, как и у вас.
– Вы рассуждаете как социалист, – сказал Фюзелли. – Я слыхал, что в Америке за такие разговоры расстреливают.
– Видите, – сказал Эйзенштейн французу.
– Все они такие.
– За исключением очень немногих. Это безнадежно, – сказал Эйзенштейн, закрывая лицо руками. – Я часто думаю о том, чтобы застрелиться.
– Уж лучше застрелите кого-нибудь другого, – сказал француз, – это будет полезнее.
Фюзелли беспокойно ерзал на стуле.
– И с чего вы все это выдумали, ребята? – спросил он. Про себя он подумал: «Еврей и лягушатник, нечего сказать – теплая компания».
Его глаза поймали взгляд Ивонны, и они оба расхохотались. Ивонна перебросила ему свой клубок. Он покатился вниз под стол, и они начали ползать кругом и искать его под стульями.
– Два раза мне казалось, что это должно произойти, – сказал француз.
– Когда это?
– Да вот недавно одна дивизия двинулась на Париж… И когда я был в Вердене… О, революция будет! Франция – страна революций.
– Мы всегда будем тут, чтобы подавить ее, – сказал Эйзенштейн.
– Подождите, пусть ваши ребята повоюют немного. Одна зима в траншеях подготовит к революция любую армию.
– Но у нас нет возможности узнать правду. А дисциплина превращает человека в животное, в колесо механизма. Не забывайте, что вы свободнее нас. Мы хуже русских.
– Это удивительно… Но должна же у вас быть какая-то сознательность, привитая цивилизацией. Я всегда слышал, что американцы свободолюбивы и независимы. Неужели они без конца позволят таскать себя на убой?
– О, не знаю! – Эйзенштейн поднялся на ноги. – Пора уже в бараки. Идешь, Фюзелли? – сказал он.
– Конечно, – равнодушно ответил Фюзелли, не вставая со стула.
Эйзенштейн и француз вышли в лавку.
– Бон суар, – сказал Фюзелли нежно, перегибаясь через стол. – Ну, девчурка?
Он лег животом на широкий стол, обнял ее за шею и поцеловал, чувствуя, что все вокруг темнеет в пламени желания. Она спокойно оттолкнула его крепкими маленькими ручками.
– Будет, – сказала она и кивнула головой в сторону старушки, спавшей в кресле в темном углу комнаты. Они стояли, прислушиваясь к ее легкому свистящему храпу.
Он обнял ее и долго целовал в губы.
– Завтра, – сказал он. Она кивнула головой.
Фюзелли быстро зашагал по темной улице к лагерю. Кровь радостно стучала в его жилах. Он нагнал Эйзенштейна.
– Послушай-ка, Эйзенштейн, – сказал он дружеским тоном, – не думаю, чтобы тебе следовало всюду болтать таким образом. Ты можешь этак засыпаться в один прекрасный день.
– Мне все равно.
– Но, черт побери, не собираешься же ты в самом деле лезть в петлю? Они расстреливают ребят и не за такие штуки.
– Пусть.
– Господи Иисусе, ну можно ли строить из себя такого дурака! – возразил Фюзелли.
– Сколько тебе лет, Фюзелли?
– Мне уже двадцать.
– А мне уже тридцать. Я больше жил, дружище, и знаю, что хорошо и что плохо. Эта бойня угнетает меня.
– Господи, я понимаю. Это дьявольская каша. Но кто же заварил ее? Вот если бы кто-нибудь пристрелил этого кайзера…
Эйзенштейн горько рассмеялся. Фюзелли немного замешкался у входа в лагерь, следя за тем, как маленькая фигурка Эйзенштейна исчезала в темноте своей забавной ковыляющей походкой.
«Нужно быть впредь чертовски осторожным и поглядывать, когда идешь с ним в бараки. Этот проклятый жид, может быть, немецкий шпион или офицер секретной службы». Холодная дрожь ужаса пробежала по Фюзелли, рассеивая радостное чувство довольства собой. Его ноги шлепали по лужам и проваливались сквозь тонкий лед, когда он шел по дороге в барак. Ему казалось в темноте, будто за ним отовсюду следят, будто какая-то гигантская фигура ведет его вперед сквозь мрак, держа над ним кулак, готовый каждую минуту размозжить ему голову.
Завернувшись в свои одеяла на койке рядом с Билли Греем, он прошептал:
– Знаешь, Билл, я, кажется, нашел себе девочку в городе.
– Кого?
– Ивонну. Не говори никому. Билли Грей слегка свистнул.
– Ты высоко летаешь, Дэн. Фюзелли фыркнул.
– Черт возьми, дружище, лучшие из них для меня еще недостаточно хороши.
– Ну а я собираюсь покинуть тебя, – сказал Билли Грей.
– Когда?
– Скоро, черт побери! Я не в силах выносить эту жизнь. Не понимаю, как ты можешь!
Фюзелли не ответил. Он тепло укрылся одеялом, думая об Ивонне и капральстве.
Фюзелли рассматривал свой пропуск при свете единственной мигающей лампы, отбрасывавшей на станционную платформу колеблющийся красноватый круг. От утренней зори 4 февраля до утренней зори 5-го он был свободным человеком. Его глаза чесались от сна, когда он прогуливался взад и вперед по холодной платформе. Целых двадцать четыре часа ему не придется выслушивать ничьих приказаний. Несмотря на скучную перспективу езды в поезде по чужой стороне в такую ночь, Фюзелли был счастлив. Он позвякивал в кармане деньгами.
На полотне вдали, быстро приближаясь, появился красный глаз. Он мог расслышать уже тяжелое все нарастающее пыхтение паровоза. Яркое пламя блеснуло ему в глаза, когда паровоз с ревом медленно прополз мимо него. Человек с голыми руками, черными от угольной пыли, высунулся из кочегарки, освещенный сзади желтовато-красным пламенем. Теперь мимо проходили вагоны: платформы с пушками, обмотанными, точно морды у охотничьих собак, товарные вагоны, из которых тут и там просовывались человеческие головы. Поезд почти остановился. Вагоны стучали, наталкиваясь друг на друга. Глаза Фюзелли встретились с парой глаз, блестевших в свете ламп. Чья-то рука протянулась к нему.
– До свиданья, дружище, – сказал мальчишеский голос. – Я не знаю, черт побери, кто ты. Ну, все равно. До свиданья!
– До свиданья, – пробормотал Фюзелли. – На фронт?
– Правильно, черт возьми! – ответил другой голос. Поезд снова начал набирать скорость. Стук вагонов друг о друга прекратился, и через мгновенье они быстро покатились перед глазами Фюзелли. На станции снова стало темно и пусто. Фюзелли следил за тем, как красный огонь делался все меньше и бледнее, по мере того как поезд с грохотом исчезал в темноте.
Золотистые, зеленые и алые шелка и сложные рисунки переплетающихся розовых тел купидонов беспорядочно смешивались в мозгу Фюзелли, когда он спустился, полный восторженного удивления, по лестнице дворца и вышел на улицу, освещенную слабым румянцем вечереющего дня. Несколько имен и— названий – Наполеон, Жозефина, Империя, – которые никогда прежде не занимали места в его воображении, загорелись теперь великолепным царственным блеском, точно живая картина в театре.
– И денег же у них было, видно, пропасть, – сказал бывший с ним солдат-летчик. – Пойдем-ка выпьем.
Фюзелли молчал, погруженный в свои мысли. Он чувствовал здесь что-то, дополнявшее его грезы о богатстве и славе, которыми он любил делиться с Элом, сидя в гавани Сан-Франциско и следя за большими, залитыми огнями пароходами, проходившими через Золотые Ворота.
– Не очень-то они стеснялись насчет того, чтобы рисовать кругом голых женщин, не правда ли? – сказал летчик, угрюмый маленький человек, у которого скверно пахло изо рта.
– Ты осуждаешь их?
– Нет, не то, что осуждаю… Но думаю, что они были все-таки здорово безнравственные, эти типы, – продолжал он неуверенно.
Они бродили по улицам Фонтенбло, рассеянно заглядывая в окна магазинов, пяля глаза на женщин и присаживаясь на скамьях в парке, где сквозь кружево веток, багряных, алых и желтых, отбрасывавших сложные зеленовато-серые тени на асфальт, пробивался бледный солнечный свет.
– Пойдем-ка опрокинем еще, – сказал летчик.
Фюзелли посмотрел на часы: до поезда оставалась еще бездна времени. Девушка в распущенной грязной блузе вытерла стол.
– Vin blanc, – сказал летчик.
– Мэм шоуз, – сказал Фюзелли.
Голова его была полна золотой и зеленой лепки, шелка, алого бархата и сложных картин, на которых непристойно извивались голые розовые тела купидонов. Когда-нибудь, говорил он себе, он наколотит чертовскую кучу денег и поселится в таком же доме с Мэб… нет, с Ивонной или с какой-нибудь другой девочкой.
– Да, уж эти типы здорово, должно быть, были безнравственны! – повторил летчик, искоса поглядывая на девицу в грязной блузе.
Фюзелли вспомнил пир из «Quo vadis», который он видел в кинематографе, – людей, танцующих в купальных халатах с большими чашками в руках, и перевернутые столы с яствами.
– Коньяк! Боку! – сказал летчик.
– Мэм шоуз, – сказал Фюзелли.
Кафе наполнилось зеленым и золотистым шелком и огромными парчовыми кроватями с тяжелой резьбой наверху, – кроватями, в которых извивались розовые и соблазнительные тела купидонов.
Кто-то произнес:
– Хелло, Фюзелли!
Он был в поезде; в ушах у него гудело, а голову стягивал железный обруч. В вагоне, освещенном маленькой лампочкой, мигавшей на потолке, было темно. На минуту он принял мерцавший вверху свет за золотую рыбку в чаше.
– Хелло, Фюзелли, – сказал Эйзенштейн, – здоров?
– Конечно, – сказал Фюзелли осипшим голосом, – почему же мне быть больным?
– Как тебе понравился дворец? – спросил Эйзенштейн серьезно.
– Черт, не знаю, – пробормотал Фюзелли, – я спать хочу.
Все смешалось в его голове. Ему чудились огромные залы, полные зеленого и золотого шелка, и огромные постели с коронами наверху, где спали Наполеон и Жозефина. Кто они были? Ах да, Империя! Потом там были изображения цветов, фруктов и купидонов, золоченые и темные коридоры и лестница, пахнувшая плесенью, где они с летчиком растянулись. Он еще помнил ощущение, когда нос его проехал по жесткому красному плюшевому ковру лестницы. Потом там были женщины в открытых платьях… или это были картины на стенах? И еще там была постель, вся окруженная зеркалами. Он открыл глаза. Эйзенштейн говорил с ним. Он, должно быть, уже давно обращался к нему.
– Я так смотрю на это, – говорил он. – Каждому молодцу необходимо встряхнуться иногда, чтобы быть здоровым. А если он воздержан и осторожен…
Фюзелли заснул. Он снова проснулся и вспомнил вдруг: нужно будет непременно достать эту маленькую синюю книжечку – военные уставы. Не мешает познакомиться с ними на всякий случай. Капрала отправили в госпиталь. У него туберкулез, как сказал сержант Оскер. Им, во всяком случае, придется назначить заместителя. Он уставился на маленькую мигающую лампочку на потолке.
– Как тебе удалось получить отпуск? – спрашивал Эйзенштейн.
О, мне это устроил сержант, – ответил Фюзелли с таинственным видом.
– Ты, кажется, очень хорош с ним? – сказал Эйзенштейн.
Фюзелли снисходительно улыбнулся.
– Скажи-ка, ты знаешь этого малого, Стоктона?
– Белолицего маленького парнишку, который писарем на другом конце бараков?
– Он самый, – сказал Эйзенштейн. – Я хотел бы чем-нибудь помочь этому малому. Он просто не в состоянии вынести дисциплины. Нужно тебе видеть, как он дрожит, когда тамошний рыжий сержант орет на него. Малый чахнет день ото дня.
– Что ж, у него хорошая, легкая работа: писарь, – сказал Фюзелли.
– Ты думаешь, легкая? Я проработал двенадцать часов позавчера, составляя донесения! – сказал с негодованием Эйзенштейн. – Они прямо верхом ездят на малом. Просто смотреть тяжело. Ему нужно быть дома, в школе.
– Что ж, приходится и лекарство принимать, – сказал Фюзелли.
– Подожди, подожди, вот когда тебя сгноят в траншеях, посмотрим, как тебе понравится лекарство, – сказал Эйзенштейн.
– Дурак проклятый, – проворчал Фюзелли, настраиваясь на новый сон.
Зоря вытащила Фюзелли полумертвым от сна.
– Знаешь, Билли, не могу понять, что у меня в голове.
Ответа не было. Только тут он заметил, что соседняя койка пуста. Одеяла были аккуратно сложены в ногах. Внезапный страх охватил его. Он не может обойтись без Билли Грея, говорил он себе. С кем же он будет гулять теперь? Он пристально смотрел на пустую койку.
– Смирно!
Рота выстроилась в темноте. Ноги солдат тонули в грязных рытвинах дороги. Лейтенант вышагивал взад-вперед перед ними с оттопырившейся сзади нижней полой походной шинели. У него был карманный электрический фонарик, который он то и дело направлял на сухие стволы деревьев, на лица солдат, себе, под ноги, в лужи на дороге.
– Если кому-нибудь из вас известно местопребывание рядового первого разряда Вильяма Грея, потрудитесь немедленно донести, так как иначе нам придется признать его дезертиром. Вы знаете, что это значит?
Лейтенант говорил короткими, резкими фразами, отрубая, точно топором, концы слов.
Все молчали.
– Мне нужно еще кое-что объявить вам, ребята, – сказал лейтенант уже естественным голосом. – Я назначаю Фюзелли, рядового первого разряда, исполняющим должность капрала.
Колени Фюзелли ослабели. Он готов был кричать и танцевать от радости. Он был рад, что в темноте никто не мог заметить, как он возбужден.
– Рота, вольно! – весело прокричал сержант.
Разбившись на группы и взволнованно обсуждая охрипшим голосом события, люди побрели через грязные лужи к кухонному бараку.