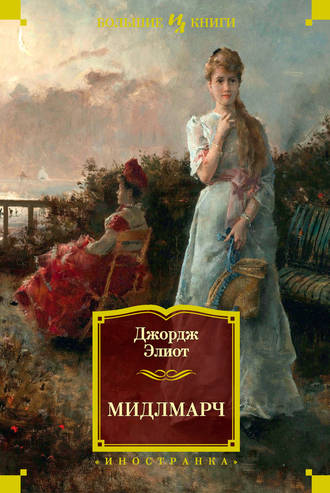
Джордж Элиот
Мидлмарч
– Неужели вы серьезно считаете себя невежественной провинциальной простушкой? – воскликнул Лидгейт, бросив на нее восхищенный взгляд, который вызвал на ее щеках румянец удовольствия. Однако она сохранила прежнюю безыскусственную серьезность и, слегка изогнув красивую шею, чуть поправила свои удивительные волосы – ее обычный жест, столь же изящный, как движение кошачьей лапки. Но Розамонда вовсе не походила на кошечку – она была сильфидой, которую изловили совсем юной и отдали на воспитание в пансион миссис Лемон.
– Поверьте, мой ум совсем необразован, – сказала она. – Для Мидлмарча он вполне годится, и я не боюсь разговаривать с нашими старинными знакомыми. Но вас я правда боюсь.
– Богато одаренная женщина почти всегда знает больше, чем мы, мужчины, хотя ее знания и иного порядка. Я убежден, что вы могли бы научить меня тысяче самых восхитительных вещей – как могла бы многому обучить медведя прелестная птичка, если бы они обладали общим языком. К счастью, у мужчин и женщин такой язык есть, и медведей все-таки можно обучать.
– А, Фред забренчал! Я должна пойти туда, чтобы он перестал терзать ваши нервы, – сказала Розамонда и направилась к фортепьяно. Фред открыл его потому, что мистер Винси пожелал, чтобы Розамонда что-нибудь сыграла гостям, но, воспользовавшись случаем, принялся сам наигрывать одной рукой «Спелые вишни». (Способные люди, блистательно сдавшие экзамены, нередко предаются этому занятию с не меньшим увлечением, чем провалившийся Фред.)
– Фред, будь так добр, отложи свои упражнения до завтра, иначе мистеру Лидгейту может стать дурно, – сказала Розамонда. – У него есть музыкальный слух.
Фред засмеялся, но доиграл мелодию до конца.
Розамонда обернулась к Лидгейту.
– Как видите, медведи не всегда поддаются обучению, – заметила она с легкой улыбкой.
– Садись же, Рози! – скомандовал Фред, предвкушая удовольствие. Он вскочил с табурета и выкрутил его, чтобы ей было удобно. – Начни с чего-нибудь забористого.
Розамонда играла превосходно. Ее учитель в пансионе миссис Лемон (находившемся вблизи старинного городка, от прежде славной истории которого сохранились лишь собор и замок) принадлежал к числу тех прекрасных музыкантов, которых порой можно встретить в нашей провинциальной глуши и которые ни в чем не уступят прославленным капельмейстерам другой страны, где гораздо легче стать музыкальной знаменитостью. Розамонда искусно переняла манеру игры своего учителя и с точностью эха воспроизводила его величавое истолкование благородной музыки. Тот, кто слышал ее в первый раз, всегда бывал невольно поражен. Из-под пальцев Розамонды словно бы лились признания самой ее души. А впрочем, так оно и было – ведь души живут среди нескончаемого эха, и за всяким чудесным отражением где-то кроется то, что его порождает, пусть даже все ограничивается истолкованием. Лидгейт был полностью покорен и уверовал в исключительность Розамонды. В конце концов, думал он, нет смысла удивляться такому редкому сочетанию природных дарований при, казалось бы, столь неблагоприятных обстоятельствах; в любом случае дарования зависят от условий отнюдь не очевидных. Он не спускал с нее глаз, испытывая все более глубокое восхищение, а когда она кончила, не встал, как другие, и не подошел к ней, чтобы сказать какой-нибудь светский комплимент.
Пение ее не так поражало, хотя было безупречным и приятным для слуха, как гармоничный бой хорошо настроенных курантов. Правда, она пела «Приди ко мне в лучах луны» и «Я бродил», ибо смертные должны быть причастны моде своего времени и лишь древним авторам дано всегда оставаться классическими. Однако Розамонда могла бы выразительно спеть и «Черноглазую Сьюзен», и канцонетту Гайдна, а также «Voi, che sapete»[11] или «Batti, batti»[12] – в зависимости от того, что, по ее мнению, могло понравиться слушателям.
Ее отец обводил взглядом гостей, наслаждаясь их восторгом, а мать сидела, подобно Ниобее, которую еще не постигли бедствия, и, держа на коленях младшую дочь, нежно покачивала руку девочки в такт музыке. Даже Фред, несмотря на свое скептическое отношение к Рози, слушал ее с искренним удовольствием, жалея только, что не может вот так же чаровать слушателей своей флейтой. Лидгейт со времени своего приезда в Мидлмарч еще ни разу не бывал на столь приятном семейном вечере. Винси умели радоваться, забывать про заботы и не считали жизнь юдолью скорби, а потому тон их дома был редкостью для провинциальных городов той эпохи, когда евангелизм подозрительно косился на немногие еще сохранявшиеся там развлечения, словно на источники чумной заразы. У Винси играли в вист и карточные столы были уже разложены, а потому некоторые гости с тайным нетерпением ожидали, когда Розамонда кончит петь. Однако прежде успел прийти мистер Фербратер, красивый, широкоплечий, хотя и невысокий, мужчина лет сорока в довольно ветхом сюртуке – но ум, светившийся в живых серых глазах, возмещал отсутствие внешнего лоска. Его появление словно осветило гостиную: он успел ласково пошутить с маленькой Луизой, которую мисс Морган как раз собралась увести, дружески перездоровался со всеми и, казалось, за десять минут сумел сказать больше, чем было сказано за весь вечер. Лидгейту он напомнил об обещании побывать у него:
– И я не позволю вам уклониться, потому что хочу, чтобы вы посмотрели моих жуков. Мы, коллекционеры, не даем покоя новым знакомым, пока не покажем им все, что у нас есть.
Затем он направился к карточному столику, потирая руки со словами:
– Ну-ну, займемся серьезным делом. Мистер Лидгейт? Ах, вы не играете? Да, конечно, вы еще слишком молоды и легкомысленны.
Лидгейт пришел к выводу, что этот священник, чьи таланты столь огорчали мистера Булстрода, по-видимому, привык отдыхать душой в этом, бесспорно, не слишком ученом доме. Пожалуй, его можно понять: добродушие, приятная внешность и старых и молодых, а также развлечения, позволяющие коротать время без напряжения умственных способностей, конечно, должны привлекать сюда тех, кто не знает, на что употребить свой досуг.
У всех тут был здоровый и цветущий вид, не считая лишь мисс Морган, которая была бесцветна, скучна и полна покорности судьбе – то есть, как часто повторяла мисс Винси, самой судьбой предназначалась в гувернантки. Впрочем, Лидгейт не собирался бывать здесь часто – ему было жаль вечеров, пропадающих впустую, и теперь он решил, что еще немного поболтает с Розамондой и откланяется.
– Конечно, мы, обитатели Мидлмарча, вряд ли вам понравимся, – сказала Розамонда, когда партии в вист были составлены. – Мы так необразованны, а вы привыкли к совершенно иному.
– Мне кажется, провинциальные города все одинаковы, – ответил Лидгейт. – Но я давно замечал, что родной город всегда кажется хуже других. Я намерен принимать Мидлмарч таким, каков он есть. Тем более что я никак не ожидал найти в нем столько очарования.
– Если вы имеете в виду живописные дороги, ведущие в Типтон и Лоуик, то они действительно всем очень нравятся, – наивно сказала Розамонда.
– Нет, то, что я имел в виду, находится не столь далеко отсюда.
Розамонда встала, поправила сетку на своих волосах и спросила:
– Скажите, вы танцуете? Я, право, не знаю, танцуют ли серьезные люди.
– Я готов танцевать, если вы согласитесь быть моей дамой.
– Ах! – сказала Розамонда и засмеялась с легким упреком. – Я ведь собиралась просто сказать, что иногда у нас бывают танцы, и спросить, не будете ли вы оскорблены, если мы пришлем вам приглашение.
– При указанном мною условии – нет, не буду.
После этого разговора Лидгейт совсем уж собрался уйти, однако задержался у карточного стола, с интересом наблюдая за мастерской игрой мистера Фербратера и за его лицом, в котором удивительно сочетались проницательность и мягкость. В десять часов подали ужин (так было заведено в Мидлмарче), а также пунш. Впрочем, мистер Фербратер выпил только стакан воды. Он выиграл роббер, но тут же начался новый, и Лидгейт наконец простился и ушел.
Так как еще не было одиннадцати, он, вдыхая бодрящий ночной воздух, направился к церкви Св. Ботольфа, где служил мистер Фербратер, – ее массивная квадратная башня вырисовывалась на звездном небе четким черным силуэтом. Это была самая старая церковь города, однако ее священник получал не десятину, а только жалованье – всего четыреста фунтов в год. Лидгейт знал об этом и прикинул, смотрит ли мистер Фербратер на вист и на свой выигрыш только как на развлечение. «Он кажется очень приятным человеком, – подумалось ему, – но, возможно, у Булстрода есть какие-нибудь веские причины». Если бы оказалось, что мистер Булстрод обыкновенно бывал прав, для Лидгейта многое стало бы гораздо легче. «Какое мне дело до его религиозных убеждений, если они внушают ему здравые идеи? Надо применяться к тому, что есть, а не искать невозможного».
Вот о чем размышлял Лидгейт, покинув дом мистера Винси, и, боюсь, после этого многие читательницы сочтут его недостойным своего внимания. О Розамонде и ее игре он вспомнил, только когда перестал думать о мистере Булстроде, и, хотя ее образ витал перед ним до конца прогулки, он не испытывал никакого волнения и не ощущал, что в его жизни произошла хотя бы малейшая перемена. Он пока еще не мог жениться и даже мысль об этом откладывал на будущее, а потому не собирался влюбляться хотя бы и в самую очаровательную девушку. Розамонда казалась ему очаровательной, но он не сомневался, что ни одна красавица больше не заставит его потерять голову, как когда-то Лаура. Правда, если бы речь все-таки зашла о любви, то вряд ли можно было бы найти избранницу безопаснее мисс Винси, чей ум украсил бы любую женщину – образованный, утонченный, восприимчивый, способный постигать деликатнейшие оттенки жизни и обитающий в теле, которое настолько все это подтверждает, что иных доказательств не нужно. Лидгейт почувствовал, что его жена – если он когда-нибудь женится – будет наделена такой же мягкой лучезарностью, такой же женственностью, родственной цветам и музыке, такой же красотой, которая по самой природе своей добродетельна, потому что создана лишь для чистых и возвышенных радостей.
Но в ближайшие пять лет он жениться не собирался, а пока у него было более неотложное дело – дома его ждала новая книга Луи о горячке, особенно интересная потому, что он был знаком с Луи в Париже, а также присутствовал на множестве анатомических демонстраций, изучая различия между тифом и тифоидом. Он вернулся домой и читал почти до рассвета, штудируя это описание болезней с таким вниманием к подробностям и с такой критичностью, какие не считал нужным тратить на размышления о любви и браке, поскольку полагал, что вполне достаточно тут осведомлен благодаря романам и вековой мудрости, которую мужчины из поколения в поколение передают друг другу в дружеских разговорах. Тогда как в горячке было много таинственного: она давала обильную пищу воображению и увлекательную работу дисциплинированному уму, далекому от прихотливых фантазий, – он сопоставлял и строил предположения, ясным взглядом охватывая все вероятности, исходя из уже имеющихся знаний, а затем в деятельном союзе с беспристрастной Природой придумывал испытания, дабы проверять ее же творения.
Многих людей восхваляли за живость воображения на том лишь основании, что они в больших количествах создавали посредственные картины либо скверную прозу: изложения пустых разговоров, ведущихся на дальних планетах, или портреты Люцифера в виде уродливого великана, отправляющегося творить свои скверные дела на крыльях летучей мыши среди клубов фосфорического сияния, или же преувеличения мерзостей, которые преображают жизнь в болезненный бред. Однако Лидгейту такого рода вдохновение представлялось пошлым и бессмысленным, особенно в сравнении с воображением, которое постигает тончайшие процессы, недоступные никаким увеличительным стеклам, прослеживая их в непроглядной тьме по длинным цепям причин и следствий с помощью внутреннего света, представляющего собой высшее напряжение энергии и способного озарить своим совершенным сиянием даже атомы эфира. Сам он презрительно отбрасывал прочь дешевые выдумки, которыми тешится ленивое невежество, – его властно влекла та пылкая работа мысли, которая лежит в самой основе научных исследований либо помогает заранее обрисовать их цель, а затем уточняет и выверяет способы ее достижения. Он стремился проникнуть в тайну тех скрытых процессов, из которых рождаются человеческие радости и горести, развеять мрак, скрывающий те невидимые пути, на которых таятся душевные страдания, безумие и преступления, те тонкие механизмы, которые определяют развитие счастливого или несчастного характера.
И когда Лидгейт наконец отложил книгу, вытянул ноги к тлеющим углям в камине и закинул руки за голову, испытывая то приятное расслабление, которое наступает после напряженного труда, потому что мысль уже не стремится к постижению одного определенного предмета, а неторопливо отдыхает в единении со всем нашим существом, словно пловец, перевернувшийся на спину и отдающийся на волю течения в спокойствии нерастраченных сил, он ощутил торжествующую радость и что-то вроде жалости к тем злополучным неудачникам, которые не принадлежали к его профессии.
«Если бы тогда, в детстве, я не сделал этого выбора, – думал он, – то, возможно, тянул бы теперь какую-нибудь дурацкую лямку и ничего не видел бы вокруг себя. Я был бы несчастен, занимаясь делом, которое не требовало бы от меня напряжения всех моих умственных сил и не держало бы меня в постоянном живом соприкосновении с другими людьми. Тут медицина ни с чем не сравнится – она открывает передо мной безграничные просторы науки и позволяет облегчать участь стариков в приходской богадельне. Священникам сочетать то и другое куда труднее, и Фербратер как будто составляет исключение». Тут его мысли вновь обратились к семейству Винси, и в памяти всплыли подробности прошлого вечера. Перебирая их в уме, Лидгейт не испытывал ничего, кроме удовольствия, и, когда, взяв свечу, он направился к себе в спальню, на его губах играла легкая улыбка, обычно сопровождающая приятные воспоминания. Он был наделен пылкой натурой, но пока отдавал этот пыл любимой науке и честолюбивому желанию всей своей жизнью внести признанный вклад в улучшение жизни человечества – подобно другим героям науки, которые начинали простыми врачами в деревенской глуши.
Бедный Лидгейт! Или мне следует сказать: бедная Розамонда! У каждого из них был свой мир, о котором другой не имел ни малейшего представления. Лидгейту и в голову не приходило, что на нем сейчас сосредоточены все помыслы Розамонды, у которой не было ни причин считать свое замужество делом далекого будущего, ни научных занятий, способных отвлечь ее от мысленного повторения каждого взгляда, слова и фразы, что занимает столько места в жизни большинства девушек. Он полагал, что смотрит на нее и говорит с ней лишь с той долей естественного восхищения, которое красивая девушка не может не внушить каждому мужчине. Он даже был уверен, что почти не выдал удовольствия, которое доставила ему ее игра, опасаясь, как бы его удивление не показалось невежливым, словно он не ждал от нее подобного совершенства. Однако Розамонда заметила и запомнила каждое его слово и каждый взгляд, считая их завязкой романа, который предвидела заранее, – завязкой, обретшей достоверность благодаря мысленно уже пережитым кульминации и развязке. Роман, сочинявшийся Розамондой, не требовал обрисовки ни внутренней жизни героя, ни занятий, которым он посвятил жизнь. Разумеется, он был не только красив, но также умен и достаточно богат, однако самым главным достоинством Лидгейта было благородное происхождение, отличавшее его от всех мидлмарчских ее поклонников, – брак с ним означал более высокое положение в обществе, а может быть, и доступ в тот земной рай, где она избавится от всех вульгарных знакомых и вступит в круг новой родни, ни в чем не уступающей местным помещикам, которые смотрят сверху вниз на обитателей Мидлмарча. Особый склад ума Розамонды позволял ей улавливать тончайшие оттенки светских различий: однажды ей довелось увидеть барышень Брук, которые сопровождали дядю, приехавшего на судебную сессию, и сидели на местах, отведенных для аристократии, – и она позавидовала им, хотя одеты они были очень просто и скромно.
Если вам покажется невероятным, что мысли о семейных связях Лидгейта могли вызвать в душе Розамонды сладкое волнение, которое она воспринимала как знак своей в него влюбленности, то я воззову к вашей наблюдательности и спрошу, не замечали ли вы того же свойства за красным мундиром и эполетами? Наши чувства не живут раздельно в запертых кельях, но, облаченные в одежды из собственных понятий, сходятся к общему столу со своими кушаньями и угощаются из общих запасов в соответствии с аппетитом каждого.
Розамонда, собственно говоря, была поглощена не столько самим Тертием Лидгейтом, сколько его отношением к ней, – и девушке, привыкшей слышать, что все молодые люди должны обязательно и неизбежно влюбиться в нее, если уже не влюбились, следует простить уверенность, будто Лидгейт не может составить исключения. Его взоры и слова значили для нее больше, чем взоры и слова других мужчин, потому что больше ее интересовали, – она тщательно их обдумывала и столь же тщательно следила за совершенством своего облика, манер, разговора и прочих чар, которые Лидгейт, несомненно, сумеет оценить более глубоко, чем прежние ее поклонники.
Ибо Розамонда, хотя она никогда не делала того, что ей не нравилось, была прилежна и теперь с особым усердием писала акварелью пейзажи, рыночные повозки и портреты приятельниц, упражнялась на фортепьяно и с утра до вечера вела себя в точном согласии со своими представлениями о том, какой должна быть истинная леди, старательно играя эту роль перед самой собой, а иногда с еще большим удовольствием и перед посторонними зрителями, то есть перед знакомыми, когда они приезжали с визитом. Она находила время читать самые лучшие романы, а также и не самые лучшие, и знала наизусть множество стихов. Любимым своим поэтическим произведением она назвала бы «Лалла-Рук».
«Лучшая девушка в мире. Тот, кому она достанется, может считать себя редким счастливцем!» – утверждали пожилые джентльмены, бывавшие у Винси, а отвергнутые молодые поклонники решали попробовать еще раз, как это принято в провинциальных городах, где возможных соперников не так уж много. Однако миссис Плимдейл полагала, что Розамонда напрасно совершенствовалась в своих светских талантах: какой от них толк, если она, выйдя замуж, все это оставит? А ее тетка Булстрод, питавшая к семье брата истинно родственную привязанность, от души желала Розамонде двух вещей: обрести более серьезный взгляд на мир и найти мужа, чье богатство отвечало бы ее притязаниям.
Глава XVII
Она красавицей слыла,
Но бесприданницей была
И старой девой умерла.
Преподобный Кэмден Фербратер, в гости к которому Лидгейт отправился на следующий день, жил в старом каменном доме при церкви, почти столь же древнего вида, как и она сама. Старой была и мебель, хотя восходила она всего лишь к временам отца мистера Фербратера и его деда. Выкрашенные белой краской стулья с позолотой и веночками, занавески из обветшавшего, когда-то красного дамаска, гравированные портреты лордов-канцлеров и других именитых законоведов прошлого столетия, отражавшиеся в старомодных стенных зеркалах, светлые полированные столики и кушетки, больше всего похожие на растянутые и отнюдь не покойные кресла, – фоном же всему этому служили потемневшие от времени дубовые панели. Так выглядела гостиная, куда ввели мистера Лидгейта и где его приняли три дамы, столь же старомодные, столь же поблекшие и столь же почтенные: миссис Фербратер, седовласая матушка священника, еще не достигшая семидесяти лет, с живыми глазами и прямой спиной, выглядевшая очень изящной в свежем платье со множеством оборок и в нарядной шали; мисс Ноубл, ее сестра, крохотная кроткая старушка, чьи оборки и шаль были гораздо более поношены, а кое-где и подштопаны; и наконец, мисс Уинифред Фербратер, старшая сестра священника, похожая на него и еще довольно красивая, но замкнутая в себе и робкая, какими обычно бывают одинокие женщины, которые всю жизнь подчиняются старшим родственникам. Лидгейт не ожидал увидеть этот женский кружок. Зная только, что мистер Фербратер холост, он предполагал, что будет принят в кабинете среди книжных шкафов и ящиков с коллекциями. И сам священник выглядел несколько иным – явление довольно обычное, когда впервые видишь недавнего знакомого в домашней обстановке. В подобных случаях порой кажется, что актеру на амплуа добродушных резонеров вдруг поручили роль ворчливого скупца. Впрочем, к мистеру Фербратеру это не относилось. Просто его кротость стала еще заметнее, а разговорчивость сменилась молчаливостью – говорила главным образом его мать, а он лишь изредка добродушно вставлял слово-другое, чтобы смягчить ее категоричность. Старушка, несомненно, привыкла предписывать своим собеседникам, что им следует думать, и считала, что без ее помощи они не сумеют правильно разобраться ни в одном предмете. От исполнения этой взятой на себя обязанности ее ничто не отвлекало, так как мисс Уинифред заботливо предупреждала всякое ее желание. Тем временем маленькая мисс Ноубл словно нечаянно уронила кусок сахара себе на блюдце и тут же тихонько опустила его в корзиночку, висевшую у нее на руке, боязливо оглянулась и поднесла к губам чашку, что-то пискнув, как испуганный зверек. Прошу вас, не думайте дурно о мисс Ноубл. В корзиночку попадали лакомства, которых она лишала себя, чтобы оделять ими детишек окрестных бедняков, когда навещала их по утрам в хорошую погоду. Она получала такое удовольствие, если могла приголубить и побаловать какое-нибудь живое существо, что ей казалось, будто это порок, пусть и приятный. А может быть, она постоянно испытывала искушение украсть у тех, кто имел все в избытке, чтобы помочь тем, у кого не было ничего, и это подавляемое желание тяжелым бременем ложилось на ее совесть. Давать – это роскошь, доступная только тем, кто беден.
Миссис Фербратер приветствовала гостя с любезностью, в которой, однако, было больше живости, чем церемонности. Она почти сразу же сообщила ему, что у них в доме редко требуется помощь врача. Она приучила своих детей носить теплое белье и соблюдать умеренность в еде, – по ее мнению, главной причиной всех болезней была неумеренность в еде. Лидгейт было вступился за тех, чьи родители любили плотно поесть, но миссис Фербратер сочла такую точку зрения опасной и порочащей Природу: эдак каждый преступник начнет требовать, чтобы вместо него повесили его предков. Если дети негодяев сами становятся негодяями, то их и надо вешать, а не пускаться в рассуждения неизвестно о чем.
– Матушка, как Георг Третий, возражает против метафизики, – сказал священник.
– Я, Кэмден, возражаю против того, что неверно. Достаточно помнить несколько простых истин и все с ними согласовывать. В дни моей молодости, мистер Лидгейт, ни у кого не было никаких сомнений, что хорошо, а что дурно. Мы учили катехизис, и ничего больше не требовалось, мы знали Символ веры и свои обязанности. Между священнослужителями не было никаких духовных разногласий. А теперь вам будут возражать, даже если вы прямо читаете из молитвенника.
– Довольно приятная эпоха для тех, кто любит придерживаться собственной точки зрения, – заметил Лидгейт.
– Но матушка всегда готова уступить, – лукаво вставил священник.
– Нет, нет, Кэмден, не вводи мистера Лидгейта в заблуждение. Я никогда не дойду до такого неуважения к моим родителям, чтобы отречься от того, чему они меня учили. И всем известно, к чему приводит перемена взглядов. Если один раз, то почему не двадцать!
– Человек может согласиться с убедительными доводами и переменить точку зрения, а потом твердо ее придерживаться, – сказал Лидгейт, которого забавляла решительность старушки.
– Нет, простите! Доводов всегда можно набрать сколько угодно, если человек непостоянен в своих взглядах. Мой отец никогда их не менял, и проповеди его были простыми и поучительными без всяких доводов, а найти человека лучше его было бы трудно! Покажите мне хорошего человека, созданного из доводов, и я вместо обеда угощу вас описаниями кушаний из поваренной книги. Вот так-то! И думаю, любой желудок подтвердит мою правоту.
– В отношении обеда, матушка, подтвердит, и несомненно, – сказал мистер Фербратер.
– Обед ли, человек ли – это одно и то же. Мне под семьдесят, мистер Лидгейт, и я полагаюсь на свой опыт. Я не пойду за новыми путеводными огнями, хотя их тут не меньше, чем повсюду. Теперь словно ткут из каких попало нитей: ни стирки не выдерживают, ни но́ски. В дни моей молодости все было по-другому: если человек прилежал церкви, он прилежал церкви, а священник во всяком случае был джентльменом. Теперь же священник может быть чуть ли не сектантом и оттирать моего сына в сторону, ссылаясь на доктрину. Но кто бы ни старался оттереть его, я с гордостью скажу, мистер Лидгейт, что во всей стране мало найдется равных ему проповедников, а про этот город и говорить нечего – тут быть первым похвала невелика. Во всяком случае, по моему мнению – я ведь знаю, что такое истинное благочестие.
– Кто сравнится с матерями в беспристрастности? – спросил мистер Фербратер с улыбкой. – Как по-вашему, матушка, что говорит о Тайке его мать?
– Бедняжка! А что она может сказать! – воскликнула миссис Фербратер, на мгновение утрачивая категоричность – так велика была ее вера в материнские суждения. – Уж поверь, себе она говорит правду.
– Но что именно? – осведомился Лидгейт. – Мне очень бы хотелось это знать.
– О, ничего плохого! – ответил мистер Фербратер. – Он весьма ревностный малый, не очень ученый и не очень умный, как мне кажется… ведь я с ним не согласен.
– Ты слишком снисходителен, Кэмден! – сказала мисс Уинифред. – Гриффин и его жена говорили мне сегодня, что мистер Тайк распорядился, чтобы им не давали больше угля, если они будут слушать твои проповеди.
Миссис Фербратер отложила вязанье, которое снова взяла, выпив свой чай и съев поджаренный ломтик хлеба, и пристально посмотрела на сына. «Ты слышишь?!» – словно говорил ее взгляд.
– Ах, бедные, бедные! – воскликнула мисс Ноубл, возможно имея в виду двойную утрату – угля и проповеди.
Однако священник сказал спокойно:
– Но ведь они не мои прихожане. И не думаю, что мои проповеди важней для них, чем корзина угля.
– Мистер Лидгейт, – поспешила сказать миссис Фербратер, – вы не знаете моего сына: он ценит себя слишком низко. Я постоянно ему повторяю, что он слишком низко ценит Бога, который его создал – и создал прекрасным проповедником.
– По-видимому, матушка, мне пора увести мистера Лидгейта к себе в кабинет, – со смехом заметил священник. – Я ведь обещал показать вам мои коллекции, – добавил он, обернувшись к Лидгейту. – Так пойдемте?
Все три дамы начали возражать. Наверное, мистер Лидгейт выпьет еще чашечку чая (мисс Уинифред заварила его очень много). Почему Кэмден так торопится увести гостя к себе? Там же ничего нет, кроме всяких маринованных тварей в банках да навозных мух и ночных бабочек в ящиках. Даже ковра на полу нет. Конечно, мистер Лидгейт это извинит, но все-таки… Почему бы лучше не сыграть в криббедж? Короче говоря, хотя мать, тетка и сестра мистера Фербратера считали его лучшим из людей и проповедников, они, по-видимому, полагали, что без их наставлений он никак обойтись не может. Лидгейт с бессердечием молодого холостяка подивился, почему мистер Фербратер им это спускает.
– Матушке кажется странным, что мое увлечение может быть интересно гостю, – это случается не так уж часто, – сказал священник, открывая дверь кабинета, который действительно, как и давали понять дамы, был обставлен очень скудно, без какого-либо намека на роскошь, если не считать короткой фарфоровой трубки и ящичка с табаком.
– Люди вашей профессии обычно не курят, – заметил мистер Фербратер, и Лидгейт, улыбнувшись, кивнул. – И моей тоже. Так, собственно, и следует, я полагаю. Вы еще услышите, как мне достается за эту трубку от Булстрода и компании. Они даже не представляют, в какой восторг пришел бы дьявол, откажись я от нее.
– Да, конечно. Вы вспыльчивы и нуждаетесь в успокаивающем средстве. А я флегматичнее и от курения обленился бы. Предался бы праздности и погрузился в спячку со всей моей энергией.
– А вы намерены всецело отдать ее работе. Я лет на десять – двенадцать старше вас и научился идти на компромиссы. А потому немножко потакаю некоторым своим слабостям, чтобы они не взбунтовались. Но посмотрите, – продолжал он, выдвигая несколько небольших ящиков. – По-моему, насекомые нашего края у меня представлены очень полно. Я занимаюсь и фауной и флорой, но насекомые – мой конек. Мы чрезвычайно богаты прямокрылыми. Не знаю, насколько… А! Вы смотрите на эту банку, а не на мои ящики. Вас все это не интересует?
– Нет, когда я вижу такого очаровательного анацефального уродца. У меня не было времени, чтобы по-настоящему заняться естественной историей. Строение организма – вот что занимало меня с самого начала, и это прямо связано с моей профессией. А потому у меня нет нужды в других увлечениях, передо мной и так расстилается море.
– Счастливец! – вздохнул мистер Фербратер и, повернувшись на каблуках, принялся набивать трубку. – Вы не знаете, что значит испытывать потребность в духовном табаке, – плохие толкования древних текстов, крохотные заметки о разновидности травяной тли, подписанные звучным именем Филомикрон, для «Журнала бездельников» или же ученый трактат о насекомых в Пятикнижии, включая всех тех, которые там не упомянуты, но тем не менее могли быть встречены израильтянами во время их скитаний по пустыне. И еще монография, посвященная взглядам Соломона на муравьев и доказывающая полное соответствие Книги Притчей и результатов современных исследований. Ничего, что я вас окуриваю?
Откровенность этой речи удивила Лидгейта даже больше, чем содержавшийся в ней намек на то, что мистер Фербратер предпочел бы в жизни иное занятие. Все эти специально изготовленные ящики и полки, а также книжный шкаф, набитый дорогими иллюстрированными книгами по естественной истории, навели его на мысль о том, какое применение находил священник своим карточным выигрышам. Однако ему уже хотелось, чтобы наилучшее истолкование любых действий мистера Фербратера и было бы истинным. Откровенность священника совершенно не походила на ту неприятную откровенность, какой нечистая совесть спешит предупредить чужие суждения, – просто он предпочитал, насколько мог, избегать притворства. Впрочем, мистеру Фербратеру, по-видимому, пришло в голову, что такая непринужденность могла показаться его собеседнику преждевременной. Во всяком случае, он поторопился объяснить:







