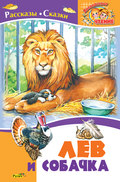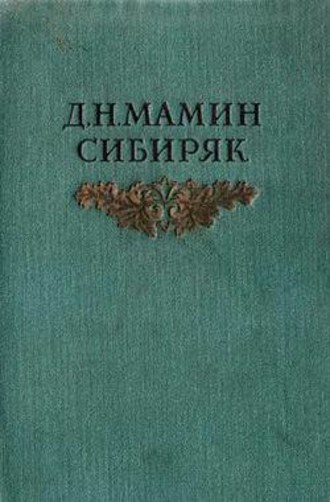
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Из уральской старины
X дрон хоть и прост, а как Федька попадет ему в лапы, костей не соберет. Посильнее Федьки будет поп-то, даром что старик…
– Да?
– Уж беспременно… Как медведь поп-от: пожалуй, и башку отвернет под сердитую руку.
Матильда задумалась и долго ходила по комнате, что-то соображая про себя; лицо у ней было нахмурено и бледно, губы сжаты, грудь поднималась тяжелой волной. Анфиса следила за ней улыбавшимися хитрыми глазами и в душе была счастлива: чужие страдания ей всегда доставляли величайшее наслаждение, особенно страдания женщин, которые имели несчастье быть красивее горбуньи. «Так и надо, так и надо! – повторяла она про себя, наслаждаясь чужим горем.– Вот вам, красивым-то, воем так нужно… Не сладко, видно, миленькая Матильда Карловна?»
– Послушай, Анфиса,– заговорила Матильда, останавливаясь перед горбуньей.– Я была сейчас у Яшки-Херувима… Он до чертиков допился, ну, да я его нашатырным спиртом вытрезвила, ничего, продыбается. Вечером-то я хотела сама ехать с ним в Ключики… Понимаешь? Ну, а теперь нельзя изза этой твари Матрешки: все дело испортит, ежели оставить ее одну с Евграфом Павлычем
– Ничего, сократим… Не таких ломали; с жиру девка бесится.
– А как меня хватится?.. Беда будет… Так вот я и придумала: поезжай уж ты с Яшкой, а я здесь останусь. Отправлю вас с кучером Гунькой на паре гнедых, которых из Барабы[2] привели,– в час двадцать-то верст промчат,– а вы остановитесь не у попа… Нет, все равно, к попу прямо на двор; ты останешься в повозке, спрячешься, а Яшка пусть идет к попу. Поняла?
– Ну, барышня, как не понять… что вы!
– Ты только смотри за Яшкой в оба, чтобы н-е натренькался прежде дела… Если Федя у попа, выжди, пока он с поповной где-нибудь свиданье устроит; уж наверно у них сегодня будет свиданье, сердце у меня чует.
Горбунья улыбнулась одними глазами и только мотнула своей птичьей головой,– дескать, известное это дело.
– А когда Федя будет на свиданье, Яшка и пусть шепнет попу такое словечко про дочь… Одного-то Яшку нельзя отпустить: или проболтается, или напьется прежде времени, а когда будет знать, что ты следишь за ним, он устроит. Ведь Яшка сильно тебя боится.
– Чего ему меня бояться? Я не медведь,– надулась горбунья, питавшая к Яше-Херувиму нежные чувства; она постоянно была в кого-нибудь влюблена и разыгрывала бесконечные романы самого фантастического характера, воображая себя красавицей.
– Да, я и забыла, что ты влюблена в него,– засмеялась Матильда Карловна.– Значит, вам веселее будет ехать вдвоем.
Горбунья промолчала, потому что не умела прощать даже самых невинных шуток, задевавших ее сердечные дела, но, занятая своими соображениями, нмка не желала ничего замечать, а только прибавила не допускающим возражений тоном, каким распоряжалась обыкновенно в девичьей:
– Ну, так решено: под вечер я тебя отправлю с Яшей, а сама останусь дежурить здесь.
– Может, Евграф-то Павлыч не захочет еще глядеть на Матрешку,– ядовито заметила горбунья.– Он что-то давненько не бывал у вас… соскучился, поди!
– Молчать, змея подколодная! – крикнула Матильда Карловна, вспыхнув до ушей.– Очень мне нужно возиться с ним! Будет уж, надоел… Пусть свои узелки развязывает… Разве не стало девок? Вон их целы двенадцать… А ты со мной не разговаривать, когда не спрашивают! Слышала? А то я тебе завяжу рот. насидишься вместе с Дашкой…
Горбунья сделала свое обычное смиренное лицо и принялась просить прощения фальшивым голосом.
III
Летнее горячее солнце начало клониться к западу. В кургатском господском саду вдруг захолсдело, потянули длинные тени от деревьев, пахнуло откуда-то сыростью, последние птицы лениво перекликались где-то в самых вершинах развесистых столетних берез. Господский дом был все еще залит ярким светом, который слепил глаза, отражаясь от ярко выбеленных известкой стен; это было громадное здание с толстыми, чуть не крепостными стенами, глядевшими кругом узкими, длинными окнами, походившими на крепостные амбразуры. Перед домом расстилалась небольшая, неправильной формы площадь, упиравшаяся одним краем в фабрику, а другим – в сад и берег пруда. Очевидно, дом был построен очень давно, как строили только в старину.
Входа с улицы в дом не было, а сначала нужно было войти в каменные низкие ворота с железною решеткой; мощенный плитнякам двор с четырех сторон был окружен непрерывною цепью построек; за домом сейчас начиналась громадная кухня, потом людская, дальше погреб, рядом с ним тот флигель, где жил Яша. От ворот до флигелька шел длинный каменный корпус, служивший конюшней и псарней. Собственно, самый дом разделялся на две половины: в одной, которая выходила частью окон во двор, жил барин Евграф Павлыч Катаев, а в другой – его родной брат Андрей Павлыч. Братья враждовали между собой с незапамятных времен, как выражаются учебники истории; Андрей Павлыч постоянно проживал за границей, и поэтому его половина, выходившая окнами на пруд, стояла необитаемой. Управление Кургатским заводом разделялось на две половины, и такое разделение служило источником нескончаемых недоразумений, пререканий и раздоров.
С балкона на половине Евграфа Павлыча можно было любоваться отличным видом на весь Кургатский завод и на теснившиеся кругом него горы. Завод раскидал кучки своих бревенчатых домиков в узкой горной теснине, на дне которой разлился неправильною полосой большой пруд, уходивший загибом в настоящее горное ущелье; этот пруд разделял завод на две части: на одной стоял господский дом со своим громадным садом, на другой – белая каменная церковь и небольшой заводский рынок. Сейчас за плотиной начинались покрытые сажей заводские здания, две домны, целый ряд труб и выкрашенное в серую краску помещение заводской конторы; завод вечно гремел тысячами колес и валов, дымил и сыпал искры. Глухой шум воды смешивался с вечным грохотом и лязгом железа, точно здесь билось на цепи какое-то чудовище, скованное по рукам и по ногам. Общий вид на широкие заводские .улицы, на пруд, на завод и на выбегавшую из-под него бойкую горную речку Кургат был довольно красив, особенно летом, и точно нарочно был вставлен в тяжелую раму из зеленого рытого бархата. Вечером, когда даль заволакивалась синеватою мглой, вид на Кургатский завод и окрестности был замечательно хорош.
Барин Евграф Павлыч проснулся только в седьмом часу; после обеда он всегда задавал приличную выхрапку, потому что вставал вообще очень рано. Летам ему подавали сейчас, как проснется, целый графин квасу; барин, не вставая с постели, выпизал его стакан за стаканом и только этим путем приходил в себя. Обыкновенно квас подавала сама Матильда Карловна, пользовавшаяся привилегией входить в барскую спальню во всякое время дня и ночи. Она садилась на низенький табурет и ждала, пока графин опустеет; барин, в расстегнутой ночной рубахе, открывавшей жирную шею и волосатую могучую грудь, выпивал первый стакан молча, морщился, тяжело вздыхал и говорил:
– Кажется, я сегодня за обедом перепаратил немного: башка трещит, Моть… Ух, как кочевряжит!
– А кто велит каждый день напиваться? – с сдержанной досадой отвечает Матильда Карловна.– С раннего утра начинаете рюмки хлопать.
Евграф Павлыч долго сопит носом, трет свое скуластое, опухшее лицо ладонью, ощупывает жирный, красный затылок, трясет ушами и опять принимается за холодный, ледяной квас, которым напрасно старается залить внутренний жар. Лицо у барина очень некрасивое: с маленькими сонными глазами, с мясистым) вздернутым носом, густыми бровями и жирным узким лбом; бороду он брил и носил длинные усы, придававшие ему вид отставного вахмистра. Высокого роста, тяжелый на ногу, с могучей грудью и грубым голосом, Евграф Павлыч в свои сорок пять лет был все еше капризным ребенком, каких воспитывало старое коренное барство. Он требовал постоянного ухода за собой и привыкал к крепким рукам вроде тех, какие были у Матильды Карловны, последней барской фаворитки, завезенной в Кургатский завод из Москвы.
– Ну, Мотя, что у нас новенького? – весело спросил Евграф Павлыч, когда сегодня выпил свою порцию квасу.
– Ничего нового нет… все старое.
– Ага…
Барин встал и попробовал ущипнуть Матильду Карловну за плечо, но она увернулась и надула свои розовые пухлые губки.
– А ты мне обещала, Мотя, сегодня узелок…– проговорил барин и захохотал.– Я ведь не забыл и вечерком приду в ваш монастырь.
– Что другое, а это не забудете,– сердито отвечала Матильда Карловна, помогая барину одеваться.
– Чья сегодня очередь? – спрашивал барин, поднимая от умывальника свое лицо, покрытое мыльной пеной.
– Матреша будет…
– Гм! ничего, только уж худа она очень. Плохо их кормишь, Мотя, а я, знаешь, люблю пожирнее… ха-ха!
– Перестаньте, пожалуйста, вздор городить, а то я уйду.
– Ну, ну, не сердись… за хороший узелок браслет подарю. Я и то монахам нынче живу.
– Да, сказывайте… А в город прошлый раз ездили, так целых три дня у этой кержанки кутили. Знаем все.
– Что же? Кутил… Кержанка славная бабенка.
Умыванье барина представляло довольно сложную церемонию и совершалось битых полчаса: в спальне слышалось кряхтенье, фырканье, плеск воды, точно полоскался целый утиный выводок. Вымывшись холодною водой, Евграф Павлыч надевал бархатный расшитый халат и выходил в свой кабинет, где его уже ожидал графин с водкой,– нужно было поправиться, и барин опять крякал и вздыхал, точно вез тяжелый воз.
Кабинет, светлая и высокая комната с письменным) столом посредине, скорее походил на какую-нибудь оружейную палату; все стены были увешаны всевозможным снарядом – ружьями, пистолетами, саблями, кинжалами; в одном углу стояла целая коллекция медвежьих рогатин, в другом – коллекция нагаек, у стола – коллекция трубок. Письменный стол был завален, разным дорогим хламом, а чернильница стояла без чернил; бария не любил писать, даже письма за него писала Матильда Карловна. Перед письменным столом, на стене, в тяжелой раме черного дерева, висела голая красавица, написанная масляными красками довольно свободно: она только что вышла из воды и отдыхала на какой-то полосатой шкуре, придававшей голому телу теплый колорит. Напротив письменного стола, у самой стены, помещался низкий и широкий диван, сделанный из лосиных рогов; несколько тяжелых кресел красного дерева, шкаф с книгами соблазнительного содержания и небольшое бюро в простенке между окнами дополняли обстановку. Перед письменным столом и перед диваном лежали две медвежьих шкуры с набитыми головами и распластанными лапами; это были охотничьи трофеи Евграфа Павлыча, любившего потешить свою удаль с Мишкой.
Из кабинета одни двери вели в спальню, а другие в приемную, очень неприглядную, большую комнату, уставленную тяжелой мебелью.
– А где Ремянников? – спросил Евграф Павлыч, когда выпил вторую рюмку.
– Не знаю… Вы его сами куда-то отпустили,– ответила Матильда Карловна.– Его нет с утра.
– Ах, да, он уехал по делу. Нужно было…
– По какому это делу?
– Ну, по делу… Коренника ищем к тройке: зверя нужно, чтобы рвал и метал. Был коренник, да загнали… Черт его знает, с чего он пал: должно быть, мошенники кучера закормили, ну, и задохся. Послушай, Мотя, ты, кажется, сердишься?
– И не думала… Сегодня с Яшей цыганские песни учила, скоро хором будем петь. У Даши славный гслос и у Матреши ничего.
– Вот увидим, какой у твоей Матреши голос,– хрипло засмеялся Евграф Павлыч, откидывая голову назад.
– Только я с этой Анфисой совсем замаялась,– продолжала Матильда Карлоша, не обращая внимания на хохотавшего барина.– Уж такая злая, такая злая…
– Да и ты, матушка, тоже хороша, ха-ха! Нашла, видно, коса на камень. Так?.. Да ну, Мотя, перестань дуться, терпеть не могу. А у этой горбуньи отличный голос: серебром так и разливается… Так очень уж злая, говоришь, стала? Ну, поучи ее, добрее будет… Вы там жилы друг из дружки вытянете, ха-ха!
Поздно вечером, когда солнце закатилось и весь Кургатский завод утонул в надвигавшейся ночной мгле, со двора господского дома выехала небольшая зеленая долгушка, заложенная парой барабинских гнедых. На козлах сидел знаменитый кучер Гунька, останавливавший тройку на всем скаку одной рукой; это был лучший и самый любимый наездник Евграфа Павлыча, пользовавшийся всеми правами и преимуществами своего исключительного положения. На вид Гунька «ничем не выделялся от других заводских мужиков, кроме того, что был крив на один глаз и вечно молчал, как пришибленный; скуластое, обросшее до самых глаз рыжеватой бородой, Гунькино лицо производило неприятное впечатление, да и одевался ое как-то не по-людски,– все на нем лезло в разные стороны: синяя изгребная рубаха болталась отдувавшейся пазухой, как мешок, армяк сидел криво, шапка вечно валилась с головы, даже сапоги, и те были точно краденые. Обыкновенно Гунька ездил только с самим барином, а сегодня вез Яшу-Херувима с горбуньей Анфисой только по специальному приказанию немки Матильды, слово которой для Гуньки было законом.
– Эх вы, котятки! – прикрикнул Гунька, протягивая вожжи.
И лошади помчали легкую долгушку через площадь, как перышко; крепкая рука была у Гуньки на лошадей, и они чувствовали эту руку, как только он еще влезал на козлы.
– Это Гунька поехал? – спрашивал Евграф Павлыч, сидевший в это время с Матильдой Карловной на балконе.
– Да, я его послала..
Барин поморщился, но ничего не сказал: спорить с Матильдой было бесполезно, как он убедился из долговременного опыта, а сегодня даже невыгодно.
– Отлично прокатимся, Яша,– ласково шептала горбунья, прижимаясь своим тщедушным телом к мотавшемуся на месте спутнику.– Яшенька, голубчик, как поедем назад, я тебе водки дам, а теперь ни-ни… нельзя.
Яша плохо понимал, что ему говорила горбунья, и только мотал головой в такт потряхиваниям экипажа; галлюцинации продолжали его преследовать, и по сторонам с писком, как стая воробьев, бежали давешние чертики. Один особенно надоел Яше своим нахальством: он бежал все время рядом с долгушкой, высунув красный язык, как собака, и все старался забраться в экипаж, хотя Яша и отгонял его обеими руками. Но черт оказался настоящим чертом: Яша как-то зазевался, и черненькая фигурка с утиными лапками вспорхнула прямо на спину Гуньке, потом кувыркнулась в воздухе и на одной ножке Поскакала по вожжам, как самый лучший канатный плясун.
– Он… вон он…– в ужасе шептал Яша, указывая рукой на танцевавшего чертика.– Теперь двое… нет, четверо… десять…
– Да ничего, не бойся, ведь я с тобой, Яша,– шептала горбунья и опять прижималась к нему, как озябшая кошка.