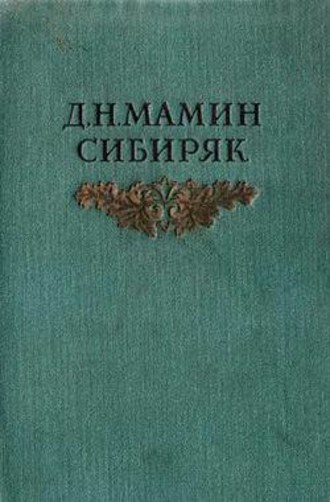
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Из уральской старины
IV
Над землей спустилась чудная июльская летняя ночь; заводский пруд и реку заволокло туманом, господский сад стоял на берепу громадной шапкой, все кругом стихло и замерло, и только со стороны завода гулко катились по воде отрывистые, смешанные звуки, точно глухое ворчанье какого-то необыкновенного животного.
– Погоди, змеиная кровь, я доберусь до тебя… и все глаза тебе выцарапаю! – ругалась и плакала бойкая Даша, сидя в заключении в особой темной каморке, устроенной под девичьей.– Еще говорит: «Сама тебя высеку…» У! немецкое отродье!
Перед своим отъездом в Ключики горбатая Анфиса свела Дашу в «келью», как называли в девичьей эту комнату, поставила ей кружку воды, заперла на ключ дверь и ушла, не сказав ни. слова. Горбунье всегда доставляло большое удовольствие запирать провинившихся девушек в келье, и она это выполняла с необыкновенно важным видом, хотя, под веселую руку, сама любила посплетничать про ненавистную для всего дома «Мантилью». Провожая подругу в заточенье, Матреша едва сдерживала слезы, а Даша нарочно не обращала на нее внимания, чтобы ослабевшая девка совсем не разжалобилась.
– Эка важность! Не ты первая, не ты последняя,– утешала себя Даша насчет печальной участи подруги,– Евграф Павлыч добрый… побалуется и приданое сделает, да еще за хорошего мужика замуж выдаст. Только вот Мантилька окаянная донимает хуже смерти. Зла, зла, а тоже вот, поди ты, размякла к Федьке Ремянникову. Гоняется за ним, как распоследняя шлюха! Так ей и надо… Теперь горбунью с Яшкой послала в Ключики выслеживать Федьку. А Федька за поповной ударился… ха-ха!
Сумасшедшая Даша и плакала, и хохотала, и принималась разговаривать вслух, чтоб хоть чем-нибудь разогнать одолевшую ее тоску одиночества. Келья была совсем почти темная комната в четыре шага шириной и столько же длиной, около одной стены стояла деревянная кровать, покрытая соломой, около нее деревянный стол – и только; слабый свет падал сверху, где в бревенчатой стене было прорублено небольшое окошечко, защищенное крепкой железной решеткой. Воздух здесь всегда был тяжелый и сырой, как в подполье, и сидеть в такой западне целых три дня было не легко, но Даша, пожалуй, еще помирилась бы со своей печальной судьбой, если бы не боялась до смерти мышей. Теперь она забралась на кровать с ногами и чутко прислушивалась к малейшему шороху. На возможность выйти из кельи раньше трех дней Даша не рассчитывала, потому что немка была беспощадна: сказала слово – и конец.
Наскучив сидеть на солэме, Даша легла и от нечего делать принялась слушать, что делается наверху, в девичьей. А там шла сдержанная суета, потому что сегодня ждали в гости Евграфа Павлыча; через пол можно было расслышать торопливые шаги, какую-то непонятную возню, стук передвигаемой мебели, чей-то говор и опять шаги без конца, точно в девичьей все сошли с ума и бегали из угла в угол, как пойманные мыши.
– Эк их там взяло! – ворчала Даша, лежа с закрытыми глазами на своей соломе.– Хоть бы уснуть.
Спать Даша была великая мастерица, но теперь, как на грех, и сон не шел, а в голову лезло черт знает что. Она думала о разных разностях, перебирая события своей жизни: вот она маленькая девочка, босоножка, бегает по улице в одной выбойчатой рубашонке, потам умер отец, мать ходила по миру… потом о ней доложила Мантилье горбатая Анфиса, как о красивой девочке. Четырнадцати лет Даша уже была в господской девичьей, пользовавшейся в Кургатском заводе плохой репутацией, как прокаженное место, где красивые девушки гибли для барской прихоти ни за грош. Следовал ряд однообразных и скучных лег мудреной выучки в девичьей, где Мантилья «обихаживала» своих воспитанниц по-своему, откармливала их, как индюшек, учила петь цыганские песни, разному ненужному рукоделью и т. д. Потом наступала «очередь», и опозоренная девушка выпускалась на волю, то есть выдавалась замуж за какого-нибудь прощелыгу, чтобы до самой смерти выносить покоры и побои мужа, насмешки соседей и общее презрение. Даша часто думала о том, чтобы убежать из девичьей куда глаза глядят, утопиться, повеситься, но сграх наказания за побег и еще больше страх смерти удерживали ее, как удерживали других. Да куда бежать? Все равно поймают, а там плохие шутки: расправа с беглянками производилась на господской конюшне, откуда наказанных замертво уносили на рогожках. На глазах Даши одна девушка бежала из девичьей. Дело было зимой, она ознобила руки и ноги, но ее вылечили и вое-таки отправили на конюшню для острастки другим, где она и умерла под плетью.
– Не я первая, не я последняя,– утешалась Даша, представляя себе высокую, рослую фигуру добродушного барина, который все равно не сегодня-завтра назначит ей очередь.– Хоть бы скорее… Тощища смертная!.. Вот Матреша счастливее: ей очередь, а потом замуж выдадут… все же вольная будет.
Жизнь в девичьей была устроена совсем на монастырский манер, за исключением тех моментов, когда заявлялся сам барин и кутил в девичьей, иногда ночи три напролет. Кроме барина, всем мужчинам доступ в девичью был запрещен под страхом смертной казни; даже никто из дворни не смел ходить в девичью, за чем немка и горбунья следили с неусыпным рвением в четыре глаза. Конечно, бывали случаи вторжения в жизнь затворниц мужского элемента разными незаконными путями, но это представлялось таким редким исключением, что в общий счет не могло идти. Собственно, девичья всегда существовала при кургатском господском доме, но свой настоящий вид она получила только в руках Матильды Карловны.
Сама Матильда Карловна была из русских немок. Евграф Павлыч купил ее у матери в Москве и вывез на Урал, в свой завод, где она и разделила общую участь всех обитательниц девичьей, пока не создала себе самостоятельного положения. Она была фавориткой барина года два, а потом сделалась дуэньей, организовавшей из девичьей настоящий гарем. Странная была эта Матильда Карловна, начиная со своей наружности. К ней как-то никто не мог примениться, и весь господский дом был против нее. Тысячи мелких пакостей подводились под ненавистную немку, и не было такой интриги, какую не устроили бы ей ее враги, но Матильда Карловна крепко держалась на своем месте, потому что совсем завладела бесхарактерным барином. Быстро утратив обаяние нетронутой красоты, немка держалась при помощи своих воспитанниц; эта чередовавшаяся юность в ее ловких руках являлась страшной силой,– барин все делал «по-немкиному», как говорила кургатская дворня. Одна Матильда Карловна умела всегда угодить и потрафить капризному Евграфу Павлычу и на его слабостях построила свою власть.
Все «люди» в господском доме ходили у Матильды Карловны по струнке и боялись ее, как огня, даже такие звери, как Гунька. Интересно было, как Матильда Карловна забрала в свои розовые руки этого любимца и баловня. Гунька был вдовец и метил жениться на одной красивой заводской девке. Матильда Карловна узнала об этом обстоятельстве через горбунью и объяснила Гуньке, что при первом неприязненном действии с его стороны его возлюбленная попадет в девичью, то есть в лапы к барину. Немка шутить не любила, и Гунька сделался в ее руках чем-то вроде ручного медведя.
Но как ни сильна была Матильда Карловна, как ни крепка, а враг и ее попутал: понравился ей главный барский охотник Федька Ремянников. Это была какая-то дикая страсть. Неприступная и злая немка вдруг отмякла и отдалась забубённой, удалой головушке, рискуя в одно прекрасное утро потерять все. Эта связь была известна всему господскому дому, кроме одного барина; самые смелые люди не решались открыть ему глаза, потому что немка – немкой, да и Федька Ремянников был порядочный зверь. Вообще шла очень опасная и рискованная игра, но Матильда Карловна даже и ухом не вела, точно постоянной опасностью хотела купить свое счастье. В ней только теперь проснулась настоящая женщина, и нахлынувшее чувство первой любви жгло ее огнем.
Эта история усложнилась еще тем, что Федька Ремянников, побаловавшись с немкой, переметнулся теперь на сторону ключевской поповны Марины. Весь господский дом и девичья замерли в ожидании близившейся развязки: дело было немаленькое и могло разыграться крупным скандалом.
– А вот только дай бог увидать барина, все ему и брякну! – ворчала бойкая Даша в девичьей, когда не было горбуньи.– Да что смотреть нам на Мантильку… Будет, похороводилась, пора ей и честь знать. Ужо вот барин-то отвернет ей башку… туда и дорога… Вишь, расходилась змеиная-то кровь!.. Да и Федька тоже хорош…
Но все это говорилось и говорилось много раз, а смелости ни у кого не хватало: пожалуй, еще не поверит барин-то, тогда как? Дворня, между прочим, была глубоко убеждена, что немка непременно приколдовала чем-нибудь барина и теперь отводит ему глаза на каждом шагу. Вообще дело не чисто, и как раз можно попасть впросак. Да и плети на конюшне были слишком хорошо известны всем: редкий день проходил без экзекуций, и страшные вопли истязуемых доносились даже в девичью. Это хоть у кого отобьет охоту…
Лежа на соломе, Даша долго перебирала в уме разные случаи из жизни девичьей, прислушивалась к доносившейся сверху суете и, наконец, заснула. Во сне видит она, что сегодня наступила ее очередь, и в девичьей с утра стоит страшная суматоха: придет «сам», и нужно ему угодить. Все девушки одеты в голубые шелковые сарафаны, выложенные золотым позументом, и в кисейные рубашки; одна она сегодня в розовом атласном сарафане, как Мантилька одевает всех очередных. Даше ужасно совестно и хочется плакать. Мантилька дает ей последние советы, как обращаться с барином, и Даша краснеет до ушей: какая бесстыдная эта Мантилька!.. Но вот приходит и барин. Все окна заперты внутренними железными ставнями наглухо, девушки встречают барина с опущенными глазами, шепчутся и смеются, а он взглянул на нее и тоже улыбнулся. Пока Евграф Павлыч пил чай, девушки пели песни, потом Даша поднесла ему на серебряном подносе чарку водки; барин улыбнулся опять, выпил и ласково посмотрел на нее.
– Что же девушкам ничего нет? – спрашивает Евграф Павлыч, обращаясь к Мантилье.– Дай им красненького… веселее будет.
Являются бутылки с красным вином, которое в девичьей известно было под именем «церковного», потом сладкие наливки, барин заставляет всех пить; девушки краснеют, но не смеют отказаться. Начался широкий разгул, как умел кутить только Евграф Павлыч; он сидит на диване в бархатном халате и хлопает одну рюмку за другой; рядом с ним сидит Даша, он обнимает ее одной рукой, а другой – машет в такт разудалой цыганской песне, которая бьется в стенах девичьей, как залетевшая в окно дикая птица. Все пьяны, девушки раскраснелись, блестят глаза, Мантилья с шалью через плечо запевает, голова у Даши тихо кружится, но Евграф Павлыч еще заставляет ее пить какое-то сладкое вино… Она опомнилась только у себя на кровати, когда над ней наклонилось потное, пьяное лицо барина. Ужас охватил ее, и Даша начала сопротивляться ласкам барина, потом заплакала и начала умолять его, а в соседней комнате так и льется песня за песней… Даша в смертельном страхе вскрикнула и проснулась: кругом темнота, она лежит на соломе, а сверху доносится отчаянный топот пляски и какая-то залихватская песня.
– Господи, помилуй нас грешных! – в ужасе шепчет Даша, чувствуя, как холодный пот выстуйил у ней на лбу.
А над головой ходенем ходит пьяная песня и трещат половицы от пляски: это пошел сам Евграф Павлыч вприсядку. Даше вдруг сделалось душно, и она зарыдала беззащитными, одинокими слезами. «Душегубы проклятые, кровопийцы!..» Нет, она лучше утопится, а не дастся живая барину в руки. Креста на них нет, вот и губят девушек! Лучше умереть, чем нечестнойто жить на смех добрым людям… В самый разгар этих горьких дум песня наверху как-то разом оборвалась, и наступила мертвая тишина, прерываемая чьим-то плачем да криком. Даша замерла и прислушивалась к каждому звуку, не смея дохнуть. Скоро загремел ключ в дверях кельи, и показался свет.
– Вот посиди здесь, голубушка… – шипел голос Мантильи, которая втолкнула в келью плакавшую Матрешу.– А завтра я с тобой рассчитаюсь по-своему.
Матреша была в одной рубашке и в чулках, на голых руках припухли красными полосами следы чьих-то пальцев, русые волосы рассыпались в страшном беспорядке. Этот отчаянный вид подруги привел Дашу в страшную ярость, и девушка, не помня себя, кинулась прямо на немку.
– Ну, бей меня, бей, змеиная кровь! – кричала Даша, подвигаясь к самому лицу Матильды Карловны.– Что взяла?., а?.. Молодец, Матреша, не далась… и я не дамся. Слышала, Мантилья Карловна?.. Ха-ха!.. Креста на вас нет с барином-то… вот что! Кровь нашу пьете… Погоди, матушка, и на тебя управу найдем… отольются волку овечьи слезы!
– Хорошо, хорошо, я завтра поговорю с вами,– сухо ответила немка, и дверь кельи затворилась.
– Не боюсь, не боюсь! Ничего не боюсь, хоть на мелкие части режь! – кричала Даша, стуча кулаками в запертую дверь.
Матреша, кажется, ничего не слыхала. Она забралась с ногами на кровать, обняла колена руками и, положив голову на руки, погрузилась в тяжелое апатичное состояние оглушенного человека. Страшное напряжение душевных и физических сил кончилось каким-то столбняком.
– Матреша. голубушка, что с тобой, родимая? – допрашивала Даша, обнимая подругу.– Ах, подлецы, подлецы, что с девкой сделали… Матрешенька, ведь ты не далась барину? Молодец… и я не дамся. А Мантилька-то как теперь с барином? Видно, самой придется его утешать… У! злыдня бесстыжая, так ей и надо. А я все здесь слышала, как у вас там наверху пели и плясали… и как ты с барином драку подняла. Барин-то там остался?., а?.. Да ну, говори же, оглохла, что ли?
– Не знаю, ничего ^е знаю,– шептала Матреша.
Барин еще оставался в девичьей и сидел теперь в комнате Матильды Карловны; неожиданное сопротивление Матреши отрезвило его, и он задумчиво курил одну трубку за другой. Немка ходила по комнате с нахмуренным лицом; она была тоже разбита душой и телом.
– Славная эта Матрена,– проговорил, наконец, Евграф Павлыч после долгого молчания.– Раньше она мне как-то не нравилась. Ты смотри, Мотя, не притесняй ее, пусть сама одумается… Я не люблю таких девок, которые как семга… Совсем не любопытно.
– Вы домой пойдете или здесь останетесь? – спрашивала Матильда Карловна, останавливаясь.
– Конечно, здесь, Мотя,– засмеялся Евграф Павлыч своим хриплым смехом и потянулся обнять девушку.
Этого и боялась немка, но теперь она относилась к ласкам барина как-то совсем равнодушно, потому что ее мысли были далеко, в Ключиках, куда уехала горбатая Анфиса. Что-то там делается?







