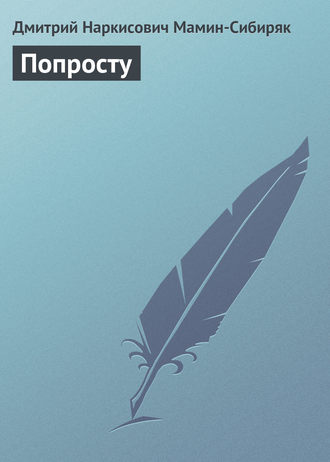
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Попросту
IV
Уездный городишко Пропадинск, заброшенный в черноземную равнину, граничившуюся с бесконечной киргизской степью, или ордой на местном жаргоне, принадлежал к числу разорявшихся русских городов. Сравнительно еще недавно он пользовался громкой популярностью: купцы и счету не знали своим деньгам, а пропадинские богатые невесты вошли в поговорку. Но как история богатства, так и пропадинской бедности не отличалась большой сложностью. Расположенный в центре черноземной полосы, Пропадинск служил долгое время главным хлебным рынком, но освобождение крестьян и прилив сильных капиталов все перевернули взерх дном. Открылись новые хлебные рынки, а пропадинские толстосумы оказались малыми ребятами перед надвигавшейся бог знает откуда грозой – счет шел уже не на десятки и сотни тысяч рублей, а прямо на миллионы. Сильные капиталы давили пропадинских толстосумов беспощадно, а открывшиеся банки и легкий кредит дополняли картину разорения. К этому нужно прибавить еще то, что пропадинские коммерсанты как-то остались в стороне от общего промышленного движения и вели свои дела по старинке, что их и доконало. Город кое-как влачил свое жалкое существование, а последние представители захудавшего купечества проедали последние гроши и пускались на разные художества.
Попавши в эту разлагавшуюся среду, Кочетов быстро освоился с ней и незаметно для самого себя втянулся в окружающую обстановку. День за днем, неделя за неделей – время тянулось само собой, а с ним прививались и новые привычки. Работы было немного. Городская больница все еще строилась. Богатые пациенты приглашали только за тем, чтобы поболтать с доктором и вместе выпить рюмку водки.
Чаще других ему приходилось бывать у Бубновых. Здесь было какое-то царство мадеры, и «сам» не успевал поправиться от одного запоя, как сейчас же переходил к следующему номеру. Это было что-то ужасное. Дрянная пропадинская мадера выпивалась прямо четвертями. Молва гласила, что Семен Гаврилыч нарочно спаивает зятя, и указывала на его братские поцелуи с Пашенькой. У Бубнова был еще капитал, но не было никого из близкой родни, и в этом видели тонкую политику градского головы. В маленьких провинциальных захолустьях известно все и про всех, хотя Кочетов, бывая в бубновском доме чуть не каждый день, не мог бы сказать ни да, ни нет. Сначала он явился по приглашению, а потом, освоившись с захолустными приличиями, ехал так, чтобы убить время. Вечером пропадинцы просто ездили «на огонек» – увидят в окне свет, значит, кто-нибудь есть дома, а если есть кто-нибудь дома, то должна быть и мадера.
У Кочетова была более уважительная причина; он немного ухаживал за Прасковьей Гавриловной, которая ему, чем дальше, тем больше нравилась. Сначала он принял ее за податливую бабенку, бесившуюся с жира, и рассчитывал на легкий успех: нужно же чем-нибудь развлекаться, когда нет ни театра, ни клуба. Но, присмотревшись ближе, он должен был переменить свое заключение. Прасковья Гавриловна была любезна с ним и часто подавала некоторые шаловливые поводы, но провертывались моменты, когда она с таким удивлением смотрела на Кочетова и обдавала его таким холодом, что оставалось только благоразумно уходить подальше.
– Я вас не понимаю, – говорил он ей однажды в припадке откровенности. – В вас две женщины, Прасковья Гавриловна: одна ласковая, веселая, а другая холодная и даже суровая. Я вас иногда просто боюсь… А главное, никогда нельзя за вас поручиться.
– Пустяки вы говорите, доктор: все наши пропадинские купчихи одинаковы. Только по шляпкам и можно различить…
– Я не говорю про других, а про вас.
– Перестаньте, пожалуйста…
В Прасковье Гавриловне была еще третья женщина, которой Кочетов и не подозревал: она собственноручно вела все свои торговые дела и вела очень недурно. Вынесенный в приданое капитал увеличивался, и Прасковья Гавриловна делала близким людям ссуды под двойные векселя и жидовские проценты. Целовавший ее братец был у нее по уши в долгу. Замуж она была выдана стариком-отцом против своей воли, никогда не любила мужа и по временам потихоньку от всех утешалась той же мадерой. Последнее знал только один Семен Гаврилыч и по-своему пользовался этой слабостью.
– Отчего вы не женитесь на Седелкиной? – спрашивала иногда доктора Прасковья Гавриловна и задумчиво смотрела ему прямо в глаза таким странным взглядом, очевидно, думая о другом.
Старик Седелкин был тот миллионер, который все искал подходящего жениха своей дочери.
– Неподходящее дело, – коротко объяснил Кочетов. – Она богата, а я беден. Что же из этого может выйти?.. Притом она совсем мне не нравится…
– У нас всегда женятся на богатых невестах и даже издалека приезжают за этим. А что у вас денег нет, так, по-моему, таким людям и нужно жениться на богатых. Хотите, я посватаю вам?..
– Вы меня дразните, Прасковья Гавриловна?..
– Нисколько! От чистого сердца…
– В таком случае, мы совсем не понимаем друг друга…
– Очень может быть… Я неученая и едва умею подписать свою фамилию, и то братец три года учил.
– Неужели вам приятно было бы видеть меня мужем Седелкиной?.. Теперь я бедный человек, но все-таки совершенно независимый, а тогда…
– Ах, какой вы странный!.. Да ведь нужно же когда-нибудь жениться, а не все ли равно на ком…
– Нет, не все равно… Видите ли, я немножко поздко явился к вам в Пропадинск, а если бы приехал пораньше, тогда, может быть, и женился бы на богатой невесте, но только не из-за денег.
– Это вы про меня, что ли? – как-то по-детски просто удивлялась Прасковья Гавриловна и так хорошо смеялась, а потом с кокетством горничной прибавила: – Я не верю мужчинам.
По вечерам в большом бубновском доме было так хорошо! Везде цветы, мягкая мебель, много света и вообще какого-то уюта. Нужда еще долго не постучит в резную дубовую дверь подъезда, а Прасковья Гавриловна так и состарится среди окружающего ее тупого купеческого довольства. Ее огорчало только то, что не было детей. Часто по вечерам, когда Прасковья Гавриловна сидела в гостиной на диване с какой-нибудь дамской работой в руках, доктор читал ей что-нибудь или рассказывал. Она умела слушать, и ему нравилось, как звуки его собственного голоса отчетливо раздаются под высоким потолком. Просыпалась какая-то буржуазная зависть к этому комфорту и беззаботному существованию, но Кочетов вовремя вспоминал о своей бедности и уличал самого себя в грехопадении.
– А как вы думаете, доктор: долго еще протянет мой муж? – спросила однажды Прасковья Гавриловна, когда они таким образом сидели в гостиной.
– Не думаю, чтобы долго, если он не бросит свою мадеру…
У Прасковьи Гавриловны этот ответ вызвал на глазах слезы, и она низко наклонилась над своей глупой работой. О чем она плакала? Неужели о муже, которого не любила, или о своей молодой жизни, не видавшей ни одного солнечного дня? Вообще, какая-то загадочная натура, – думал про себя Кочетов, как все бесхарактерные люди, не выносивший женских слез.
Такие tête-à-tête удавались не часто. Обыкновенно являлся или сам Бубнов или Семен Гаврилыч, а с ними – и бесконечная мадера. Бубнов трезвый был несчастным человеком – одутловатый, с нездоровым цветом лица и с удушливым кашлем, он молча ходил из угла в угол и похрустывал холодными, влажными пальцами. В период запоя он буйствовал, как чумной бык, и его обыкновенно связывали. Кочетов пробовал было уходить от мадеры, но это ни к чему не вело.
– Э, батенька, от нас не уйдешь, – фамильярно объяснял Семен Гаврилыч, прищуривая глаза. – Возьму да сам приеду к тебе в гости, а без мадеры какой же я человек…
– А я не буду вас угощать…
– А я с собой привезу… Нет, у нас, голубчик, все попросту!
От Семена Гаврилыча все-таки еще можно было отвязаться разными правдами и неправдами, но было хуже, когда принималась угощать сама Прасковья Гавриловна. Она это делала с такой милой настойчивостью и так ласково смотрела прямо в глаза, что у Кочетова не было сил отказаться.
– Пашенька, пригубь, а то он может подумать, что мадера с отравой… – хохотал Семен Гаврилыч, довольный этой комедией.
Прасковья Гавриловна не заставляла себя просить, наливала себе маленькую рюмочку, отпивала крошечный глоточек и с улыбкой смотрела на доктора.
– Вот у нас как!.. – повторял довольный Семен Гаврилыч и опять целовал сестру в губы. – Ай-да сестрица… люблю!
Редкий день проходил без того, чтобы Кочетов не являлся домой немного навеселе. Сначала он стеснялся в таком виде показываться перед Яковом Григорьичем или перед Авдотьей, но потом это неловкое чувство прошло само собой. Лицо у доктора заметно пополнело, появился даже румянец какого-то кирпичного цвета и пришлось переделывать платье.
– У нас уж климат такой, – добродушно объяснял Яков Григорьич, тоже ходивший вечно с мухой. – Поживет человек, и сейчас в нем полнота начнется…
– Это от мадеры, Яков Григорьич.







