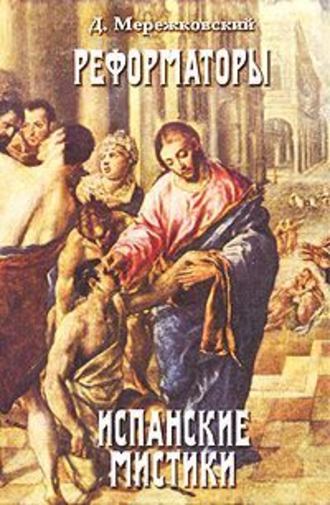
Дмитрий Мережковский
Св. Иоанн Креста
27
Врач Амброзио дэ Виллереале, осмотрев больного, объявил, что у него рожистое воспаление надкостницы. Пять больших нарывов было на ноге его – совершенное подобие пяти ран Господних. Иноки, видя в этом великое чудо Божие, крестились и шептали так громко, что Иоанн Креста не мог их не слышать, и, может быть, это было хуже для него, чем пытка о. Хризостомо, потому что глубоко кощунственная вера людей в чудотворную силу его уничтожала и в смерти все, что он сделал в жизни (Вrunо, 354–459).
Врач, зайдя к нему однажды, сказал, что придет на следующий день разрезать нарывы и выпустить их гной. Но это была только обычная хитрость тогдашних врачей, чтобы обмануть и успокоить больного. Делая вид, что осматривает ногу его, он вдруг схватил ланцет и сделал с живым телом то, что в анатомических сечениях делал над трупами: срезал все мясо с ноги от подошвы до сгиба в колене так, что забелела между красными и синими жилами кость. Потом обливалось все тело больного, лицо позеленело, но страшное подобие улыбки было на помертвевших губах, когда он прошептал: «Это сделал Ты, Иисус! Jesus, eso ha hecho!» (Bruno, 357–460).
Врач, никогда не видевший у больных такого присутствия духа, перекрестился так же благоговейно, как те, кто удивился мнимому чуду пяти нарывов. Но было уже действительное чудо Божие. Мужеству «маленького Сенеки», как называла св. Тереза Иоанна Креста, могли бы позавидовать Сократ и Эпиктет. Подвиги Александров и Цезарей перед этим – ничто: большую победу, чем те – над миром, одержал над собой Иоанн Креста.
Как-то раз молодой послушник, брат дэ Сан Джозе, потихоньку войдя в келью о. Иоанна, когда он был один, и увидев, что он очень страдает, сказал: «Может быть, ваши страдания, отец, немного облегчила бы музыка? К нам в обитель пришли музыканты. Если вам угодно, я позову их сюда». «Благодарю тебя, сын мой, – ответил больной. – Я буду рад услышать музыку земную в последний раз перед тем, чтобы услышать небесную…»
Послушник хотел уже идти за музыкантами, но Иоанн Креста удержал его за руку, немного помолчав, закрыл глаза, о чем-то глубоко задумавшись, и потом проговорил с тою тихой и радостной, но людям уже непонятной и страшной улыбкой, которая все еще появлялась на лице его: «Нет, сын мой, я передумал: посланные мне Богом страдания я не должен облегчать ничем. Ступай же, поблагодари музыкантов и угости их чем-нибудь, только потихоньку от о. Хризостомо, чтобы не рассердился, а я побуду один и помолюсь».
Так в последний раз исполнил он и в смерти то, что столько раз испытал в жизни, – заповедь свою:
Не сладкого желай, а горького,
Не легкого, а трудного.
Как только иноки видели, что о. Хризостомо не было в келье о. Иоанна, приходили к нему за духовною помощью или для того, чтобы утешать его в страданиях. Он выслушивал их терпеливо и ласково, но мало сам говорил и только смотрел на них, все с тою же радостной, но людям уже непонятной и страшной улыбкой, а потом, с бесконечной на лице усталостью, тихонько просил: «Дети мои, оставьте меня одного, я за вас помолюсь, и Господь вам лучше поможет, чем я…» (Demim., 200. Вrunо, 359).
В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение зовет ее Возлюбленный, —
этот вечный зов услышал он в последний раз и пошел на него в смерти так же, как в жизни.
28
«Возрадовался я, когда сказали мне: „Пойдем в дом Господень!“ Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus!» – воскликнул он, когда врач сказал ему, что он скоро умрет (Вrunо, 361).
За два дня до смерти он причастился, и, когда один из братьев, подойдя к нему, поздравил его с принятием святых Тайн Господних, Иоанн спросил: «Брат Диего, думаете ли вы, что я скоро умру?»
Был ли это последний, еще не побежденный страх смерти, или нетерпеливое желание умереть поскорей? Может быть, и то и другое вместе (Вrunо, 363–461).
И в тот же день послал он за о. игуменом и, когда тот пришел, Иоанн Креста, попросив у него со слезами прощения за все старые и новые обиды, сказал: «Отец мой, я жил и умираю в нищете и наготе совершенной, по данному мною Господу обету, так что нет у меня и одежды, в которой могли бы меня похоронить. Дайте же мне, умоляю вас, одежду Пресвятой Девы Марии, в ней же и похороните меня». «Брат мой», – начал о. Хризостомо и не кончил, упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал: «Что я сделал, что я сделал!..»
Иноки, зная, что больной пошевелиться не может без чужой помощи, глазам своим не поверили, когда приподнялся он на постели, обнял голову о. Хризостомо и, прижав ее к груди своей, сказал: «Братец милый, не плачь, все хорошо будет. Я знал, что Господь простит тебя и помилует».
И так просветлело лицо его, как у Ангелов, когда радуются они больше об одном кающемся грешнике, чем о десяти праведниках (Вrunо, 362–363, 468), не имеющих нужды в покаянии (Лк., 15, 7).
Так совершилось еще одно неложное чудо св. Иоанна Креста – исцеление души человеческой от зла величайшего – низости.
В ночь на 14 декабря была одна из тех снежных бурь, какие бывают в горах Северной Андалузии. Ветер выл за окнами, как стая волков, и потрясал стены обители так, что казалось, они готовы были обрушиться. В эту ночь больной еще раз причастился.
«Больше очами плоти я Тебя не увижу, Господи!» – проговорил он, глядя на Св. Гостию.
Восьмидесятилетний о. Антонио де Гередиа, игумен первой мужской обители Нового Кармеля, неразлучный спутник Иоанна Креста в течение всей жизни его, подойдя к нему, сказал: «Помнишь ли, сын мой, дуруэльскую обитель и сколько мы там потрудились во славу Божию? Нынче час награды твоей наступил, и воздаст тебе Господь сторицею за все твои труды».
«Нет, не говорите этого, отец мой, – ответил Иоанн. – Я ничего не сделал, в чем бы не раскаивался; лучше напоминайте мне о грехах моих, чтобы мне поплакать о них. Нет, не моими заслугами, а кровью Иисуса Христа я спасусь!» (Вrunо, 355, 462. Dem., 201).
Через час или два попросил он позвать к нему о. Себастиано, которого двадцать лет назад постриг в Баэской обители, и, когда тот остался с ним наедине, долго говорил ему о делах Нового Кармеля и в заключение сказал: «Сын мой, ты некогда будешь избран в наместники Братства. Помни же, что я тебе завещал перед смертью, и передай всем, чтобы и они это помнили и свято хранили» (Вrunо, 363–364, 461).
После этой беседы он прилег отдохнуть, закрыл глаза, будто уснул, а когда пробили часы на колокольне, спросил: «Который час?» И когда ему сказали, что девять, сказал: «Еще три часа изгнания мне осталось…» (Вrunо, 366). В десять часов, услышав благовест, опять спросил: «Что это?» «Сестры идут к утрене», – ответили ему.
«А я буду петь утреню с Пресвятой Девой Марией! – проговорил он радостно и, немного помолчав, прибавил: – Как я счастлив, что, ничего не сделав, буду сегодня ночью на небе!» (Вrunо, 364–365).
Снова из черного колодца смерти увидел Дневную Звезду – всех упавших в колодец Спасительницу, всех одиноких изгнанников Спутницу, всех заточенных в темницу Освободительницу, Пресвятую Деву, Матерь Божию. Вечный рыцарь Прекраснейшей из всех Прекрасных Дам, Ей одной служивший здесь, на земле, он знал, что и там, на небе, будет Ей служить.
Идучи к утрене, иноки, войдя в келью Иоанна Креста, повесили лампады на стене. «Братья, читайте отходную», – проговорил Иоанн.
Стали читать, но не успели кончить, как он попросил читать «Песню Песней», и почувствовали все, что так и надо, потому что над смертью его должен был звучать не горький плач покаяния, а торжествующая песнь любви.
«Да лобызает Он меня лобзанием уст своих», – начал один из иноков. «Ибо ласки Его лучше вина», – продолжал Иоанн. «О, какие это драгоценные камни!» – воскликнул он, кончив (Вrunо, 366).
«Брат Иоанн Креста был очень спокоен, прекрасен и радостен, muy sereno, hermoso e alegre», – вспоминает очевидец (Вrunо, 386, 461). «Только глаза его горели таким огнем, что трудно было вынести его».
Пробило полночь.
«Брат Диего, велите благовестить к утрене», – сказал умирающий и, только что-то услышав колокол, взял в руки Распятие и, прижав его к губам, воскликнул: «Господи, в руки Твои предаю дух мой! In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum!»
И отошел так тихо, что никто не заметил.
«Господи, в руки Твои предаю дух мой» – эти слова произнес и умирающий Лютер. Два величайших вождя двух Реформ – отлученный от Церкви ересиарх Лютер и венцом святости увенчанный Иоанн Креста – отрицают то, от чего мир погибает, – Разделение Церквей, и утверждают то, чем спасается мир, – соединение Церквей.
«Сладостнее умирают святые, чем живут… так, умирающий лебедь слаще поет… В смерти святых река любви человеческой впадает в океан Любви Божественной», – учит св. Иоанн Креста в «Живом Пламени Любви» (Нооrn., 166).
О, Сладостный ожог,
Блаженнейшая рана!
О, нежная рука!
О, тихое касание!
В вас – вечной жизни сладость,
И вы вознаграждаете за все
И, убивая, делаете жизнью смерть! (Нооrn., 171).
Вечный страх смерти делает человека несчастнее зверя, потому что тот смерти не знает. Как от этого страха избавиться, учат святые. Люди забыли это учение, но если когда-нибудь вспомнят его, то будут счастливы, и на земле наступит Царство Божие.
«О, Бог мой, Супруг мой, наконец-то я Тебя увижу!» – воскликнула, умирая, св. Тереза Иисуса с такой блаженной улыбкой, как будто уже видела Его.
«Смерть моя была не чем иным, как таким восторгом любви, что тело мое не могло этого вынести!» – говорила она, явившись после кончины одному из иноков Кармеля (Св. Тереза, 259–260). То же мог бы сказать и св. Иоанн Креста, да и говорит почти то же: «Встреча любви в смерти, глубокая и сильная (сильнее, чем в жизни), прорвала пелену и унесла душу из тела (Вrunо, 368, 463).
О, живое Пламя Любви,
Разделяющую нас пелену прорви! (Авг., 245).
Этот «прорыв» и есть не что иное, как «Пронзение», «Transverberatio», св. Терезы Иисуса так же, как св. Иоанна Креста. В жизни и в смерти путь обоих один – к высшей, доступной людям точке Экстаза – Богосупружеству.
III. Что сделал Иоанн Креста?
1 Критика мистики
Если бы люди вдруг забыли Эвклидовы начала геометрии или Ньютонов закон мирового тяготения, то очень многое изменилось бы к худшему в жизни человечества. Люди наших дней забыли нечто более нужное для них, чем открытия Эвклида и Ньютона, – весь религиозный опыт святых, и горькие плоды этого забвения мы сейчас вкушаем.
Людям наших дней, может быть, нужнее всего религиозный опыт св. Иоанна Креста, потому что в нем преодолевается то, что отделяет их от религии: «путь отрицания», via nagationis, в этом опыте становится путем утверждения.
С Кантом сравнивает св. Иоанн Креста очень верно и глубоко один из лучших знатоков его (Baruzi, 549). Ни один мудрец не пытался быть в незнании своем выше всякого знания. Это мог бы сказать и Кант вместе с Иоанном Креста (Нооrn., 225). «Критикой чистого разума» называет Кант одну из главных книг своих; «Критикой чистой мистики» мог бы назвать св. Иоанн Креста все, что сделал. «Критикой чистого безумия» могли бы это назвать люди наших дней. Если в критике чистого разума никто не идет дальше, чем Кант, то в критике чистой мистики никто не идет дальше, чем св. Иоанн Креста.
Чтобы понять то, что поняли Кант и св. Иоанн Креста, нужна не только сверхчеловеческая сила ума, но и какая-то особенность в строении тела – нечто вроде способности повертывать голову так, чтобы лицо оказывалось там, где был затылок, и видеть то, что всегда прячется от людей за их спиной и подстерегает их, чтобы рано или поздно поглотить. Это невидимое людям Кант называет «трансцендентальной эстетикой», а св. Иоанн Креста – «преисподним опытом». Вот, кажется, одна из многих причин его одиночества: люди бегут от этого человека с чудовищно перевернутым лицом, как от неземного страшилища.
«Бог бесконечно превосходит всякое человеческое понимание, так что чем больше человеческий разум хочет понять Бога, тем больше от него отдаляется», – учит Иоанн Креста. «Вот почему разум должен освободиться от себя самого и отказаться от понимания, чтобы достигнуть Бога верою… Не понимая, человек больше приближается к Богу, чем понимая» (Нооrn., 218). Этого, может быть, никто не говорил и не скажет так ясно, кроме Генриха Сузо и великого французского мистика Паскаля. «Вечной жизни достигает человек только по отречении от всего, что может мыслить и выразить» (Baruzi, 628), – учит Сузо, и Паскаль: «Нет ничего естественнее для разума, чем отречение от себя самого». «Последнее действие разума сводится к тому, что есть нечто бесконечно-высшее разума» (Паскаль, 207).
Меньше всего это отречение от разума у св. Иоанна Креста и Паскаля похоже на отречение у Лютера. Разум для Лютера «величайшая блудница диавола», а для Паскаля «царственное величие человека – мысль». «Человек – только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий… Если бы мир раздавил человека, он все-таки был бы выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает… Мир обнимает и поглощает меня пространством, но мыслью я обнимаю мир» (Паскаль, 199–200). Теми же почти словами говорит и св. Иоанн Креста: «Мысль человеческая дороже целого мира; следовательно, один только Бог достоин мысли» (Baruzi, 435).
Лютеру было очень легко отказаться от разума, а св. Иоанну Креста и Паскалю – очень трудно, почти невозможно, и отречение их – великая жертва.
«Бог есть Непознаваемое» – в этих трех словах – главная основа всего религиозного метода Иоанна Креста (Нооrn., 222). Все, что люди слишком легко называют «Богом», он презирает (Baruzi, 612). «Следует бежать от видений и откровений, как от величайшей опасности», – предостерегает он (Baruzi, 239). «Некоторые так погружаются в эти обманы диавола и так ожесточаются в них, что возможность их возвращения к простому добру и к истинному благочестию становится очень сомнительной» (Нооrn., 58). Мнимо или действительно «видение», спрашивать нельзя: всякое видение мнимо, потому что возвращает нас в область явлений. Видения мнимы, поскольку внешни, но в последнем счете все внешни, потому что ограничивают Бога пространством и временем, условиями всякого мышления (Baruzi, 500). Клиническая точность в наблюдениях Иоанна Креста, порождающими мнимые видения и откровения душевными болезнями, – такая же, как у великого врача Гомеца Перейры.
Очень, вероятно, удивила бы добрых католиков потерянная или уничтоженная книга Иоанна Креста «О чудесах» (Baruzi, 294). «Я не был бы христианином, без чудес», – говорил св. Августин (Паскаль, 122). «Я был бы христианином и без чудес», – мог бы сказать св. Иоанн Креста, да он это и говорит: «Плохо бы я верил, если бы я нуждался в чем-либо подобном». «Не воля Божия творит чудеса; если же Бог все-таки творит их, то только по необходимости», потому что люди слишком маловерны, чтобы обойтись без чудес (Baruzi, 528). «Пусть же человек духовный отвергает с закрытыми глазами все чудеса» (Baruzi, 467–468). Но если бы неверующие думали в этом найти союзника в Иоанне Креста, то очень ошиблись бы: он отрицает чудеса не потому, что мало, а потому, что слишком верит: вера сама для него величайшее из всех чудес.
В «Темной Ночи Духа», «Oscura del Espíritu», отрекаясь не только от человеческого разума, но и от всех «откровений», «видений» и «чудес», он чувствует себя «как путешественник, идущий по неизвестным путям для открытия неизвестных земель, которому уже бесполезно все, что он прежде знал, и который теперь идет, сомневаясь во всем и пользуясь чужим знанием (по разведкам). Если бы не шел он по этим новым путям, то никогда ничего не открыл бы и знания своего не увеличил бы» (Нооrn., 108).







