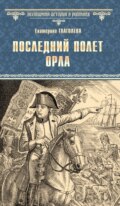Екатерина Глаголева
Битвы орлов
Их появление заставило замолчать почитателей французов, вновь охваченных жарким спором.
– Гость в доме – Бог в доме, – назидательно произнёс старый Рейтан, дав понять этой польской поговоркой, куда он клонит. – Под одной кровлей должны проживать лишь друзья и братья. Кохаймы се!
Он приобнял одной рукой Фаддея, а другой – своего сына Доминика, подтолкнув их друг к другу. Молодые люди принужденно обнялись и поцеловались. Радзивилл просиял: у него явно камень с души свалился. Оркестр заиграл ходзоный.
Утром Булгарин зашел проститься. Догонять свой полк он отправился с парой дорогих пистолетов версальской работы – прощальным подарком князя Доминика.
Штральзунд
Ворота раскрыли свой кирпичный зев, дробный стук копыт отрикошетил от холодного свода, рассыпался по мощеному двору и смолк у крыльца; звеня шпорами, король поднялся по лестнице, отпихнул караульного офицера, оборвав его вопрос, решительным шагом прошел по коридору; лакей распахнул перед ним двери кабинета. Придвинув к себе пачку бумаги, Густав Адольф обмакнул перо в чернильницу и принялся писать.
Штральзунд! Древний ганзейский город, где его предок и тезка, прозванный Северным львом, дал отпор имперскому генералиссимусу Валленштейну! Врата Рюгена должны были стать первым этапом победного пути, который закончится в Париже: король Швеции сбросит с трона узурпатора и вернет престол законному монарху – Людовику XVIII! Не дожидаясь ответа от Александра, Фридриха-Вильгельма и даже самого Людовика, Густав IV Адольф взгромоздился на боевого коня; капитан Теде зарядил два огромных пистолета, некогда принадлежавших Карлу XII, и подал ему; король произнес пламенную речь, повторив слова Карла, произнесенные в Штральзунде: «Мы добьемся уважения к себе с мечом в руке»; шведская армия двинулась в атаку с развернутыми знаменами, под бой барабанов… и была разбита. Маршал Брюн отослал парламентера прочь, не желая и слышать о перемирии: если кто-то хочет подражать Карлу XII, война должна продлиться хотя бы несколько часов. О, как вам будет угодно! Вы еще сами запросите мира!
В дверь постучали; слуга доложил, что барон фон Эссен просит его принять по важному и срочному делу. Отлично, уже готово.
– Вот, размножьте и распространите среди солдат неприятеля.
Генерал взглянул на бумагу: это была прокламация, составленная на французском языке и призывавшая солдат дезертировать. Брови сами собой взлетели вверх, однако Эссен не выразил своего удивления, предпочитая говорить о том, что привело его сюда.
– Сир, маршал Брюн прислал парламентера.
– Ага!
– Ваше величество, боюсь, что наше положение безнадежно. У французов сорок тысяч штыков, мой гарнизон не превышает пятнадцати тысяч; город изнурен осадой, и наши позиции в Померании под угрозой… Генерал Рей предлагает капитуляцию на почетных условиях; он говорит, что императору французов претит истреблять шведов, вынужденных сражаться из-за вашего упрямства.
– Что?!
Король взвился с кресла как ужаленный, подскочил к Эссену, замахнулся кулаком, остановив его у самого лица генерала.
– Арестуйте его! – приказал он. – Я потом решу, что с ним делать. Наглец! Разделять мои интересы и интересы моих подданных!
Квадратное лицо Эссена оставалось спокойным, голос ровным.
– Хочу напомнить вашему величеству, что он прибыл к нам парламентером и находится под защитой международного права и нашей чести. Ваше величество не имеет права распоряжаться его жизнью и свободой.
– Приказываю вам немедленно его арестовать!
– Сир, это невозможно.
– Что? Вы отказываетесь мне повиноваться?
– Сир, я никогда не соглашусь замарать себя бесчестным и несправедливым поступком и сделаю всё на свете, чтобы помешать вашему величеству отдать подобный приказ.
Генерал отцепил шпагу и протянул ее королю. Несколько мгновений они стояли друг против друга неподвижно, затем Густав Адольф коротко бросил: «Ступайте!» – и повернулся к Эссену спиной.
…К ночи заметно посвежело, но ветра не было; вёсла мерно вздымались и опускались, плеск воды сливался с шорохом волн, набегающих на галечный берег. Закутавшись в плащ, король сидел в лодке, увозившей его на Рюген. В конце концов Карлу XII тоже пришлось покинуть Штральзунд в шлюпке, да еще и под обстрелом.
Гарнизон еще не был полностью посажен на суда, когда ординарец доставил Эссену королевский приказ: прекратить эвакуацию! Два часа спустя другой гонец привез новое распоряжение: продолжить переброску войск, и побыстрее! Утром хмурый, небритый генерал с покрасневшими после бессонной ночи глазами разыскал на берегу Густава Адольфа, который стоял в картинной позе на большом склизком валуне, глядя в подзорную трубу. Барон спросил, в чём была причина столь противоречивых приказаний. Король велел ему подняться и стать рядом. Он был охвачен радостным возбуждением.
– Послушайте, генерал, вам я доверяю, но только больше никому не говорите. Видите вы это белое пятнышко? – Он показал Эссену ноготь большого пальца.
– Да, сир.
– Покуда оно остается белым, удача мне улыбается, но чуть только порозовеет – жди беды. Вчера вечером я заметил, что оно бледнеет, и остановил переброску войск, а когда белизна возвратилась, возобновил ее, и видите – нам всё удалось!
Темно-серые глаза лихорадочно блестели, полные губы улыбались под щеточкой усов, щеки пылали румянцем.
– Не угодно ли вам пройти в палатку и отдохнуть, ваше величество? – осторожно спросил Эссен.
…Король лежал на софе лицом кверху, точно надгробие в католическом соборе. Эссен взглянул на генерала Толля и пожал плечами. Толль наклонился к больному; крест ордена Александра Невского с двуглавыми орлами меж концов свесился с его шеи, раскачиваясь как маятник.
– Ваше величество! – позвал Толль, словно вызывая короля из иного мира. – Погода портится, ваше величество. Соблаговолите послать парламентеров к французам; Рюген уже не удержать, но мы должны сохранить для Швеции армию, способную оборонять Сканию. Позвольте мне распорядиться от вашего имени.
Густав Адольф медленно повернул голову и посмотрел в упор на морщинистое лицо с глазами, почти лишенными ресниц.
– Пишите ваши аргументы, – вялым голосом вымолвил он.
Продиктовав текст секретарю, Толль подал его королю. Опершись на локоть, Густав Адольф пробежал бумагу глазами и с видимым отвращением приписал внизу: «В силу вышеизложенного, генералу барону Толлю поручено принять необходимые меры для сбережения чести и безопасности армии», после чего повернулся на другой бок.
– Сир, вы забыли поставить вашу подпись, – мягко напомнил Толль.
Король вдруг сел одним рывком, вырвал у него из рук бумагу, скомкал, швырнул в угол и снова улегся. Старый генерал поднял бумажный комок, расправил, подал секретарю.
– Пишите, сударь: король предоставил мне полномочия, но не смог поставить подпись, будучи болен. Ваше величество, я прошу вас только об одном: не медлить с отъездом, как только прибудет флот из Карлскруны.
Густав Адольф раздраженно отмахнулся; Толль вышел, не закрыв за собой двери, Эссен поспешил за ним. Старик смотрел прямо перед собой, на ходу складывая бумагу; в профиль его нос напоминал вороний клюв.
– В конце концов, подпись неважна, – сказал он словно самому себе. – С этого момента надо мною нет иной власти, кроме Бога и моей совести.
Петербург
– Пошел!
Карета вынеслась на Полицейский мост ровно в тот момент, когда с той стороны появился экипаж французского посла, и сцепилась с ним. Разъехаться не было никакой возможности: новый чугунный мост, заменивший собой деревянный, еще не был до конца отделан, вдоль правого края высились груды щебня и горки гранитных плит для тротуаров.
– Faites reculer votre voiture! – кричал француз, высунувшись в окошко своей кареты.
– C’est votre tour de reculer! – отвечал ему русский офицер. – En avant![12]
Генерал Савари вылез из экипажа и велел своему кучеру сдать назад. Наемная карета, только что мчавшаяся стремглав, теперь ехала шагом, офицер распевал во всю глотку песню, рабочие, возившие в тачках щебень, посмеивались. Когда нахал наконец поворотил направо, посол с кислым видом продолжил свой путь по Невскому проспекту.
Анн-Жан-Мари-Рене Савари преданно служил императору, вверив ему свою жизнь и честь. Воля Наполеона была для него законом, и против своего назначения послом в Санкт-Петербург он возражать не посмел, хотя и не считал этот выбор удачным. Генерал вовсе не был дипломатом. При Йене он захватил в плен целый гусарский полк, месяц спустя взял Гамельн, а еще через месяц потерял младшего брата Шарля – полковника 14-го пехотного линейного полка. Именно Савари заменил заболевшего Ланна при Прейсиш-Эйлау и разбил русских при Остроленке; после Гейльсберга и Фридланда император назначил его губернатором Восточной Пруссии. Теперь ему предстояло проследить за тем, чтобы Александр выполнил секретные условия Тильзитского мира, и эта миссия обещала быть самой трудной в его карьере. Нет, русский император был с ним любезен, но Наполеон не слишком верит лукавому византийцу. Царских улыбок мало; чтобы понять, каковы действительные намерения русских, нужно вращаться в свете, среди влиятельных особ, прислушиваться, приглядываться, читать в глазах, подхватывать на лету обрывки фраз, предназначенных для чужих ушей, но двери великосветских гостиных перед Савари были наглухо закрыты. И не из-за Фридланда, о нет: в Петербурге генерал слыл «Венсенским палачом», убийцей герцога Энгьенского – принца из дома Бурбонов, на троне которых воссел узурпатор. В здешних салонах царят эмигранты-роялисты, некоторые из них даже перешли на русскую службу и сражались с соотечественниками. Савари оказался вхож лишь в один знатный дом – старой княгини Вяземской и был вынужден удовольствоваться обществом ее самой и ее зрелых дочерей: Анна, лицом напоминавшая обезьянку, была замужем за неаполитанским посланником Каприолой, ее младшая сестра Варвара – за датским послом бароном Розенкранцем. Генерал понимал, что эти церемонные визиты, как и приемы у Хвостовой (племянницы Вяземской), – простая трата времени. Это было тем более обидно, что молодые офицеры из его свиты находили радушный прием у хлебосольного Александра Львовича Нарышкина, выдумщика и острослова, и в салоне очаровательной княгини Куракиной, где толпились дипломаты из всех европейских стран. Но что же делать! Карета остановилась у дома Вяземской.
* * *
Бал был в разгаре, когда цесаревич подъехал верхом к большому дому князя Гагарина неподалеку от Зимнего дворца, где квартировал Багратион. Залы первого этажа были ярко освещены, на хорах играл оркестр, лакеи разносили прохладительные напитки – этот вечер больно ударит по карману князя Петра, подумал Константин, однако воздержался от замечаний, когда хозяин бала явился его приветствовать.
Вдовствующая императрица сидела в креслах, обмахиваясь веером; Катиш и Аннет вальсировали с лейб-гвардейскими офицерами, Николай и Михаил стояли за стулом графини Ливен. Константин подошел к маменькиной ручке, сказал ей пару ничего не значащих фраз и занял место наблюдателя у дальней стены. После экосеза гости проследовали в соседнюю залу, где был сервирован отличный ужин; генерал подал руку Марии Федоровне.
За ужином больше всех говорила Екатерина, блестя своими бойкими карими глазками; Багратион не сводил с нее жадного взгляда, и этот взгляд был устремлен на немолчные коралловые уста, а не на весьма откровенное декольте. С тех пор как генерала назначили комендантом Павловского гарнизона, Катиш взяла в привычку говорить «мы» о нём и себе, чем явно шокировала императрицу. Императрица Елизавета Алексеевна не почтила этот бал своим присутствием, что и неудивительно: свекровь и свояченица уже давно составляют ей оппозицию, которая еще усилилась после бесславного (по их мнению) завершения войны с французами. Эти три дамы никогда не окажутся за общим столом без Александра, а потому их встречи довольно редки: Александр предпочитает обедать в своем кабинете, в обществе прекрасной Марьи Антоновны Нарышкиной; Елизавета всё еще льет слезы по своему штаб-ротмистру Охотникову, скончавшемуся этой зимой. Но верно и то, что Александра раздражают постоянные происки maman и «Бисям Бисямовны», которые довольно мало с ним считаются. Чего стоила хотя бы эта затея женить на Катиш австрийского императора Франца, который только в апреле как овдовел! Пришлось даже посылать тайком в Вену Куракина, чтобы расстроить их планы.
Александр говорил Константину, что не в силах уразуметь: как может девица по двадцатому году мечтать о замужестве с сорокалетним стариком, отнюдь не красавцем, робким, скрягой, отцом семерых детей? Старшая принцесса, Мария-Луиза, всего тремя годами моложе Бисям Бисямовны!.. Константин с ним не спорил, хотя сестру понимал: императорская корона – прекрасное украшение для любого мужчины. К тому же Франц II всей душой ненавидит «узурпатора Буонапарте», как и Катиш, а для супружества общность взглядов важнее нежных чувств. Кстати, князь Багратион тремя годами старее австрийского императора, Елизавета считает его уродом, молодая жена (тоже Екатерина, в девичестве Скавронская) два года назад сбежала от него в Вену и щеголяет там в полупрозрачных платьях, отнюдь не жалуясь на здоровье, которое она якобы поправляет за границей, а какие жгучие взгляды Катиш посылает герою Прейсиш-Эйлау?
– Это решительно нестерпимо! – От резкого взмаха рукой темно-русые кудряшки надо лбом Катиш вспорхнули и вернулись на место. – Какой-то выскочка насаждает в Европе новую династию, а все кланяются и потакают ему! Король Неаполя Жозеф Наполеон! Король Голландии Луи Наполеон! Не понимаю, как Александр на это согласился, ведь это же стыдно, стыдно! А уж король Вестфалии…
Щеки Марии Федоровны были теперь красны не от румян; ее дочь вовремя замолчала, но все и так поняли, о чём она подумала. Королем Вестфалии (нового государства, наспех скроенного из земель, отнятых у Пруссии, и нескольких немецких княжеств) Наполеон сделал своего младшего брата Жерома и через шесть дней женил его на Екатерине Вюртембергской – родной племяннице вдовствующей российской императрицы! Она даже родилась в Санкт-Петербурге! «Большой Фридрих», ее отец (до Великого ему далеко, несмотря на толщину и огромный рост), предал своего сюзерена Франца II, чтобы из герцога сделаться королем – союзником французов. Теперь он поддерживает континентальную блокаду Англии, хотя приходится тестем Георгу III, и с радостью отдал руку своей дочери самому молодому Бонапарту, хотя тот был женат на какой-то американке и имеет от нее сына! А император Всероссийский тотчас пожаловал новому «кузену» знак ордена Св. Андрея Первозванного!
– Всё это долго не продлится, – вступила в разговор Мария Федоровна. (Они с Катиш теперь изъяснялись только по-русски, сделав это своим point d’honneur[13].) – Граф Петр Толстой пишет из Парижа, что надо срочно заключить мир с турками и воссоздать коалицию с Австрией и Пруссией, чтобы дать отпор узурпатору. Мы не можем быть покойны, пока он у власти.
– Но вы же знаете, maman, что передышка была необходима, – возразил Константин. – Война так портит армию! Я разослал повсюду ремонтёров, каждый день ученье…
– Наши храбрые солдаты одержали бы победу, если бы им позволили дать еще один бой! – перебила его сестра. – Мы это точно знаем! – Призывный взгляд и ответный взгляд Багратиона. – Ах, если бы я была мужчиной! Мы не допустили бы такого унижения!
* * *
На размещение в казармах Измайловского полка и конногвардейском манеже ушел целый день; только в семь часов вечера Булгарин наконец освободился от службы и поспешил с набережной Фонтанки к сестре Антонине на Большую Мещанскую.
Во дворе углового дома против Заемного банка было не протолкнуться от карет, которые выстроились и на улице, в передней корнету пришлось протискиваться сквозь толпу лакеев в самых разных ливреях. Пробравшись в залу, он чуть не столкнулся с попом – что такое? К счастью, в соседней комнате виднелась купель: это не соборование, а крестины!
Муж Антонины, коллежский советник Александр Михайлович Искрицкий, беседовал с солидными господами в шитых золотом вицмундирах. Булгарин поздоровался с ними и прошел к сестре, которая еще не оправилась от родов и лежала в постели, заглянул в колыбель с новорожденным племянником, получившим имя Александр. Чувствуя себя лишним в суете женской прислуги, вернулся обратно в залу, где им тотчас завладела крестная младенца, возглавлявшая небольшой кружок из дам: она засыпала Фаддея вопросами, от которых его спас лакей, объявивший, что «кушать подано».
За столом разговор немедленно обратился к недавней войне и Тильзитскому миру, который приводил в отчаяние всех без изъятия. Искрицкий, молодой человек лет двадцати пяти, ограничивался ролью хозяина дома, избегая высказывать свое мнение, хотя недавно лишился родного брата Алексея, погибшего под Прейсиш-Эйлау; Булгарин слушал молча.
Во всех наших военных неудачах виноваты генералы: Суворовых новых нет, воюют всё по старым книжкам о Семилетней войне! С Буонапартией-то по-иному надо! А тут, право слово, хотел ехать дале, да кони встали: Каменский с ума сошел, Гудович в Турции, Михельсон был на Дунае (упокой, Господи, его душу), а с немцами каши не сваришь. Солдатушки-то бы не выдали! Вот бы в Пруссию генерала Милорадовича, который в самый день Фридланда разбил турок под Бухарестом и гнал их целых десять верст!.. А с Англией воевать нам нужды нет, не в интересах России лишать себя выгод торговли: Англия и Швеция русским хлебом кормятся, а лён, а лес, а скот, а щетина да волос, а парусное полотно? Его даже в Америку вывозят! Да и нам без английских товаров не прожить: мундирное сукно за границей покупаем, все бумаготкацкие фабрики у нас англичане держат, а колониальные товары? И так уже внешнеторговые обороты сократились втрое против прежнего, война, опять же, денег требует – расходы, расходы, в долги залезаем, бумажки печатаем, стоит ли удивляться, что Алексей Иваныч Васильев, министр финансов, Богу душу отдал! Буонапартии-то выгодно к нам англичан не пускать: за последние два года нами во Францию вывезено на четыре тысячи рублей, а из Франции ввезено на триста тысяч с лишним! Только нам-то зачем же на свой счет французскую армию содержать?.. Эх, при матушке Екатерине такое бы и на ум прийти не могло! Под женской-то рукою Россия никому спуску не давала – что при Елисавет Петровне, что при Екатерине Алексеевне. Так ведь и ныне незачем среди бела дня со свечой бродить – Екатерина Павловна! Не зря ее таким именем нарекли!..
…Конногвардейский полк пришел в свои казармы, простояв неделю под Петербургом на биваках. По ночам выставляли охранение для предупреждения дезертирства: за четыре перехода от Тильзита до русской границы сбежало около ста кавалергардов. В первую ночь в столице поручик Волконский был назначен дежурным офицером. Скучать ему не пришлось: один из нижних чинов повесился.
* * *
– Поздравляю и желаю вам больше!
Великий князь Константин обнял Фаддея и поцеловал; корнет вернулся в строй, сжимая в одной руке императорский рескрипт, а в другой – крест ордена Св. Анны и темляк клюквенного цвета с желтой каймой. Не удержавшись, он развернул бумагу и прочитал несколько раз подряд:
«Господин корнет Булгарин!
В воздаяние отличной храбрости, оказанной Вами в сражениях 1-го и 2-го июня, где Вы, быв во всех атаках, поступали с примерным мужеством и решительностью, жалую Вас орденом Св. Анны третьего класса, коего знаки препровождая при сем, повелеваю возложить на себя и носить по установлению, будучи уверен, что сие послужит Вам поощрением к вящему продолжению усердной службы вашей.
Пребываю вам благосклонный Александр».
Цесаревич был теперь инспектором всей кавалерии, поэтому в зале Мраморного дворца, где проходило награждение новых кавалеров, было довольно многолюдно. Булгарин смотрел, как князю Борису Четвертинскому (родному брату Марии Нарышкиной) вешают на шею крест ордена Св. Владимира – в пару к синему мальтийскому кресту «Pour le mérite»[14] с золотыми прусскими орлами меж лучей. Кавалергарды, уже имевшие награды, выходили за своим «Владимиром» или золотой шпагой «За храбрость» так, будто для них это было делом обычным, но уланы, получившие свой первый орден (восемь поручиков и девятнадцать корнетов), ликовали и в восторге обнимались с товарищами. Старжинский получил «Владимира» с бантом и был произведен в поручики, его искренне поздравляли. «Ничего, – подумал Булгарин про себя, – лиха беда начало! Великий Суворов тоже начинал с аннинского креста!»
Из Мраморного дворца высыпали шумной ватагой. С серого ноябрьского неба сыпался мелкий холодный дождь, но в душе сияло солнце и пели птицы. «К Демуту!» – раздалось сразу несколько голосов. Кавалеры отправились на Большую Конюшенную.
Француз Юге, которого вдова Демута поставила управлять трактиром, лично вышел встречать господ офицеров и указал им свободные столы. Было время обеда, почти все места занимала богатая публика из числа постояльцев и других приезжих; корнеты и поручики дерзко разглядывали дам и делились между собой впечатлениями.
– En voilà qui se pavanent avec leurs sabres d’âne![15] – услышал Булгарин.
Фраза была произнесена негромко, но вполне отчетливо молодым господином во фраке оливкового цвета, приставившим к глазам лорнет. Его приятели рассмеялись. Из-за соседнего стола тотчас встал высокий худощавый кавалергард и подошел к шутникам.
– Monsieur, vous m’avez adressé la parole, j’ai mal entendu; voulez-vous répéter?[16]
Булгарин заметил красный анненский крест на эфесе его палаша.
– Moi? Non, pas du tout…
– Alors, vous me traitez de menteur?
– Mais non, Monsieur, c’est un malentendu, je vous assure…[17]
– Мишель, оставь ты этих рябчиков! – окликнул кавалергарда его товарищ. (Рядом с «Владимиром» на его груди сиял золотой крест за Прейсиш-Эйлау.) Но тот пристально смотрел на франта своими темными глазами неопределенного цвета.
– Eh bien?
– Je vous présente toutes mes excuses, Monsieur, je n’avais aucune intention de vous vexer[18], – пролепетал фрачник.
Кавалергард вернулся на свое место, провожаемый множеством взглядов. «Хрипуны», – процедил кто-то из улан.
* * *
Партер содрогался от аплодисментов. «Туссень! Туссень!» – скандировали мужские голоса. Не дожидаясь выходов на поклоны, Булгарин поскорее выбрался из партера и побежал в коридор второго яруса. «Аааа!» – услышал он на лестнице: это высокий Фрожер вывел из-за кулис хорошенькую Туссень, бесподобную в амплуа субретки. Фаддей успел встать напротив боковой ложи за один миг до того, как ее двери раскрылись.
Из дверей появилось чýдное созданье: точеная головка в обрамлении черных кудрей, алебастровая шея, высокая грудь, стройная талия и бедра, угадывающиеся под тонким светлым платьем, маленькие изящные ножки в атласных туфельках… За Венерой шла дама в летах, с тюрбаном на голове. Они сделали несколько шагов по коридору, и с плеч красавицы соскользнула узорчатая шаль, упав к ее ногам. Булгарин бросился поднимать. «Oh, vous êtes trop aimable…»[19] Темно-карие глаза влажно поблескивают, розовые уста полуоткрыты… Булгарин подал шаль, богиня повернулась, он догадался набросить шаль ей на плечи, не коснувшись их руками (дуэнья стояла тут же и смотрела) … Двери лож начали раскрываться. «Oserais-je vous demander de nous accompagner jusqu’en bas? Mon valet est tombé malade, nous n’avons personne…»[20] Корнет чуть не подпрыгнул от радости. Они молча пробирались сквозь толпу, красавица держалась за сгиб его локтя. Фаддей помог ей и ее спутнице надеть шубки, сам только накинул шинель; они вышли на улицу, в ноздри ударил свежий морозный воздух, очистив их от запаха крепких духов и горячего воска.
Стояла на редкость ясная, тихая декабрьская ночь; застигнутые врасплох облака казались оберточной бумагой от луны, похожей на камею из слоновой кости; там и тут мерцали яркие звезды. Площадь была оживлена: снег скрипел под полозьями легких санок с мохноногими лошадками меж оглобель и под колесами экипажей с лакеями на запятках; справа от Каменного театра выстроились в ряд господские кареты, дожидаясь седоков. Экипаж красавицы стоял за Поцелуевым мостом.
Возле кареты она остановилась: ей бы хотелось пройтись пешком после театральной духоты. Вы не откажетесь проводить меня? Это недалеко. А тетушка поедет одна… О, конечно! Это будет счастливейший день в его жизни!
Фаддей знал, где она живет: Малая Морская, дом Лепеня. Этот адрес он узнал от того самого слуги-немца, который сегодня так удачно заболел. Уже целый месяц корнет ходил в театр на французские пьесы и балеты, чтобы во весь спектакль смотреть на ложу прекрасной незнакомки, потом поклониться ей у подъезда, свистнуть «ваньку» и помчаться на Малую Морскую, опередив ее карету, а там поклониться ей еще раз, когда она пойдет на свою квартиру. И вот теперь они вместе шагают вдоль Мойки, говорят о театре, сравнивая пьесы Мольера и Мариво с новыми штучками Дарлевиля и Пикара, мадам Вальвиль с мадемуазель Марс, Лароша с Дюраном. Говорит в основном она, и как изящно она выражает свои мысли! Как глубоки и тонки ее замечания! Подъезд, они пришли. Он непременно должен поцеловать ей руку. Сейчас она попрощается с ним – пора!
– Voulez-vous monter chez moi que je vous offre une tasse de thé?[21]
Булгарин молча кивнул, онемев от восторга.
Они поднимаются по лестнице во второй этаж; вот ее квартира. Тетушка уже дома, но она устала и чаю не хочет; они одни. Квартира наемная, однако здесь всё дышит парижским шармом. Какое искусство – создать уют при помощи мелочей! Шаль, наброшенная на столик, ваза с цветами, вид какого-то города в тонкой рамке, раскрытые ноты на клавикордах… На низком столике – изящное фарфоровое cabaret[22]; Шарлотта с чашкой садится на кушетку, подобрав под себя ноги и накрыв их шалью (она замерзла, бедняжка!) Огоньки свечей пляшут в ее больших глазах, на щеках играет румянец. Как она прекрасна! Она рассказывает Фаддею о себе.
Ее выдали замуж совсем девочкой, муж был вдвое старше, зато богат. Летом они жили в своем имении, а на зиму уезжали в Париж. Наполеон только-только стал императором и составлял свой двор, он пожаловал мужу Шарлотты баронский титул, но, как оказалось, это было сделано с дурным умыслом: один из придворных, пользовавшийся милостями Наполеона, донимал Шарлотту своими преследованиями, домогаясь ее любви. Он даже заплатил одному бретеру, чтобы тот вызвал барона на дуэль, но муж драться не стал. Они решили бежать в Америку; всё уже было готово к отъезду, когда Шарлотта вдруг тяжело заболела. Она осталась в деревне, муж сел на корабль в Бордо. Через полгода она узнала, что он умер в Гаване. Родители не смогли бы ее защитить от постылого воздыхателя; она уехала в Россию.
Она вдова!
Час пролетел совершенно незаметно. С каким тактом она указала ему на время, словно удивившись бою часов, – уже полночь! Фаддей поцеловал ей руку, и Шарлотта не отняла ее тотчас, но он повел себя как рыцарь и всего лишь попросил позволения бывать у нее.
На улице Булгарин проделал несколько па из мазурки. Жизнь прекрасна! Если срезать путь по льду Невы, он успеет в Стрельну к разводу[23].
* * *
Две кошевни, запряженные тройками, замедлили ход перед огромным дворцом в классическом стиле. Несколько окон во втором этаже были освещены, но все остальные темнели черными глазницами; стекла слегка дребезжали от резкого ветра с Невы. Четыре заиндевевших масляных фонаря вдоль фасада не могли рассеять промозглую мглу.
– Здесь! – уверенно сказал Волконский, указывая рукой. – Три первые окна от угла.
– Заря-жай! – скомандовал Лунин.
Кавалергарды полезли в карманы и за пазухи шинелей.
– Товсь! Кладсь! Пли!
С десяток рук одновременно запустили камнями в три окна на первом этаже, послышался звон битого стекла.
– Гони!
Тройки рванули с места, снег взвихрился, заметая следы.
Во дворце, некогда принадлежавшем Григорию Орлову, с конца декабря поселился новый французский посланник – Арман де Коленкур. Чтобы сделать ему приятное, Александр выкупил за триста шестьдесят тысяч рублей этот дом со всей обстановкой у генерал-интенданта Дмитрия Петровича Волконского, приходившегося Сержу дядей. Дворец потряс нового обитателя своими размерами и роскошью; он не шел ни в какое сравнение с парижским особняком, который Наполеон купил у Мюрата для графа Толстого. Вместо благодарности Коленкур велел вынести всю мебель из угловой гостиной, повесил там портрет Наполеона, а под ним поставил кресло, похожее на трон; этого кавалергарды стерпеть не могли.
Петербург встретил Коленкура немногим радушнее, чем его предшественника, но Александр всячески ласкал его. На спектакле в Эрмитажном театре бывший адъютант Наполеона сидел в одном ряду с императорской фамилией; Елизавета Алексеевна ему улыбалась, Мария Федоровна отворачивалась и цедила слова приветствия сквозь зубы: верный слуга узурпатора требовал, чтобы граф фон Мерфельд сидел ниже его, поскольку титул австрийского императора по древности уступает французскому! Государь приглашал Коленкура на все смотры и маневры, а на Крещение он даже был на Неве при водосвятии вместе с обеими императрицами и великими князьями (тогда был особенно пышный парад – сорок тысяч солдат продефилировали по льду). Высокий, благородной внешности, образчик французской породы и хороших манер, посол всячески пытался расположить к себе петербургское общество, держа открытый стол и тратя без счета на элегантные экипажи и роскошные праздники, однако гвардейские офицеры почитали своим долгом оказывать ему ненависть. За неявку на бал к французскому посланнику сажали под арест – что с того! Стрельнинская гауптвахта и так всегда была переполнена.
Неотмщенные Аустерлиц и Фридланд горели в сердце незаживающими ранами, но теперь всеобщее внимание было приковано к эскадре Сенявина. Разбив турок у Афонской горы, адмирал получил высочайшее повеление прекратить враждебные действия против Порты, перечеркнувшее эту победу. Тильзитский мир принудил Дмитрия Николаевича отдать Наполеону Каттаро (французы почти год безуспешно пытались захватить этот город), а также семь Ионических островов – греки со слезами провожали русских братьев, которые даровали им самоуправление, уважая их народность! Греческий легион должен был встать под знамена Франции; греки подчинились этому требованию лишь при условии, что их никогда не заставят воевать против России. На Корфу высадился французский гарнизон; офицеры, прежде находившиеся в Италии, занимаясь там грабежом, и не бывавшие в Пруссии, своим несносным хвастовством доводили русских моряков до белого каления, ни одна увольнительная на берег не обходилась без дуэлей. Шесть пехотных полков перевезли на купеческих судах в Венецию, а кораблям было приказано идти в Россию. Из писем кузенов и друзей, служивших во флоте, кавалергарды узнали о страшной буре, заставившей эскадру Сенявина искать укрытия в Лиссабоне, где уже находился большой английский флот. Жители португальской столицы пребывали в отчаянии, ожидая нашествия французов с суши и англичан с моря и опасаясь для своего города участи Копенгагена, спаленного пожаром от английской бомбардировки. Королевская семья и правительство бежали в Бразилию от генерала Жюно, которого Наполеон сделал герцогом д’Абрантесом; французские флаги взвились над портом первого декабря, и Сенявин оказался в ловушке. Среди офицеров, служивших на русских кораблях, было много природных англичан, которых Жюно требовал заменить французами в знак того, что октябрьская декларация Александра о разрыве между Россией и Англией – не шутка, однако Сенявин, рискуя навлечь на себя гнев государя, держался с английским адмиралом Коттоном дипломатично. Русские моряки рисковали погибнуть под стенами Лиссабона без всякой пользы для отечества; Дмитрий Николаевич старался заключить конвенцию о возвращении всех войск в Россию со всеми почестями, эскадра же в сопровождении британских кораблей отправится в Англию под своими флагами и пробудет там до заключения мира на английском содержании. Между тем Наполеон требовал от Александра уполномочить графа Толстого распоряжаться русской эскадрой, то есть чтобы Сенявин получал приказы из Парижа, а не из Петербурга! Разве можно было после этого спокойно ездить мимо окон гостиной во французском посольстве?..