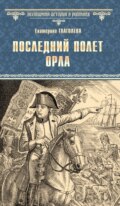Екатерина Глаголева
Битвы орлов
* * *
Костюм был хорош: коричневое трико, набедренная повязка, несколько ниток коралловых бус на шею, плащ из настоящей тигровой шкуры, лук, колчан со стрелами и роскошный головной убор из страусовых перьев – настоящий американский дикарь. Нужно непременно показаться в нём товарищам! Накинув поверх шинель и нахлобучив уланскую шапку, Булгарин отправился к своему земляку – поручику Фащу, у которого по вечерам собирались офицеры.
В комнате было накурено, на полу стояло несколько пустых бутылок, за столом кто-то метал банк. Появление «индейца» внесло оживление, Фаддея рассматривали со всех сторон, заставляя поворачиваться передом и задом.
– С кем же ты едешь к Фельету? – спросил Францкевич. – Верно, с той красоткой, с которой мы тебя видели в театре? Хороша! Поздравляю!
– Вовсе нет, – смутился Булгарин и покраснел, чем вызвал смех и целый град шуток.
Ему было досадно, что его дружба с Шарлоттой может сделаться добычей пустословов и хвастунов, не стеснявшихся даже быть любовниками на содержании. Фаддей оберегал свое чувство, точно сокровище, не позволяя заклеймить его пошлым словом «связь». Получив позволение бывать на Малой Морской не раньше одиннадцати утра и не позже девяти вечера, он стал ездить туда каждый день, а потом и два раза в день, сопровождая Шарлотту в театр (теперь он сидел в ее ложе) и на прогулки. Офицеры могли отлучаться из Стрельны в Петербург не чаще, чем раз в неделю, для этого требовалось отпроситься у самого цесаревича и получить билет за его подписью, но правило это нарушалось всеми и ежедневно. Булгарин уезжал сразу после развода, часов в десять-одиннадцать утра, а возвращался на следующее утро. Он совершенно манкировал своими обязанностями, и ротный командир перешел от предостережений к наказаниям, но одна записочка от Шарлотты заставляла Фаддея моментально забыть о данном самому себе слову исправиться и больше радеть о службе. Они говорили обо всём на свете: о балетах Дидло, Даниловой и Дюпоре (французский танцовщик в роли Зефира перелетал через сцену в три прыжка и кружил всем голову своими пируэтами, юная русская Флора в па-де-де поднималась на самые кончики пальцев!), о русских традициях и английских памфлетах; Шарлотта внимательно слушала рассказы Фаддея (на дурном французском языке) о дежурствах, разводах, учениях, забавных случаях в казарме, совсем не выказывая скуки, и серьезно спрашивала, какого он мнения о Наполеоне, так что он сам себе казался интересным. Она не ждала от него подарков и даже гневалась, когда он привозил к чаю какие-нибудь лакомства: она достаточно богата, чтобы купить всё нужное самой! В самом деле, она одевалась (с большим вкусом) в модных французских магазинах и водила дружбу с актрисами и щеголихами, с которыми познакомила и Фаддея. Содержательницей одного из магазинов была мадам Ксавье – очень высокая, статная, величественная женщина. Говорили, что в молодости, когда Робеспьер ввел в Париже культ Высшего существа, она изображала богиню Разума во время торжественных процессий. Доподлинно же было известно, что сразу по прибытии в Петербург она поступила на сцену Большого театра и несколько лет играла там первые роли: Федру, Гермиону, Семирамиду, хотя в большей степени блистала своими туалетами, чем актерской игрой или декламацией стихов. Через нее Булгарин и раздобыл у театрального костюмера наряд американца, чтобы сопровождать Шарлотту с двумя другими француженками на маскарад к Фельету.
Маскарадная зала была в доме Кушелева на Дворцовой площади; за вход взимали по одному медному рублю, как и в театр, зато шампанское в буфете стоило не меньше двух рублей за бутылку, жареный рябчик – двадцать пять копеек, а уж если дамы захотят фруктов или мороженого… На днях французский посланник истратил целое состояние на груши, выписанные из московской оранжереи. Груш было всего десять, перед самой отправкой в Петербург их украли; вора нашли и сдали в солдаты, груши доставили Коленкуру, но три из них дорогой испортились, а остальные семь он купил по сто рублей за штуку. Булгарин со своим жалованьем в сто девяносто два рубля в год мог прокутить только два червонца из «аннинской» пенсии и уже прикидывал, у кого бы занять денег, если он потратит больше. Скряжничать – моветон, к тому же у Фельета будет весь дипломатический корпус и высший свет, возможно, даже члены императорской фамилии; француженки горели от возбуждения в предвкушении этого вечера, намереваясь мистифицировать важных особ.
Однако пора ехать. Булгарин вышел на лестницу… О ужас! Внизу раздавались шаги со звоном шпор. Спрятав за спину венец из перьев, корнет остановился у фонаря, молясь о том, чтобы великий князь ограничился проверкой журнала на гауптвахте, но нет, он идет сюда! Булгарин вытянулся во фрунт и вскинул руку к шапке, отдавая честь; накинутая в один рукав шинель упала на пол. Константин вытаращился на трико с коралловыми бусами.
– Булгарин? – узнал он Фаддея.
– Так точно, ваше высочество!
– Ты же сегодня дежуришь? Хорош! Мил! Обожди меня здесь.
В животе что-то свернулось жгутом, Фаддей почувствовал кислый привкус во рту. Ну вот и съездил к Фельету! Теперь вместо маскарада его отправят на гауптвахту. Зачем он только пошел к Фащу? Сейчас бы уже катил в санях по Невскому… Цесаревич, сопровождаемый адъютантом, вернулся из полковой канцелярии.
– Ступай за мной! – обронил он на ходу.
Булгарин спустился вслед за ними и встал на запятки саней. «Пошел!»
От быстрой езды и морозного воздуха слегка кружилась голова. Сани остановились у Мраморного дворца; от окон первого этажа на снег ложились яркие полотнища света, расчерченные на квадраты. Шинели оставили в передней; великий князь велел Булгарину надеть на голову перья и за руку ввел его в гостиную, полную дам в маскарадных костюмах.
– Voilà, mesdames, un échantillon du régiment que j’ai l’honneur de commander![24] – объявил Константин, вытолкнув Булгарина вперед.
Раздался дружный смех и плеск ладоней. Дамы окружили Фаддея. Тут были в основном польки: графиня Иллинская (жена сенатора и добрая знакомая Антонины), Жанетта Четвертинская (родная сестра князя Бориса, и, как утверждали сплетники, пассия цесаревича), Потоцкая, Сангушко… Булгарин поклонился им, вызвав новый приступ веселья.
– Извольте идти! – приказал ему Константин суровым тоном.
– На которую прикажете? – уточнил Фаддей, имея в виду гауптвахту: обратно в Стрельну или на петербургскую?
– Можете выбирать! – На этих словах цесаревич отвернулся, чтобы не показать, что и он тоже улыбается.
У подъезда Булгарина догнал лакей: графиня Иллинская просит подождать в сенях. Из гостиной доносился хор женских голосов, щебетавших по-французски; вот он сменился хлопаньем в ладоши; тот же лакей попросил корнета пожаловать в зал. Константин с видом милосердного Тита объявил ему, что прощает эту шалость, склонившись на просьбы заступниц, но в первый и последний раз. Немедленно ступайте в эскадрон! Фаддей поклонился, щелкнув каблуками, и вышел.
Француженки, наряженные креолками, ждали его у мадам Ксавье. Узнав о несчастном происшествии, они стали уговаривать корнета переменить костюм и всё-таки поехать – под маской его никто не узнает, но Фаддей был тверд: теперь он знал доподлинно, что цесаревич тоже будет у Фельета, и если злая судьба вновь столкнет их друг с другом, Булгарину не поможет даже заступничество Богородицы. К тому же обманывать нехорошо.
На стрельнинской гауптвахте он попросил дежурного записать в книгу час и минуту своего прибытия (Константин непременно проверит) и отправился спать.
* * *
Состязаться в прыганье предложил Уваров-Чёрный, но он же и выбыл после первого тура. Теперь он внимательно следил, чтобы никто не заступал за черту, проведенную на полу мелом, и делал отметки после приземления. Мундиры были сняты уже давно, а ради прыжков решили и разуться. Булгарин продержался всего три тура, хотя очень старался – он был единственный улан среди кавалергардов (граф Станислав Потоцкий принимал его у себя по землячеству) и хотел отстоять честь полка, однако обильный обед, орошенный парой ящиков шампанского, сильно умерил его прыть. Толстый хозяин квартиры в состязании не участвовал – кипятил воду для пунша, но подбадривал участников и заразительно смеялся. В последний тур вышли Левашев и Лунин, и после их прыжка поднялся гвалт: Левашев уверял, что прыгнул на полдюйма дальше, Уваров возражал, что он одной ногой проскользнул вперед, прочие разделились на партии, и могло бы дойти до поединка, если бы Потоцкий не крикнул: «Берегись! Кипяток!» Все замолчали и обступили стол с большой чашей, глядя, как он священнодействует, поливая из бутылки лимонный сахар. Лунин с Волконским обменялись парой фраз по-английски; Булгарин ничего не понял, а Потоцкий отвечал им по-французски, что рома сейчас достать нельзя, сойдет и водка. Голубое пламя стекло с серебряной ложечки и охватило всю чашу. Выждав немного, Потоцкий погасил огонь, накрыв чашу крышкой, затем снял ее, раздал друзьям половинки лимона (свежий запах выжатого сока был подобен поцелую) и следом осторожно влил горячую воду из кастрюльки.
Готовый пунш разлили по стаканам; Левашев предложил продолжить состязание на улице: на снегу лучше видно следы. Лунин немедленно согласился; Потоцкий ввернул, что уж в прыганье с высоты ему равных нет, и все рассмеялись.
– Не понимаю, зачем ты это сделал? – вскинул густые черные брови Уваров, которого все называли Феденькой. – Ведь мог же разбиться.
– Пустяки, – вальяжно отвечал Лунин. – Двор немощеный, и снегу по колено. А ей это будет уроком.
– Теперь она решит, что ты в нее влюбился.
– Она слишком умна для этого.
Булгарин наконец-то сообразил, о чём идет речь, – об этом говорили дамы у Антонины. Во время бала Лунин вышел на балкон с графиней Залеской, та сказала, что нынешние мужчины не способны ради женщины броситься вниз, и он тотчас бросился с третьего этажа.
Заговорили о женщинах – об общепризнанных красавицах и о своих «предметах». Булгарин внутренне напрягся: из всех видов удальства ему претила только развязность с дамами. Однако в «бонтонной» компании к «предметам» не применяли слов, принятых у лошадиных барышников, к тому же здесь собрались не ухари, а рыцари: Серж Волконский недавно хотел стреляться из-за фрейлины Лобановой, но его антагонист (Кирюша Нарышкин) отказался, сказав, что не мнит себя его соперником. «И точно, – подумал Булгарин, – куда придворным шаркунам до гвардейских офицеров! Молодцы, красавцы, сплошь кавалеры, хотя и не старше двадцати».
Потоцкий довольно остроумно подшучивал над своими друзьями, и вскоре стрелы обратились на него: всех полячек уже разобрали, так он, верно, волочится за француженками! Не его ли видели недавно с мадемуазель Туссень? Граф запротестовал:
– Я ужасно боюсь связей с француженками! Я готов биться об заклад, что все они – ну, не все, так три четверти, – шпионки Наполеона. Мне говорили знающие люди.
У Фаддея пересохло во рту. В неповоротливый от выпивки мозг вонзился горячий клинок воспоминания.
Дней десять назад, на вечере у Александра Львовича Нарышкина (Булгарин очень дорожил этим знакомством), один француз из свиты Коленкура погрозил ему пальцем. «Не вас ли я вижу так часто с баронессой…?» Он говорил о Шарлотте! Фаддей тотчас вскинул подбородок и отвечал ему с вызовом, что госпожа баронесса в самом деле удостаивает его своим благожелательным вниманием. «Советую вам припомнить “Одиссею” – Цирцею, сирен и Калипсо», – со значением сказал ему француз и отошел. Эти слова раздосадовали Фаддея: что он имел в виду? Намекал на упущения по службе? Предостерегал против ранней женитьбы? А может, он и был тем ухажером, от которого Шарлотта бежала в Россию?.. И вот теперь бесхитростные слова добряка Потоцкого придали беспокойной мысли совсем иное направление, поразившее Фаддея чрезвычайно.
Во время одного из вечерних разговоров Шарлотта спросила, сколько у русских всей кавалерии. Фаддей затруднился с ответом – он всего лишь корнет, но мог бы справиться в полковой канцелярии у сведущих людей. Шарлотта тотчас сбегала в другую комнату и принесла оттуда мелко исписанную бумажку. Она сказала, что ее кузен работает над книгой по европейской статистике и просит всех знакомых помочь ему в сборе сведений; если ему удастся осуществить задуманное, этот труд прославит его и введет в высшие ученые круги. Вот здесь вопросы… Фаддей взял у нее бумажку и положил в карман. В канцелярию он так и не зашел, откладывая со дня на день. Что там были за вопросы? Что-то про численность полка…
Вернувшись к себе на квартиру, Булгарин первым делом отыскал бумажку. Перечитал несколько раз и протрезвел. Сколько рекрут поступило после войны? Сколько человек произведено в офицеры? Каков комплект артиллерии при стотысячной армии? Хороша статистика! А вот еще: каким путем в Россию поступают и в каких местах распространяются английские журналы? На лбу Фаддея выступила испарина. Надо будет посоветоваться с мужем Антонины.
… – Откуда это у тебя?
Булгарин пробормотал что-то невнятное.
– Эти вопросы предложены шпионом, неосторожный человек может заплатить за это своей честью и всей карьерой! – Искрицкий с негодованием бросил бумажку на стол. – Ты должен объявить об этих вопросах и о том, кто дал их тебе.
– Я не могу! – воскликнул Фаддей в отчаянии.
Искрицкий оторопел.
– Как? Ты… уже?
– Нет-нет, – поспешил разубедить его Булгарин, – я никому не говорил об этих вопросах, кроме тебя, но их дала мне женщина, которую я обожаю!
Слова вырвались случайно, заставив его густо покраснеть. Пылая ушами, он залепетал о том, что там всё уже кончено, своей чести он не уронит, но ничего не надо объявлять, он всё уладит…
– Делай как знаешь, – раздраженно махнул рукой Искрицкий. – Но помни, что это дело весьма опасное.
Бумажку они сожгли на свече. Собравшись с духом, Фаддей пошел на Малую Морскую.
– Thadée!
Шарлотта вспорхнула ему навстречу, тетушка поздоровалась и вышла в соседнюю комнату.
– Сядь, пожалуйста, нам нужно поговорить.
Нарочно не замечая ее протянутой руки, Булгарин сел на стул у столика, закинув ногу на ногу и насупив брови. Шарлотта опустилась на софу.
– Ответь мне: что значат твои статистические вопросы? – отрывисто спросил Фаддей. И тотчас добавил, не дав ей рта раскрыть: – Я знаю всё! Ты… ты…
– Ах! – Шарлотта закрыла лицо руками. – Злодей! Ты погубил меня!
Она с рыданиями повалилась на софу; явилась тетушка, верно, подслушивавшая у дверей, заквохтала, засуетилась, пихая Шарлотте какой-то флакончик, та отбивалась: «Оставьте меня! Я так несчастна!»
Фаддей знал, что слезы непременно будут; дорóгой он воображал себе сцену их объяснения, чтобы подготовиться к ним и остаться непреклонным, но Шарлотта плакала совсем не так, как актрисы из французской труппы; при виде хлюпающего носа и слипшихся ресниц он утратил самообладание и бросился перед ней на колени.
– Нет, нет, я не погубил тебя и никогда не погублю! – Он хватал ее за руки и заглядывал в глаза. – Прошу тебя, успокойся и выслушай!
Тетушка снова удалилась.
Теперь они сидели рядом. Фаддей говорил, что не винит ее: она так молода и неопытна, ее наверняка принудили силой, но это игра с огнем, рано или поздно всё откроется, ей нужно уехать – сейчас, немедленно; долг приказывает ему донести, сердце велит иное, но если она останется в Петербурге хоть на неделю, он ни за что не ручается.
– Mais Thadée, je l’ai fait pour toi![25]
Булгарин лишился дара речи. Она смотрела на него покрасневшими, но невыразимо прекрасными глазами, взволнованной груди было тесно в вырезе платья. Теперь говорила Шарлотта: он был так добр к ней, когда она тосковала на чужбине! Только поляк, изгнанник, способен понять, чтó это значит – покинуть свое отечество не по своей воле! Поляки кажутся счастливыми, скрывая свою боль, потому что они горды; французы всегда уважали поляков, их мужчины храбры, а женщины самоотверженны, но помочь им вернуть свою отчизну может только Наполеон! Она показала бы себя неблагодарной, если бы…
– Прощай! – крикнул Булгарин и опрометью бросился вон.
Скатившись с лестницы, он прыгнул в сани, велев вести себя на Крестовский; его трясло как в лихорадке. Горячие слезы обжигали замерзшие щеки; он бродил по пустой дороге один, пока не стемнело.
Наутро отмороженные уши покраснели и распухли, но Фаддей, не обращая внимания на шутки товарищей, весь день не выходил из манежа. Он вдруг сделался образцовым служакой, первым являлся на развод, не пропускал ни одного учения – ни эскадронного, ни ротного, ни даже унтер-офицерского, так что и ротмистр Кирцели стал ему удивляться. Отрабатывая аллюры и перестроения, Булгарин раз за разом прокручивал в голове свой разговор с Шарлоттой, задним умом подсказывая себе правильные слова и фразы. «Послушай меня: уезжай, – говорил он ей в мыслях. – Ты играешь в опасные игры; помни, что к России прилегает Сибирь. Я не объявлю твоего имени, но знай, что ты заблуждаешься насчет поляков. Если поляк надел русский мундир, он будет верен своему государю!» Он сжег все её записочки, которые бережно хранил.
Выждав десять дней, Булгарин получил увольнительный билет и отправился в Петербург. Квартира на Малой Морской была пуста; мадам Ксавье сказала, что баронесса уехала в Вену.
* * *
– Будьте покойны: это всего лишь предосторожность на случай нападения англичан, которого мы имеем все основания опасаться. Напишите королю, что с моей стороны ему не угрожает никакой опасности. Бог свидетель: мне не нужно ни единого селения в землях вашего государя. Вам следует беречься Дании и не спускать глаз с Норвегии и Скании.
Мягко журчавшая речь Александра не оказала ожидаемого воздействия на шведского посла: темные проницательные глаза Курта фон Стединка под бровями домиком пронзали скорлупу французских слов, вылущивая из них суть. Барон был далеко не мальчик и за полвека прошел путь от фенриха[26] до генерал-лейтенанта; он был способен отличить военные приготовления от обычной меры безопасности. Войска, стягиваемые к границе с Финляндией, заставляли его усомниться в искренности русского императора, к тому же французский посланник в Петербурге даже не пытался скрывать, что Дания и Россия намерены поделить Швецию между собой, а Бонапарт не станет этому препятствовать.
– Сир, опасность куда более велика, – твердо сказал Стединк, решив пойти ва-банк. – Мне известно, что господин де Коленкур предсказал Швеции не только внешнюю войну, но и внутреннюю революцию.
– Ах, этот господин де Коленкур! – досадливо поморщился царь. – Поверьте мне, барон, если шведскому королю будет угрожать революция… – Это слово он произнес с видимым отвращением. – Я сам приду к нему на помощь…
– И всё же, сир, заклинаю вас, ради Бога, пока еще не поздно, спасите нас! И вы спасете себя.
Прямота шведского посла повергла Александра в замешательство. Венчик седых волос вокруг высокого лба и впалые щеки придавали Стединку вид христианского подвижника. И не один лишь этикет побудил его надеть через плечо голубую ленту ордена Андрея Первозванного, повесив на шею кресты Александра Невского и Св. Анны 1-й степени: это был способ напомнить о совсем еще недавнем прошлом…
– Ваше спасение зависит только от вашего короля. – В голосе Александра звучали нотки раздражения. – Зачем он идет против всех? Ах, если б он покорился необходимости, хотя бы на время!..
– Но, ваше величество, какова бы ни была сия необходимость, вы не обязаны поступать против своей совести! – воскликнул Стединк. – Взгляните на Австрию…
– Австрия повинуется Бонапарту и не имеет иной воли, кроме его собственной, – перебил его Александр. – Я обязан прежде всего радеть об интересах своих подданных.
«Не стану скрывать от Вас, Ваше Величество: я ничего не выиграл по главному вопросу, – писал ночью Стединк в депеше, которая утром отправится в Стокгольм. – Неукротимая сила толкает императора Александра в пропасть, которая прежде поглотит Швецию. Возможно, он не имеет дурных намерений, но он так устрашен французами, что не смеет ничего предпринять против них. Тот же страх одолевает его министров и вельмож, а ненависть графа Румянцева к Англии внушает ему, что он сможет остаться у власти, лишь бросившись в объятия Франции».
Финляндия
Денис Давыдов торопился. Коротенькое письмо мигом вырвало его из вихря разгульной московской жизни – балов, гуляний, кутежей, безумств влюбленного гусара, слагавшего стихи во время лихой мазурки, – и бросило на обледенелую дорогу в Выборг: война!
О вторжении русского войска в пределы шведского короля не было объявлено официально; в Москве и Петербурге праздновали Масленицу, катались с ледяных гор, объедались блинами, даже не подозревая, что в это самое время авангарды колонн, поставленные на лыжи, прокладывают путь санкам с артиллерийскими орудиями и провиантом, а солдаты в теплых шапках и шинелях сидят морозными ночами у костров, согреваясь водкой. Главнокомандующим был назначен граф Буксгевден; одним из корпусов командовал князь Багратион. Это имя прозвучало для двадцатитрехлетнего штаб-ротмистра звуком боевой трубы – к черту отпуск!
В опасности есть притягательная сила, особенно для фаталистов. Трус цепенеет от страха и до смерти боится пережить его снова, храбрец упивается риском, точно вином. Бурливая кровь стучит в висках, грудь распирает, и дышишь глубже, и видишь четче, все мысли прочь, и легкость во всём теле – ты живешь! Что может сравниться с упоением боя? Только игра ва-банк или дуэль на пистолетах с пяти шагов.
Багратион имел приказ захватить Тавастгус – застежку на пересечении дорог, ведущих к главным городам Финляндии, однако Давыдов решил задержаться в Гельсингфорсе, на главной квартире Буксгевдена: солдаты графа Каменского вязали фашины и готовили лестницы для штурма Свеаборга, который ежедневно обстреливали из батарей; главнокомандующий намекнул, что приступ начнется очень скоро, пока «Волчьи шхеры» вмерзли в лед; Петр Иванович наверняка обрадуется, узнав, что его адъютант участвовал в таком отважном предприятии.
До сих пор русская армия, напавшая на шведов врасплох, почти не встречала сопротивления; солдаты стремительно продвигались по берегу или прямо по льду Финского залива. Ловису взяли без боя, следом за ней пал Гельсингфорс – неудавшийся соперник Ревеля, деревянный поселок с парой каменных домов; полковник Вуич с батальоном егерей занял остров Аланд, захватил магазины и разрушил башню оптического телеграфа, с которой передавали сигналы в Швецию. Крепость Свартхольм, стоявшую на острове против Ловисы, штурмовать не стали, решив взять ее измором, но Свеаборг («северный Гибралтар», как называли его шведы) собирался обороняться и вел разрушительную канонаду из своих двухсот орудий, не имея недостатка в боеприпасах и провианте. Осада длилась четыре дня, когда Багратион овладел кирпичной громадой Тавастгуса, не останавливаясь, пошел дальше на север до Таммерфорса, круто свернул на запад, наступая на пятки ретирующемуся неприятелю, за неделю проделал верст двести и захватил Бьёрнеборг. Шведы откатились на север к Вазе; Буксгевден приказал послать за ними вдогонку отряд Раевского, а самому Багратиону идти на юг, чтобы захватить столичный город Або. К тому времени Свартхольм уже сдался на милость победителя.
– Поручик Малевский! Следую из Петербурга в штаб Гродненского гусарского полка!
Звякнули шпоры – поручик стукнул каблуками. Давыдов разглядывал невысокую фигурку в сером суконном плаще поверх синего ментика с белыми шнурами. Обветренное лицо Малевского было красно, заиндевевшие брови оттаивали в домашнем тепле. Глаза его были устремлены на малиновый александрийский доломан штаб-ротмистра, на котором блестел золотой Прейсиш-Эйлауский крест рядом с «Владимиром» с бантом в дополнение к «Анне» на шее и синему прусскому кресту.
– Чем могу служить? – спросил его Давыдов.
– Не угодно ли указать мне ближайший тракт к штабу? Вам должно быть известно, где он находится сейчас.
– Гродненский гусарский ведь состоит при двадцать первой дивизии?
– Так точно!
Давыдов с важным видом развернул карту и склонился над ней с карандашом и циркулем в руках. Ему льстило уважение, с каким обратился к нему Малевский. Сейчас он как будто припоминал – определенно, это квартирмейстер гродненских гусар, которые находились в авангарде князя Багратиона во время войны в Восточной Пруссии. Где же теперь может быть 21-я дивизия? Двадцать шестого февраля она была в Тавастгусе и получила приказ выступать, сегодня седьмое марта. Если положить по двадцать пять верст на переход… а лучше по тридцать…
– Ваш штаб теперь в Або, поручик. Вы доберетесь туда почтовым трактом за два дня.
– Покорнейше благодарю!
…Малевский не заметил ни казачьих разъездов, ни армейских пикетов на подступах к городу. Не успел он этому подивиться, как неожиданно для себя оказался на обширной площади с каменными домами и массивным трехэтажным зданием в строительных лесах, перед которым росли деревья, а позади торчала позеленевшая верхушка соборной колокольни.
Появление русского офицера на почтовой станции произвело переполох; обыватели бросились бежать со всех ног, а один молодой человек устремился через площадь к трехэтажному дому, где помещалась Королевская академия. Поручику стало не по себе: он понял, что армии в городе нет. С другой стороны, шведских мундиров не было видно тоже, но это не избавляло его от опасности: если его не возьмут в плен военные, он может подвергнуться нападению черни, а уж буйный характер студентов известен всем. Ни по-русски, ни по-немецки никто не понимал, но Малевский кое-как добился от станционного смотрителя, чтобы тот указал ему дом ландсгевдинга, и, собрав всё свое мужество, направился туда.
Губернатор говорил по-немецки (гораздо лучше Малевского), и поручику удалось объяснить ему, что он явился сюда возвестить о скором приходе русских войск. К концу их разговора с улицы уже доносился громкий шум, потому что на площади собралась порядочная толпа. В животе Малевского образовалась сосущая пустота, как бывает, когда прыгаешь с крыши сарая, и всё же он решил играть свою роль до конца: попросил отвести ему квартиру и представить список адресов для постоя. Поддержание порядка в городе до вступления в него армии – забота местного начальства. Ошарашенный ландсгевдинг предложил поручику остановиться в его доме.
Этой ночью Малевский почти не спал, размышляя о том, чтó ему теперь делать. Насколько штаб-ротмистр ошибся в своих расчетах? Что станет с ним, если растерянность жителей пройдет до подхода авангарда? К утру он задремал, сидя одетым на кровати. Стук в дверь разбудил его; поручик вскочил и схватил заряженный с вечера пистолет. За дверью стояло несколько пожилых штатских с помятыми лицами, предваряемых губернатором, – все абоские чиновники. Русский отряд идет сюда; нельзя ли, во избежание недоразумений, уведомить его командира о том, что город уже покорился? Малевский повеселел и через десять минут спустился вниз в парадном мундире с серебряным шитьем. Ему подвели лошадь ландсгевдинга.
…«Тракт», обозначенный на карте, на деле оказался узкой тропой, по которой кавалерия могла идти только в один конь. Артиллерия и обоз увязали в глубоком снегу, пехота проходила в сутки не больше двенадцати верст. Она оставалась далеко позади, когда эскадрон гродненских гусар с ротой мушкетеров вышли к окраинам Або.
От города им навстречу ехал взвод во главе с офицером в сером плаще и гусарском кивере с султаном, – очевидно, разъезд, высланный неприятелем на рекогносцировку. Ротмистр велел трубить боевую тревогу; эскадрон начал строиться повзводно, пехота размещалась на позиции и заряжала ружья. Гусар пустил лошадь галопом, отчаянно размахивая белым платком.
– Поручик Малевский! – представился он, отсалютовав. – Город оставлен неприятелем и покорился силе российского оружия.
Отряд построился в колонну и вступил в Або церемониальным маршем.
* * *
Манифест
О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России
Из деклараций, в свое время изданных, известны праведные уважения, подвигнувшие Нас к разрыву с Швецией и к введению войск Наших в шведскую Финляндию. Безопасность отечества Нашего взыскивала от Нас сея меры.
Явная преклонность короля шведского к державе, Нам неприязненной, новый союз его с нею и, наконец, насильственный и неимоверный поступок, с посланником Нашим в Стокгольме учиненный, происшествие столько же оскорбительное Империи Нашей, как и противное всем правам в просвещенных странах свято наблюдаемым, превратили меру воинской предосторожности в необходимый разрыв и сделали войну неизбежной.
Всевышний приосенил помощью Своею праведною Наше дело. Войска Наши с мужеством им обычным, борясь с препятствиями и превозмогая все трудности им предстоявшие, пролагая себе путь чрез места, кои по настоящее время считались непроходимыми, повсюду встречая неприятеля и храбро поражая его, овладели и заняли всю почти Шведскую Финляндию.
Страну сию, оружием Нашим таким образом покоренную, Мы присоединяем отныне навсегда к Российской империи, и вследствие того повелели Мы принять от обывателей ее присягу на верное престолу Нашему подданство.
Возвещая о сем присоединении верным Нашим подданным, удостоверены Мы, что, разделяя Наши чувства признательности и благодарения к престолу Всемогущего, прольют они теплые их молитвы, да вседействующая Его сила предъидет храброму воинству Нашему в дальнейших его подвигах, да благословит и увенчает оружие Наше успехами, и отстранит от пределов отечества Нашего бедствия, коими враги потрясти его искали.
Дан в С.-Петербурге, 20 марта 1808 г.
Подписан императором Александром I и контрасигнован министром иностранных дел графом Николаем Румянцевым.
* * *
«Дурак ты, братец», – сказал дядя-генерал, глядя на Волконского с брезгливой жалостью. Он-то ждал благодарности, по секрету сообщив ему о готовящемся походе и исхлопотав для Сержа должность адъютанта Буксгевдена, а этот вертопрах отказался! Он, видите ли, считает войну со Швецией несправедливой! Рассуждать больно много стали, молокососы! Теперь какой-нибудь Нейдгардт, вчерашний прапорщик, живо обскачет тебя по службе, вернувшись через пару месяцев домой в чинах и в орденах, а ты так в поручиках и ходи! Дурак и есть!
Серж знал, что так думает не только дядя, и всё же не сожалел о своем поступке. Сражаться с могучим неприятелем, возомнившим себя вершителем чужих судеб, – это честно и благородно, атаковать слабого соседа, чтобы отнять у него часть его владений – какая в том доблесть? Тем более в угоду узурпатору! Густав IV Адольф отказался принять сторону Наполеона и разорвать союз с Англией по примеру России; говорили, что после Тильзитского мира кипящий от негодования шведский король вернул свояку (они с Александром ведь женаты на сестрах) орден Святого Андрея Первозванного. В свою очередь, Наполеон сказал графу Толстому, что не станет возражать, если Россия приобретет себе всю Швецию вместе со Стокгольмом – прекрасные петербургские дамы не должны больше слышать шведских пушек. (Очень тонкая ирония.) Шведы нападения не ожидали, русского посланника посадили под арест уже после вторжения в Финляндию, а в Манифесте это преподносится как повод к войне! Как неприятно думать, что русский государь, столь дорожащий (на словах) уважением со стороны иных держав, ведет себя подобно коварному корсиканцу, который явно вознамерился присоединить к своим владениям Испанию. Петербург же взбудоражен известием о том, что Наполеон просил у государя через Коленкура руки Екатерины Павловны! Узнав об этом сватовстве, великая княжна заявила брату, что скорее согласится выйти за последнего русского истопника. Вот ответ, достойный уважения! Серж тоже будет тверд в своем решении. Честь важнее чинов, а кресты он еще заслужит.