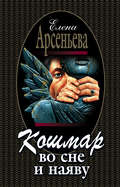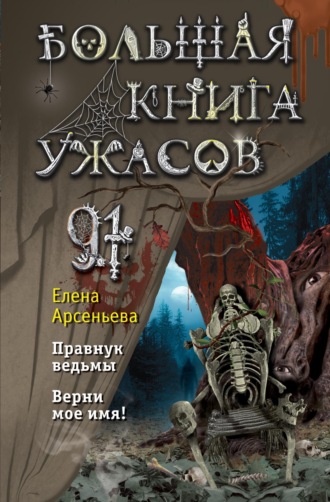
Елена Арсеньева
Большая книга ужасов – 91
* * *
Сначала я вообще ничего не соображал – просто мчался невесть куда, пока окончательно не потерял представление о том, где нахожусь.
В лесу, это понятно. Но в какой стороне дорога? Куда идти?
Телефон, по закону подлости, остался в рюкзаке, а рюкзак – в «газели». Наверное, там уже заметили, что я отстал, вернулись к почтовому ящику, ищут меня, зовут… Лили точно шум подняла на весь лес, странно, что я не слышу! Ну вот разве что ее страшная месть продолжается… Да разве на Лили можно надеяться?!
– Ребята, я здесь! – заорал я, забыв, сколько времени мы ехали, сколько я метался тут и как далеко убежал. Но все-таки я прислушался: может, услышу рокот шоссе? Но нет, ни отзвука цивилизации – только тоскливо шумит лес под ветром, иногда начиная перебирать ветвями и стучать ими одна о другую.
Будто кости гремели, честное слово!
Я хотел было крикнуть снова, но прикусил язык.
Чего разорался, спрашивается?! А вдруг меня услышит почтальон?
Ха, почтальон! Он, конечно, такой же почтальон, как я торт «Наполеон»! Это чудище! Оборотень! Я меньше всего хотел, чтобы он меня услышал и притащился сюда вместе со своим черно-зеленым пятном вместо лица!
Стало как-то совсем холодно, я хотел было застегнуть свою безрукавку, но вдруг обнаружил, что на ней не осталось ни одной пуговицы.
Оторвались! Только нитки торчат на том месте, где они были! Неужели они оторвались, когда я вывалился из машины? Или их ободрал этот, как его, темно-зеленорожий? Может, эта нечисть коллекционирует человеческие пуговицы?
Ха-ха.
Ну, ерунда, конечно, однако я порадовался, что штаны у меня не на пуговицах, а на резинке. В спадающих штанах бежать было бы трудно, а я мчался со всех ног, поворачивал туда-сюда, надеясь или случайно отыскать дорогу, или запутать почтальона, если он все же пустился за мной вдогонку.
Тем временем в лесу стало темно. Луна взошла, но едва виднелась сквозь бледно-серые облака и светила совсем тускло: я почти ничего не видел и вынужден был идти с вытянутыми вперед руками, чтобы не наткнуться на какую-нибудь ветку и не выколоть глаза. А деревья, похоже, задались целью сцапать меня: честное слово, они подбирались все ближе и ближе! Я не сомневался, что они заодно с тем кошмаром, который то ли остался в почтовом пикапе, то ли преследует меня. Одно из этих деревьев оказалось особенно хищным: оно вдруг нагнуло ветку и вырвало у меня конверт! Тот самый, с маминым письмом!
– Отдай! – завопил я, но оно махнуло веткой, и конверт улетел невесть куда. Я погнался за ним – и внезапно очутился на поляне, посередине которой стояло только одно раскидистое дерево с толстенным, необъятным стволом. Облака от луны будто ветром сдуло, и я видел это дерево очень ясно. Оно было голым – без листьев, без коры, да еще с одной стороны его могучий, широкий ствол будто проказа изъела, таким он выглядел корявым. Ветви словно судорогой искривило; на одной из них болталась под ветром какая-то черно-серая тряпка – что-то вроде давно не стиранной простыни. Как ее в лес-то занесло, интересно?
А впрочем, мне это вовсе не было интересно – мне хотелось только одного: выбраться отсюда, найти какую-нибудь тропинку, которая вывела бы на шоссе!
Шагнул в сторону – ветер ударил мне в лицо, буквально швырнув ближе к дереву, более того – подбросив над ним!
Я даже испугаться в первый момент не успел, зато потом в моем распоряжении оказалось сколько угодно таких моментов.
Ветви, которые только что торчали в разные стороны, вдруг вздыбились и сомкнулись надо мной. Я оказался как бы в клетке из деревянных прутьев, которые стремительно сплетались между собой, выпуская новые и новые побеги: гибкие, пронырливые, как щупальца цепкие, колючие. Только одна ветвь по-прежнему была отведена в сторону – та, на которой болталась странная тряпка. И тут я разглядел, что это тощее человеческое тело – тело старухи в ветхой, обтрепанной одежде. Ветка пронзала тело насквозь, старуха была мертва уже давно: сухая, сморщенная потемневшая кожа обтягивала скелет…
Неужели это то, что ожидает меня? И никто не узнает, что случилось со мной – бессильным, безоружным…
Безоружным?!
Как бы не так!
У меня же есть нож, забытый нож!
Я сунул свободную руку (в другую уже накрепко вцепилась одна из веток) в карман, выхватил ножик, кое-как открыл его и вонзил в ту самую ветку, которая обвивалась вокруг моего запястья и норовила вползти выше.
Раздался пронзительный вопль (это вопило дерево, честное слово!), нож окрасился кровью… или это была какая-то красная жидкость, ужасно похожая на кровь, не знаю, да и какая разница – все равно гадость! Щупальце отцепилось, съежилось, и я принялся наносить удары по другим отросткам. Им это не понравилось, очень не понравилось! Они отпрянули от меня, однако дерево заскрипело, застонало, завыло, и я от неожиданности выронил спасительный нож. А потом и сам свалился на землю.
Я вырвался! Это невероятно, но я вырвался: я лежал у подножия кошмарного дерева, и высохшее тело мертвой старухи реяло надо мной словно знамя ужаса.
Да ведь это… да ведь это та самая ведьма, о которой говорил Потап! Та, которую повесили на дереве; та, которую иногда срывает ветром и уносит невесть куда, а на поиски ее отправляется человек без лица, вернее, с черно-зеленым пятном вместо лица, с которым я уже познакомился!
Тело той самой ведьмы висело надо мной, но я уже ее не боялся. Ведь мы вместе побывали в плену у дерева-урода. Старуха так и оставалась в этом плену, а я спасся. Но если бы не вспомнил про нож – пропал бы. Где же мой нож? Наверное, где-то здесь валяется!
Я начал шарить в траве, как вдруг над головой послышался шорох. Я вскинул голову и увидел, что высохший труп раскачивается прямо надо мной и, кажется, вот-вот свалится на голову!
Я разглядел мертвое лицо… показалось, что пустые глаза смотрят на меня, причем смотрят настойчиво, словно хотят мне что-то подсказать.
Ну все, шиз меня настиг! Да, я шизанулся, это точно, потому что все еще ползаю под этим кошмарным деревом, которое уже перестало вопить и, похоже, набирается сил, чтобы снова вцепиться в меня: ветки его опускаются все ниже и ниже.
Я вскочил и ринулся было прочь. Пробежал несколько шагов, как вдруг услышал громкий плач. Оглянулся на бегу: если из этого дерева может идти кровь, если оно может выть, рычать, стонать – то почему не может плакать?
Это плакало не дерево. Это был горький и жалобный плач ребенка.
Я остановился.
Наверное, мне показалось. Наверное, это очередной глюк. Откуда здесь взяться ребенку? И все-таки я остановился. Такой это был плач… такой горький, что я повернулся и шагнул в том направлении. Шаг, другой… у меня волосы встали дыбом, во мне все протестовало и словно бы молило при каждом шаге: «Не ходи, не ходи туда!» Не знаю, пошел бы я дальше, поддавшись жалости, или чесанул бы с прежней прытью в противоположную сторону, однако вдруг услышал крик:
– Санька! Санька, забери меня домой! – Это был тоненький детский голосок. Так мог кричать совсем маленький ребенок. Испуганный, заблудившийся, потерявшийся.
И он звал меня…
Я прекрасно понимал, что никакого ребенка здесь нет, что меня здесь никто не может звать, не может знать моего имени, что это морок, бред леса, в который я нечаянно ввалился, будто в ужастик, в страшилку, в какой-то фантастический фильм… я бы его с удовольствием посмотрел в свободное время, но оказаться внутри этого фильма, да еще в роли главного героя, мне совсем не хотелось!
Я все это прекрасно понимал, но остановиться уже не мог. А ребенок плакал все жалобней, я шел все быстрей, ругал себя, уговаривал, что надо драпать отсюда, но шел и шел, и вдруг понял, что мои ноги обвиты длинной веткой – вернее, это был корень, длинный, тонкий корень, и он тащил меня, онемевшего, одуревшего, все ближе и ближе к тому самому дереву, из щупальцев которого я только что вырвался.
Я заметался, озираясь, но ножа, который спас меня в первый раз, в траве было не разглядеть. Наклонился и попытался распутать корень, который тащил меня куда-то, – но сразу с отвращением отдернул руки.
Корень оказался крепким, скользким, вообще мерзким каким-то. Когда я брезгливо отшвырнул его, ладони мои были покрыты какой-то гадостью, похожей на кровь и слизь.
Я заорал от отвращения, и тут почувствовал сильный рывок, не смог удержаться на ногах и упал, и больно ударился о землю, и покатился в какую-то яму, попытался вскочить, но только неуклюже заворочался и сел.
И тут плач и хныканье, которые все это время не прерывались, утихли. Раздался тихий довольный смешок.
Что еще такое?! Я повернулся…
Я повернулся – и крик застрял в горле.
Передо мной на земле лежал маленький человекообразный уродец, выточенный из дерева. На теле были кое-где маленькие корявые сучки; голову вместо волос покрывала кора. И в то же время он шевелился как живой, он махал ручонками, улыбался! Глаза его были закрыты, но я чувствовал, что он на меня смотрит. А древесный корень… то, что я принял за древесный корень, тянулось из его живота, словно пуповина.
Помню, мама все время смотрела сериал «Склифосовский», я тоже смотрел: это же про медиков, мне про них все интересно, – ну и там часто показывали, как рождаются дети. Они соединялись с телом матери пуповиной. А это существо было соединено пуповиной с деревом, как если бы его родило дерево!
– Санька? – пропищал он. – Привет, братец.
Братец?..
Братец?!
– Наконец-то ты пришел, – продолжала пищать деревяшка. – Ну давай же письмо!
Все закружилось у меня перед глазами, но я потряс головой и немного очухался.
– Письмо? – повторил я тупо. – Какое письмо?
– Ну мамино письмо, конечно, какое же еще? Тебе же было сказано доставить его мне, – капризно протянул он. – Мне, Алексею Васильевичу Лесникову! Неужели ты его потерял, раззява?!
Я вспомнил слова почтальона, которые раньше казались жутким бредом. Ну что же, бред продолжался! А где письмо, я и знать не знал. У меня его отняло какое-то дерево!
Я тупо кивнул.
Деревянное личико уродливо сморщилось, раздался визгливый смех:
– Ладно, прощаю. Письмо ерунда. Главное, что ты сам здесь! Когда мы родились, я так и не смог тебя прикончить, но теперь-то сделаю это, дорогой братец! – Он схватился за пуповину и с силой, которая казалась невероятной в этом маленьком тельце, подтащил меня к себе.
Краем глаза я увидел какую-то дырищу между корнями дерева, которая придвигалась все ближе и ближе. Да нет, это не она придвигалась – это деревянный уродец волок меня туда, перебирая ручонками по пуповине.
Он задумал меня в эту ямищу затащить?!
И вот он вцепился мне в плечи, закрытые глаза оказались совсем близко, ротишко раскрылся – широкий, как пасть – и исторг какие-то булькающие утробные звуки:
– Да, да! Затащу! Убью! И твое сердце наконец остановится! Твое! Остановится!
Мое сердце точно бы остановилось, если бы я не вырвался из скользких ручонок деревяшки и не отшвырнул ее от себя.
* * *
Швырнул впечатляюще: уродец отлетел к самому дереву и, ударившись об один из толстенных корней (даже треск послышался!), замер неподвижно.
«Неужели я его убил?» – мелькнула мысль, которая меня ужаснула, но, на счастье, другая оказалась более разумной: «Невозможно убить того, кто уже умер!» Третью можно было бы считать пределом идиотизма, но лучше считать ее показателем того состояния, в котором я находился: «Если его невозможно убить – значит, он может снова очухаться и наброситься на меня!»
Я не стал разбираться в деталях: кое-как выпутался из пуповины, выполз из ямы и кинулся наутек.
Вокруг было ни светло, ни темно: откуда-то лился яркий, но в то же время призрачный не то белый, не то голубоватый, не то зеленоватый свет, но мне его было вполне достаточно. Я думал только о том, чтобы убежать как можно дальше от кошмарного дерева!
Я бежал, озираясь – и постоянно ощущал чей-то взгляд, устремленный на меня. Но постепенно дошло, что это не взгляд, а взгляды! Деревья, мимо которых я несся как угорелый, смотрели на меня!
Нет уж, хватит с меня мертвящего взгляда деревянного уродца!
Все время казалось, что он очухался и мчится следом, проворно перебирая ножонками, не то злорадно хохоча, не то плача от бессильной злобы, размахивая при этом пуповиной, как лассо.
Подумал с отчаянной надеждой: «Нет, наверное, я уснул в «газели», вот и мерещится невесть что. Сейчас доедем до города – и я проснусь. И окажется, что мы не останавливались около почтового ящика и письмо я так и не бросил.
Ну и ладно! Тем лучше! Я его просто выкину. Изорву в клочки и выкину, и не в почтовый ящик, а в мусорный! И постараюсь отговорить маму на следующий год ехать туда, где я был сегодня – или где мне казалось, что был…»
На бегу я заметил в чаще сбоку автомобиль и чуть не рухнул от изумления. Но это был не глюк – там в самом деле стоял автомобиль! Я видел его крышу – не то коричневую, не то красноватую. Правда, через нее проросло какое-то дерево, да и весь автомобиль покрылся травой и мхом так, что марку не различить.
Я не мог понять, что за лес окружает меня. Не сказать, что я такой уж знаток ботаники, но березу от елки, а дуб от клена все-таки отличу. И даже ясень мне знаком, и рябина, ну и липу узнал бы, особенно когда она цветет или ягодой покрыта. Но здесь деревья были одновременно и знакомые и незнакомые, как бы скрещенные между собой. И Потаповы рассказки всплыли в памяти: «Вон деревья, видите? Они вроде березы, а листья у них как у рябины, понятно? Такие только на этом кладбище растут!»
«Мутанты, что ли?» – с издевкой спросила тогда Лили.
Похоже, она была права. Стволы березовые, белые в черных черточках, но с веток осыпаются желуди, а листья разлапистые, кленовые, желто-красные… Значит, такие деревья растут не только на кладбище? Или кладбище и сюда дотянулось?
У меня мутилось в голове от этих мыслей, и в эту самую минуту впереди, в просвете между деревьями, показалась крыша избы. На ней, правда, торчало какое-то высохшее деревце, но я уже понял, что передо мной деревня.
Там наверняка есть какие-нибудь жители! И они помогут мне выбраться отсюда!
И тут что-то произошло… Сначала я почувствовал словно холодное дыхание со всех сторон, а потом увидел, что к обочине подступают не деревья, а люди! Все они казались одного роста, большеголовые, с покрытыми корой телами и деревянными, грубо вырубленными лицами. Они подходили с обеих сторон, молча, с опущенными руками, похожими на длинные ветви, оканчивающиеся множеством веточек-пальцев.
Это что, деревья ожили?! Я совсем спятил? У меня начались глюки?
И тут до меня донеслось чуть слышное шипение.
Еще только змей тут не хватало!
Но шипение издавала не змея, а зловонное белесое пятно, которое скользило от одного человеко-дерева к другому, прилипая поочередно к каждому стволу, как бы растекаясь по ним, и тогда плоть деревьев исчезала, оставляя только что-то вроде скелетов, которые делали несколько шагов, начинали мерцать как гнилушки и бесшумно рушились в траву. При этом пятно меняло цвет и делалось багровым.
Довольным становилось, что ли? Или, наоборот, злилось?
Если честно, точно знать не больно-то хотелось. Может, пятно действовало в мою пользу и мне стоило его поблагодарить, хотя бы мысленно, но уж очень оно было мерзким и воняло гадостно, а действовало против человеко-деревьев до того подло, что не благодарить его хотелось, а удрать подальше. Вдруг оно и впрямь прониклось ко мне симпатией и решит выразить ее объятием? И тогда я тоже рухну, словно древесная труха, в траву и уж точно отсюда не выберусь?
Я попытался убежать, однако ноги меня по-прежнему не слушались. И тут…
И тут среди человеко-деревьев возник, словно выкатился из чащи, какой-то лысый, пузатый, белокожий, коротконогий… посередине его брюха – как раз на том месте, где у нормальных людей пупок, – находился огромный глаз с тяжело нависшим веком без ресниц. При этом его мучнисто-бледное лицо было лишено даже крошечных гляделок.
Пониже глаза располагался разинутый гнилозубый рот.
Веко на животе шевельнулось, начало медленно подниматься, и я понял, что, если этот глаз откроется, мне придет конец, конец!
Ноги мои, похоже, смекнули, что им тоже придет конец, если не прекратят забастовку. Они очухались и понесли меня вперед, а потом припустили еще шибче, когда раздались стремительно приближающиеся шаги, вернее прыжки, какого-то быстро бегущего существа.
Я не обольщался насчет его доброжелательного отношения. В этом лесочке доброжелательностью к представителям рода человеческого и не пахло!
А деревня уже открылась передо мной: два-три десятка домиков разбросаны там и сям, на пригорке и в низинке. Чуть в стороне – поросшие елями развалины какого-то длинного одноэтажного дома. Может, там сельская администрация? Или как это раньше называлось – правление колхоза? Или больница?
Да какая разница, что там было! Сейчас во всех окнах выбиты стекла, в плафонах двух-трех уличных фонарей нет лампочек, заборы оплетены повиликой и еще какой-то травой… И тут я разглядел совсем близко, за забором, дом с целыми окнами, крылечко и открытую дверь!
Я почти добежал до этой избы, как вдруг в соседнем огороде, заросшем, как и все прочие, сорной пожухлой травой, засек боковым зрением человеческую фигуру – в просторном, кое-как запахнутом и ничем не подпоясанном халате, до того застиранном, что ни цвета, ни узора не различить; на голову нахлобучена шапка-ушанка.
Сначала я решил, что это пугало огородное, однако оно вдруг косноязычно прокричало:
– Эй, че-а-эк, ко меня, ко меня! – И приглашающе замахало длинными руками, на которые были натянуты черные перчатки.
Не пугало, значит!
Подумать, стоит ли отозваться на это приглашение, я не успел: позади раздался грозный рык и короткий звук, похожий на лай. «Пугало» подхватило полы халата и чесануло в свой дом, мелькая кривыми ножищами, обтянутыми черными трениками, а может, кальсонами.
В подробности я не вдавался: преследователь был совсем близко, и это, судя по рыку, было что-то кровожадное, вроде волка!
Я кинулся к посеревшему от дождей забору, ограждающему первую избу, распахнул кривую калитку, проскочил в нее и, не оборачиваясь, захлопнул, надеясь, что она шарахнет моего преследователя. Судя по чему-то среднему между воем, рыком и лаем, который до меня долетел, зверюге досталось, но вот калитка распахнулась вновь, потом опять захлопнулась. Преследователь ворвался во двор! Я в это время был уже на крыльце, влетел в открытые сенцы, потом ринулся в комнату, однако споткнулся о порожек и ничком плюхнулся на пол, а мой отставший было преследователь, не ожидавший, конечно, такой удачи, с размаху свалился мне на спину, и я затылком и шеей ощутил его распаленное бегом дыхание.
Щелкнули зубы… сейчас они вопьются мне в шею, перекусят позвонки…
* * *
Внезапно мимо протопали быстрые легкие шаги и раздался сердитый девичий голос:
– Вставайте! Развалились тут! Лучше бы дверь закрыли!
Захлопнулась дверь, рухнул с грохотом засов, потом девчонка еще более сердито крикнула:
– Да вставай же, Пепел! Превращайся скорей, а то он с ума сойдет, когда тебя увидит.
И я почувствовал, как тяжесть, давившая мне на спину, с пыхтением сдвинулась.
Стремительно повернулся, сел – и в самом деле чуть не рехнулся, увидев перед собой огромного пса, тело и голова которого были обугленными, обожженными, как если бы он упал в костер, но все-таки вырвался из него. Местами на теле не было шерсти, а та, что осталась, слегка дымилась, и даже искры по ней пробегали. Ошейник обгорел и едва держался, а изо лба торчал короткий штырек – черный и вроде бы тоже обгоревший.
Что-то жизнь моя стала удручающе однообразной в этих краях! Я то бегу со всех ног, то шлепаюсь в обморок. Вот и сейчас… теряю… теряю сознание…
– Эй, держись, ты же мужчина! – донесся до меня голос девчонки, и я почувствовал, как она уперлась мне в спину коленкой, вцепилась в плечи и сильно встряхнула.
Уплывающее сознание раздумало уплывать, пелена перед глазами рассеялась, и я отчетливо разглядел, как полусгоревший пес грянулся оземь и… и рассыпался кучкой пепла. Но в следующую минуту пепел закружился, принимая очертания человеческой фигуры. Да-да, я увидел тощие босые ноги, обгоревшие джинсы прикрыли эти ноги до колен, появилась грязная, в прожженных дырках футболка, из рукавов высунулись длинные ухватистые руки, сформировалась шея, а потом пепел сложился в голову с разлохмаченными волосами, на которой вылепились черты задорного мальчишеского лица, расплывшегося в улыбке и уставившегося на меня серыми глазами.
Не только глаза – и кожа, и волосы, и даже зубы, и, конечно, одежда у этого парня были серыми, тускло-серыми, как пепел. Ну да, он же восстал из пепла в буквальном смысле слова! Вот только торчащий изо лба штырек был по-прежнему черным, обугленным. И ошейник никуда не делся…
Это пес превратился в пепельного человека?!
Почему-то я не заорал, не плюхнулся снова в бесчувствии, а даже как бы не очень удивился. Впрочем, если бы я увидел подобное превращение в нормальной жизни – меня, конечно, сразу же в психушку можно было отправлять. Но в этом лесу ничего нормального мне еще не встречалось. Я как-то пообвыкся, можно сказать. Хотя поколачивало меня сейчас, конечно, однако значительно меньше, чем от встречи с деревянным братцем и с этим… как его там… у которого глаз на брюхе!
– А ты ничего, – ухмыльнулся бывший пес, – бегаешь быстр-ро! Твое счастье, а то бр-рюхоглаз уже буквально на хвосте висел. – Он отчетливо раскатывал звук «р».
– На твоем? – промямлил я, представив, как на обгоревшем хвосте обугленного пса висит жуткий брюхоглаз.
Очень точное название, кстати!
– Ясно, на моем, – кивнул бывший пес. – У тебя же хвоста нет. Хотя не факт. Может, ты его прячешь? С чего бы недочел тебе махал и звал «ко нему»? Наверняка почуял родственную душу! – И он зашелся коротким лающим хохотом.
– Да ладно тебе, Пепел, – сказала девчонка, которая по-прежнему стояла сзади и поддерживала меня за плечи. – Недочел вечно голодный, сам знаешь. Увидел незнакомца – ну и обрадовался: вдруг выпросит какой-нибудь еды.
Недочел, сообразил я, это «пугало» в шапке, неподпоясанном халате, черных перчатках и черных трениках, а может, кальсонах.
– Древо-птицы еще не вывелись, вот он и мается, – продолжала девчонка. – А яиц мало осталось: я почти все недозрелые в прошлый раз собрала. Не знаю, появятся они снова или нет..
– Сочувствую, – пробормотал Пепел. – Выходит, иногда быть мертвым лучше, чем живым. Хотя бы есть не хочется.
– Сомнительное преимущество, – фыркнула девчонка. – Эй, ну ты как? Сам сидеть можешь? Или рискнешь встать?
Понятно, что она обращалась ко мне. Я кивнул, поднялся на ноги – не слишком ловко, надо сказать, – и увидел ее.
Высокая, ростом с меня (а во мне метр семьдесят пять, чтоб вы знали), тонкая – не худая, а именно тонкая, как стрекоза, кудрявые каштановые волосы растрепаны, глаза темно-карие, как черешня или вишня переспелая, брови домиком, будто их хозяйка чему-то как удивилась однажды, так и продолжает удивляться. Платье синее в красный цветочек, довольно симпатичное, только на груди почему-то не застегнуто на пуговицы, а зашнуровано черными обувными шнурками с расхристанными концами. Поверх платья накинута вязаная серая кофта. Что-то в этой кофте показалось мне странным, только я не сразу понял что. На ногах серебристые кроссовки, немного испачканные, но явно фирменные. Помню, Лили такими же «прадами», купленными за совершенно конские деньги на каком-то хитром сайте, всем в классе мозг вынула. Ну, Лили – она может! Наверное, эта девчонка на том же сайте их покупала. За такие же деньги.
– Привет, – сказала она. – Меня зовут Коринна.
– Пес Пепел, – отрекомендовался пепельный. – Можно звать и Псом, и Пеплом. А ты кто?
– Александр, – пробормотал я, почувствовав, как вспыхнули щеки.
Коринна… Красивое имя, никогда такого не слышал. Только слишком монументальное. Я бы ее лучше Коринкой звал, такую тонкую-звонкую. Если она разрешит, конечно.
Я решил начать с себя и сделать первый шаг к уменьшительно-ласкательным:
– Меня вообще-то можно Сашей звать. Или Сашкой. Или Санькой. Кому как нравится.
– Мне нравится Александр-р, – сообщил Пепел. – Иногда так охота лишний раз порычать!
Коринка смотрела на меня улыбаясь, хлопая длиннющими ресницами и комкая на груди кофту. И я понял, что в этой кофте показалось мне странным. На ней не было пуговиц! Совершенно как на моей безрукавке. Петли были – а пуговиц ни одной. И, кстати, я смекнул, почему платье Коринки зашнуровано, а не застегнуто. На нем тоже не было пуговиц, вот какая штука.
Я растерянно огляделся. Впервые, между прочим, с тех пор, как сюда попал. Ну да, у меня были более важные дела: то созерцать превращения Пепла, то на Коринку пялиться.
Это какая-то кухня. Четырехконфорочная газовая плита, застеленная выцветшей клеенкой, на ней металлический закопченный чайник; над раковиной с заржавевшим краном – полка, застеленная пожелтелой бумагой с нелепыми вырезанными фестончиками по краям – видимо, для красоты; на этой полке – две тарелки с облупленным золотым ободком и такие же кружки… В застекленном буфете виднеется разнокалиберная посуда. Две табуретки у стола, покрытого такой же клеенкой, как на плите; у стола вместо одной ножки подложены толстенные книги, похожие на «Большую советскую энциклопедию» – я такую видел в школьной библиотеке. А кстати, это и есть «Большая советская энциклопедия» – разглядел название.
Странно… почему-то показалось, что я бывал здесь раньше – не знаю когда! – и все это мне знакомо: и мебель (правда, тогда у стола все ножки были на месте), и плита (газа, конечно, нет, поэтому плита и накрыта клеенкой, а раньше на ней что-то кипело в кастрюле и скворчало на сковородке), и грязно-желтый пластиковый телефон, который стоял на проржавевшей насквозь железной полке, приколоченной к стене…
Телефон! Телефон! Связь с внешним миром! Мой-то мобильник остался в рюкзаке, но теперь появился телефон! Хоть бы он работал, этот раритет!
Я схватил трубку, торопливо набрал домашний номер – Пепел злобно рыкнул по-собачьи, однако я уже крикнул во весь голос, отчаянно: «Алло, алло!» – но ответом была тишина, и я наконец сообразил, что не слышал гудка, когда снял трубку.
Телефон не работал.
Ну да, было бы странно, если бы он работал: провод-то оторван! А я и не заметил на радостях…
– Положи трубку, – шепнула Коринка, и в голосе ее звучал страх. – Пожалуйста, положи и больше никогда ее не поднимай!
– А то что? – буркнул я. – Боишься, эта рухлядь развалится?
– Во-первых, она уже развалилась, – рассудительно ответил Пепел. – А во‑вторых, никогда не знаешь, кто тебе ответит. Лучше, знаешь ли, не провоцировать здешнее чокнутое гипер-рпр-ростр-ранство!
Гиперпространство?! Ну надо же, какие слова этому псу известны!
Внезапно раздался громкий дребезжащий звук, и я аж подскочил от неожиданности: ведь это телефонный звонок! Коринка и Пепел схватили друг друга за руки и замерли. В глазах у Коринки ужас, а Пепел был теперь не серым, а белым, честное слово! То есть он от страха побледнел?! Ничего себе…
– Ну вот, – прошелестел Пепел. – Спровоцировали-таки!
Вдруг возникла мысль – поразительная, честное слово, и она в самом деле поразила меня, как штырек, который вонзился Пеплу в лоб. Я осознал, что перестал удивляться невероятному, всей этой невероятности, в которой оказался.
Мне было не по себе, мне было, честно признаюсь, даже страшно, но все происходящее я теперь воспринимал как данность. Вообще все! И то, что было, и то, что есть, и то, что будет.
Как это написано в «Солярисе»? «…Не делай ничего. Владей собой. Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю. Но ты попробуй. Это единственный выход».
Да, похоже, придется поступать именно так, а всякие вопли «этогонеможетбыть!» пусть канут в Лету. Кстати, если кто не знает, это такая река в древнегреческой мифологии, куда валится все, что надо забыть. Или не надо, но оно все же забывается…
Между тем неработающий телефон с оборванным проводом продолжал трезвонить.
Может быть, когда я бросил трубку, то нечаянно надавил на какой-то звонильный рычажок и его заклинило?
– Он не успокоится, пока ты не снимешь трубку, – пробормотал наконец Пепел. – Ты набирал номер – ты и должен взять трубку. Только ничего не говори! Ничего не говори!
Мысль, которая мне внезапно пришла, – показатель того, насколько уже всерьез я воспринимал все, что здесь происходило. Я подумал: а вдруг это мама позвонила? Она же беспокоится, куда я пропал, где потерялся! Наши-то все вернулись, а меня нет, и она, конечно, сидит у телефонов – и городского, и мобильного, – ждет звонка! И вот кто-то позвонил, номер определился – и она теперь перезванивает…
Да! И несмотря на то что провод оборван – звонок прошел! Я верю, что это возможно! «Этогонеможетбыть!» лежит на дне Леты и не трепыхается!
Я схватил трубку и чуть не заорал радостно: «Алло! Мам, это ты?» – но Коринка метнулась вперед и так вцепилась ногтями мне в руку, что я натурально окосел от боли. Дернулся было, но она держала крепко, уставившись мне в глаза, и это был такой взгляд, что я словно услышал ее мысленный крик: «Молчи, молчи, молчи!!!»
И тут до меня отчетливо долетел знакомый голосишко, который был настолько пронзительным, что разносился по всей кухне. Во всяком случае, Коринка и Пепел его услышали и уставились на меня с ужасом и любопытством:
– Ну что, Санька? Добрался до своих? Думаешь, отсидишься у них? Думаешь, я оставлю тебя в покое? Зря! Я же сказал, что твое сердце теперь должно остановиться, как раньше остановилось мое! Во всем виновата наша прабабка! Она уже за все заплатила – заплатишь и ты. Ты мне должен – ты мне должен шестнадцать лет счастливой жизни! И ты мне их отдашь… Ну ладно, дыши пока. Я тебе еще позвоню. И ты, это, лучше трубку сразу бери, а то ставни вышибу!
В трубке раздались короткие гудки, а потом в окно что-то сильно шибануло – настолько сильно, что ставни ходуном заходили, а стекло задребезжало. Потом громко хлопнула калитка – кто-то ушел со двора.
Волоча за собой пуповину небось!
Я опустил трубку на рычаг – осторожно так, осторожненько… Ну да, меня этот братский монолог впечатлил. А кого бы не впечатлил, интересно?!
– Хорошо, что ты молчал, – еле слышно шепнула Коринка. – Если им не ответишь, они, может быть, отвяжутся.
– Откуда ты знаешь? – спросил я.
Она опустила голову и пробормотала:
– Когда мы только сюда попали, я позвонила домой: не заметив, что провод оборван. Конечно, никто не ответил. Но через минуту раздались звонки. Я схватила трубку и заорала: «Мама! Папочка!» В ответ раздался голос – какая-то девчонка бубнила: «Миламиламиламила…» Голос был не злой, скорее жалобный, но леденящий душу. – Коринка поежилась: – Меня до сих пор бьет дрожь, как вспомню. А еще… Ты, когда бежал сюда, не заметил во дворе качели?