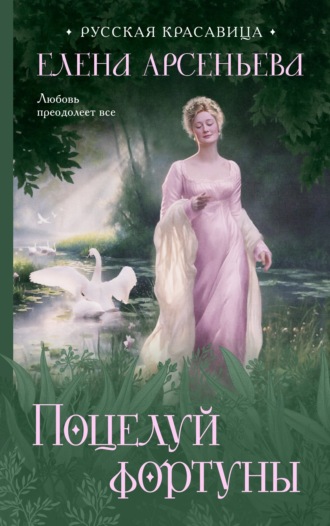
Елена Арсеньева
Поцелуй фортуны
О чем это он говорит? Кто ушел? Кого он искал? Какие князь и княгиня? Он сошел с ума, этот незнакомец, доставивший ей столько счастья, но лица которого она так и не видела!
Встрепенувшись, Анжель резко откинулась назад, чуть не соскользнув с его колен в воду, но была подхвачена проворными руками.
– Что с тобой? – Он улыбнулся.
Анжель ошеломленно смотрела на твердые, такие ласковые губы, на ямочку в середине подбородка, высокие скулы, серые глаза вприщур под разлетом светлых, выгоревших бровей.
Серые глаза вприщур… Не воспоминание, нет – какая-то далекая тень его прошла, пролетела, промелькнула, будто птица в вышине, не задев Анжель своим крылом.
Может быть, она видела его во сне, но наяву никогда.
Никогда!
– Кто вы, сударь?
– Почему ты так смотришь на меня?
Они прошептали это враз, она – по-французски, он – по-русски, но с равным испугом.
– Кто я? – Он пожал плечами. – Что с тобой? О чем ты говоришь? Ты не узнаешь меня?
Анжель затрясла головой:
– Месье, я не знаю вас!
Кровь бросилась ей в лицо при воспоминании о том, что случилось между ними несколько минут назад, а в его глазах мелькнула усмешка.
– Не знаешь?
– Месье, я… – Она смешалась, но все-таки с трудом выговорила: – Я не знала вас раньше!
Он смотрел пристально, недоверчиво, и ласковая улыбка еще играла на его губах.
– Зачем ты это говоришь? Что за игру ты ведешь со мной? Сейчас не время. Я искал тебя по всему фронту, и только чудом в этой церкви…
И тут Анжель узнала его и с облегчением воскликнула:
– О, я вспомнила, вспомнила! Ну конечно!
Это восклицание осветило его лицо, как солнце освещает весь Божий мир; он потянулся к Анжель, но замер при ее следующих словах:
– Я видела вас в той разрушенной церкви. Вы – монах, да?.. О, понимаю. Вы переоделись монахом, чтобы следить за отступающей армией? Вы – русский шпион?
Она сидела в его объятиях, оба они были голые и только что предавались безумной страсти, а все-таки он враг!
Анжель вдруг осознала, что именно он наслал на них полк своих баб-амазонок-партизанок, этих жестоких убийц и похитительниц, которые притащили ее сюда для его услаждения. Русский дикарь! Он забавлялся с нею, как с игрушкой, а теперь мутит ей душу какими-то бреднями. Зачем?
– О чем ты говоришь? – прохрипел он. – Да посмотри ты на меня! Да что же с тобой?!
Анжель рванулась с его колен и встала на скользкое дно водоема. Чего бы он ни хотел от нее, она не могла ему этого дать!
– Простите меня, месье, если я обманула ваши ожидания, – пробормотала она, вглядываясь в его глаза и пытаясь понять их выражение. – Отпустите меня! Позвольте мне уйти!
– Отпустить? – переспросил он таким голосом, что Анжель пробрала дрожь.
О нет, она вовсе не хотела уходить, она желала бы остаться, чтобы снова очутиться в его объятиях, однако невыносимо же осознавать: он принимал ее за другую, приказал другую привести к себе, целовал другую, извергал свой пыл в другое лоно… и Анжель ему никто. Ошибка. Приятная ошибка, да, но тем скорее об этом надо забыть.
– Отпустить, говоришь? – Он внезапно перешел на французский: – Как ваше имя?
– Анжель д’Армонти.
Лицо его дрогнуло.
– Анжель?.. Ангелина?!
Она пожала плечами:
– Анжель д’Армонти.
– С кем вы путешествовали?
– С мужем и его матерью.
– С мужем? О Господи! Среди тех людей, с которыми я вас видел, был ваш муж?!
Анжель отвела глаза, вспомнив, свидетелем чего он мог быть. Да уж, неудивительно, что он владел ею, даже не сочтя нужным показаться на глаза! После того, что слышал и видел, кем он еще мог счесть ее, как не бродячей шлюхой?
– Нет, – глухо ответила она. – Муж мой давно погиб.
Давно!.. Какую-то неделю назад, а кажется – жизнь с тех пор прошла.
– А эти люди? – допытывался он.
И ей вдруг захотелось причинить ему боль. Не вызвать жалость и сочувствие, что непременно произошло бы, расскажи она о том, как досталась Лелупу, а вонзить в него нож отвращения к себе!
– Это мои любовники, – бросила она небрежно. – Я им плачу за то, что они кормят меня, охраняют, помогают добраться домой.
– Где ваш дом?
– В Париже, – соврала Анжель, не моргнув глазом.
И тут в голосе его вновь зазвучала отчаянная надежда:
– Где вы жили в России?
Анжель замялась. Зачем ему знать?
– Где вы жили в России? Говорите, ну! Да я сам скажу!
– В Москве! – выпалила Анжель, повинуясь непонятному чувству противоречия, вдруг овладевшему ею.
Ей уже нечего было терять в этой жизни, она и так потеряла все, сделалась животным, покорно лижущим всякую руку: кормящую, бьющую, ласкающую – всякую! Фабьен и его мать, Лелуп и Туше, Варвара и этот изощренный любитель наслаждений – кто угодно были властны над нею, кто угодно мог распорядиться ее судьбой. Но все! Больше этого не будет! Она будет делать отныне только то, что захочет. И если не захочет знать, за кого принимает ее этот человек, кто он таков сам, кого так отчаянно ищет среди боев и смертей, то и не узнает.
Неведомое доселе чувство собственного достоинства вдруг пробудилось в ней и, опьянив, окрылило. Теперь она знала, что предпочла бы замерзнуть в сугробе, чем быть проданной Лелупу. Но если вдруг ей еще раз придется отдаться мужчине или даже продаться ему, то это произойдет лишь по ее воле! Все, никаких больше господ над нею. Никто не посмеет распоряжаться ее судьбой!
Она рванулась, рассекая воду, к ступенькам и вскарабкалась по ним прежде, чем незнакомец успел схватить ее и задержать. Но отяжелевшее на воздухе тело сделалось непослушным, движения ее замедлились, так что он тут же оказался рядом и схватил ее за руку.
– Куда вы идете?
– Отдайте мою одежду, – буркнула Анжель, ожесточенно выдергивая руку из его пальцев. – И оставьте меня в покое! Все. Навсегда.
– Кругом лес, снега… – сказал он с мягкой улыбкой, выпуская руки Анжель. – Вам не выйти на дорогу.
– Пусть это вас более не заботит! – Анжель рванулась так яростно, что чуть не упала, поскользнувшись на мокром полу, но русский успел подхватить ее, так что Анжель невольно прижалась к нему всем телом… и этого мгновения было довольно, чтобы он опять набросился на нее.
Казалось, это длится бесконечно, и Анжель хотела, чтобы это длилось бесконечно.
Глава 4
Казнь под яблонями
– Все петухи давно отпели, – послышался насмешливый голос, и Анжель почудилось, будто она разглядела путеводную тропку в темной, непролазной мути, в которой пребывала бесконечно долгое время и которая звалась сном. А уже совсем под утро привиделся Анжель и вовсе невыносимый кошмар. Якобы стоит она у какой-то балюстрады, держась за нее обеими руками, и вдруг ощущает прикосновение двух холодных, мертвых рук!
Анжель вскинулась и некоторое время невидяще смотрела на круглое, красивое, улыбчивое лицо немолодой женщины, прежде чем с трудом осознала, кто перед ней, кто сама она и где находится. Когда обессиленный русский принес свою случайную возлюбленную в постель, она окунулась в такой глубокий сон, что теперь ощущала свое тело неким подобием деревяшки, ибо так и проспала всю ночь, ни разу не шелохнувшись, на одном боку.
– Вот-вот, – хихикнула прелукавая Марфа Тимофеевна, – вот и он таков же: болен, мол, истинно чуть дышу, от усталости духа и тела моего! Девок-то перепортил он на своем веку столько, что и не сочтешь, баб тоже не обижал, а что поутих последнее время – так ведь война! По краешку смерти хаживает мое милое дитятко… – Она тихонько всхлипнула, продолжая сноровисто обряжать Анжель в тонкое батистовое белье.
– Votre enfant?![9] – переспросила Анжель по-французски, однако Марфа Тимофеевна сразу поняла чужую речь.
– Хоть и не роженое, а мое родное дитятко. Не мать я ему, зато мамка, мамушка. Он мой выкормыш. Я ребятница[10] была, когда мой сыночек от глотошной[11] преставился, ну а мужика лесиной придавило.
Марфа Тимофеевна быстро перекрестилась и вновь взялась за одевание Анжель. А та не знала, чему более удивляться: изысканности белья и редкостной красоте темно-синего бархатного платья и меховых полусапожек из тонкой кожи, в которые обряжала ее Марфа Тимофеевна, или той истовой нежности, которая звучала в ее голосе, когда она рассказывала о своем барине, чье распутство было для нее не более чем милой шалостью ненаглядного дитяти.
– Помер, говорю, мой сыночек, а княгиня об том прознала. Это не здесь было, а в имении княжьем родовом, на Орловщине: здесь просто так, угодья их охотничьи. Барыня наша была женщина жалостливая, сама только что родила и понимала, что княгине ребя́, что кошке котя́ – то же дитя́. Вот она и взяла меня в кормилицы, чтоб тоску мою утишить. Да и молоко у нее было жидкое, слабое, княжич маленький день и ночь плакал, криком кричал, а я бабенка крепкая, грудастая была, что буренка, выкормила моего ненаглядного Никитушку! – Она вдруг осеклась, прихлопнула рот ладонью: – Ох, что ж я рот раззявила, болтушка неболтанная! Князь молодой мне ведь не велел имя свое выказывать – пусть, мол, она сама меня узнает и вспомнит!
Анжель так вздрогнула, что Марфа Тимофеевна от неожиданности выронила ее недоплетенную косу, и темно-золотистый, тяжелый жгут больно ударил Анжель по спине.
Вчерашнее наваждение начиналось снова!
– Да успокойся ты! – еле утихомирила ее Марфа Тимофеевна, жалостливо разглядывая Анжель в зеркале. – Ишь, побелела: лица на тебе нет! Забудь, что слышала, я просто невзначай обмолвилась. Это ваши с барином дела – вы с ним сами и объясняйтесь!
И, не обронив более ни единого слова, она закончила причесывать Анжель и сопроводила ее в маленькую столовую, где уже сидел в одиночестве барин.
* * *
При виде его она замерла, словно ноги к полу приросли, а он вскочил с такой стремительностью, будто готов был, перескочив через стол, броситься к Анжель, однако суровый взор Марфы Тимофеевны пригвоздил его к месту, заставил пробормотать сдавленным голосом какие-то общие слова о погоде и самочувствии и снова сесть, уставившись в свою тарелку.
Кушанья были хоть куда! Прислуживал молодой статный лакей, русобородый, пригожий – хоть картину с него пиши! Анжель охотно отдала должное всякому блюду, поражаясь более чем обильному завтраку, однако, бросив невзначай взгляд в окно, увидела, что солнце уже в зените. Похоже, они с русским барином вынуждены были совместить завтрак с обедом… и снова краска смущения залила щеки Анжель при воспоминании о том, почему это произошло.
– Приношу вам свои извинения, мадам, – проговорил в это время молодой князь глуховатым голосом, не отрывая взора от серебряного ножа с витой тяжелой рукояткой, которую он сгибал и разгибал с такой небрежностью, будто это была ивовая веточка. – Видите ли, я принял вас за одну свою давнюю знакомую… более чем знакомую! Сказать по правде, было время, когда сердце мое принадлежало ей всецело. Отечество, вера, государь и она, моя любимая, – вот все, для чего я жить желал. Казалось, и она от меня без ума, а на самом деле безбожно обманывала меня для одного вертопраха, чье имя более напоминало прозвище обезьяны. С ним она и сбежала впоследствии. Жаль, что я не успел для нее застрелиться! – усмехнулся он, и Анжель едва сдержала готовый вырваться возглас: «Какая она дура!»
Она с трудом отводила глаза от молодого князя. Хотелось, забыв о приличиях, смотреть и смотреть на это худое, нервное, четко очерченное лицо со светлыми бровями вразлет под высоким лбом, смотреть в прищуренные серые глаза с такими длинными, круто загнутыми светлыми ресницами… и эти твердые неулыбчивые губы… ах, как целуют эти губы! А по первому его зову, по первому знаку хотелось броситься в его объятия, и уже навсегда. Но он не делал этого знака, он не звал ее более – напротив, говорил и говорил о том, как сожалеет, как виноват, как жаждет прощения, каждым своим словом воздвигая между собою и Анжель новые и новые неприступные преграды.
Сердце защемило от обиды. Неужели она ему уже надоела?! И проговорила высокомерно:
– Когда извинения ваши вполне искренни, милостивый государь, я полагаю, вы не откажетесь помочь мне вернуться туда же, откуда ваши прислужницы меня вчера похитили?
Марфа Тимофеевна тихонько ахнула, прихлопнув рот ладонью; барин, заметно вздрогнув, уставился на Анжель испытующе:
– Зачем вам это? Наши дрались славно в сем деле, и хоть у нас были раненые и убитые, но у нашего злодея несравнимо больше. Там более нет никого и ничего, кроме печальных для вас воспоминаний.
– А это, – заносчиво вскинула голову Анжель, – уж моя печаль, и не вам утешать ее. Мое место – рядом с моими соотечественниками.
– Сыскать ваших соотечественников будет сейчас затруднительно, – отвечал князь со всею серьезностью, и только столь напряженные взор и слух, как у Анжель, могли различить в его чертах и голосе презрительную усмешку. – Русский Бог велик, говорили мы не один раз, но никогда не видели такое его могущество. Победитель мира Наполеон Бонапарт бежит, потеряв все! Скоро над ним и куры будут смеяться… ежели беглые французы не всех приедят! Больно только русскому сердцу, что неприятель занял Москву, привел ее в ужасное положение. Все осквернено шайкою варваров. Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Людовика. – Он гневно ударил по столу кулаком. – Однако Бог благословит предприятие наше. Если он защищает сторо- ну правую, то нам будет помощником. Злодей из Москвы идет не по розам, а по трупам. Умен был Сегюр[12], говоривший, что русская осень сгубит Наполеона. Он тогда еще не знал, что такое русская зима! Дело еще не кончилось, но, кажется, Бог не совсем оставил Россию, и если вы видели спаленную Москву, то мы увидим развалины Парижа!
Он в запале осушил добрую кружку какого-то русского зелья, которое Анжель было достаточно понюхать, чтобы понять: один глоток – и она не сможет встать со стула. А этот… дикарь, дикарь! Она измучилась от желания оказаться в его объятиях, почувствовать его губы и руки на своем теле, а он, словно и не видит ничего, ударился в рассуждения!
– Ну, если кто и побывает в Париже, то никак не вы, – съехидничала Анжель. – Вы, верно, и туда своих амазонок пошлете убивать ужасных французов, а сами… а сами… – Она поискала в своем арсенале наиболее остро отточенный кинжал и вонзила его с невинною улыбкою: – А сами будете учить плавать своих крепостных девок.
Князь озадаченно свел брови.
– О чем это вы, сударыня?
– О чем?! – снова взвилась от ревности Анжель, явственно вообразив его в том волнистом водоеме с Варварой или еще какой-нибудь красавицей. – Даже если и сражаются русские доблестно, то вы ведь тут ни при чем. Вы кровь свою не льете. Отсиживаетесь в тихой, безопасной глуши. Решительно чудом спасся этот милый уголок – логово трусливого и похотливого русского медведя!
Он вскочил, с грохотом отшвырнув стул, с ненавистью глядя на Анжель, сжимая в руках изувеченный нож, словно готовясь запечатать им оскорбившие его уста.
Марфа Тимофеевна тоже вскочила и умоляюще простерла руки:
– Голубчик, охолонись! Родненький, помилосердствуй! Она в сердцах, она не со зла!
– Со зла! – запальчиво выкрикнула Анжель, успев мимолетно изумиться: оказывается, дворня этого барина изрядно знает по-французски. – Со зла!
– Ах, та-ак? – прошипел барин. – После всего, что между нами было, вы ощущаете ко мне только ненависть? А я думал… я полагал… – Он запнулся, и Анжель бросило в жар при мысли, что он сейчас припомнит ей исступленные крики, бесстыдные ласки, самозабвенный пыл, но он только по-мальчишески насупился и бросил сурово: – Коли так, говорить более не о чем. Ты, мамушка, снаряди барыню, посади ее в кошеву и самолично отвези…
Он не договорил, прислушался к чему-то, бросился к окну, рванул створки – и вместе с клубами морозного воздуха в столовую ворвались резкие звуки выстрелов.
* * *
– Барин, беда! – распахнул дверь какой-то тощенький мужичонка с вылупленными, белыми от ужаса глазами. – Француз напер со всех сторон! Я шел со скотных дворов через огороды, вдруг услышал топот и лалаканье. Я туда-сюда – смерть перед глазами! В грядках скрылся и лежал часа два, покуда они не прошли, а потом сюда кинулся.
«Часа два лежал?! Чего же ты, пакость, крика не поднял, чего ж ты жизнь свою жалкую спасал, а не барина предупреждал? Теперь-то ведь уж поздно!» – едва не выкрикнула возмущенная Анжель, но ее опередил отчаянный вскрик Марфы Тимофеевны:
– Со скотных дворов огородами?! Французы? Но там ведь тайные тропы, тех, кто их знает, – раз-два и обчелся! Не померещилось тебе, Лукашка?!
– Ну вот, нашла время обиду чинить! – рассердился мужичок. – Что я, порченый, чтоб мне всякие страхи мерещились?
– Да ведь только малодушные следуют пословице: у страха глаза велики, – усмехнулся князь. – А Лука наш – ого-го! Аника-воин! Удалец! Так ли?
Лукашка застенчиво повел плечом:
– Удалец не удалец, Аника или Еруслан Лазаревич – это уж как скажете, барин, на то ваша воля господская, хоть я и запоздал с упреждением, а все ж таки к ворогу в ножки не кинулся, как Пашка, с криком-жалобой: мол, поджигатель наш барин и шпион!
Князь и Марфа Тимофеевна молниеносно переглянулись, а потом барская мамка крепко зажмурилась и тяжело оперлась о стол.
– Продал, продал он дьяволу свою черную душу!
– Да, – медленно проговорил молодой князь, – такого я не ждал от Павла. Сразу понял, что кто-то свой продал, иначе не выйти бы французу на наши охотничьи тропы. Но чтобы Павел!..
– Да что вы болтаете! – не выдержала Анжель. – Если подошли враги, нужно уходить!
– Она права, права! – попыталась совладать с собой Марфа Тимофеевна. – Ведь если попадешься им – не помилуют!
– Пока я нужен хоть кому-то на свете, я не решусь умереть, – светло взглянул на нее князь. – Беги, оденься потеплее, мамушка. И для барыни прихвати шубку да шальку. А ты, Лукашка, готовь саночки легкие, бегом!
Дворовые послушно кинулись в двери, а князь обернулся к Анжель:
– Со мной пойдете?
Анжель заломила руки.
– Да вы что? Подходят мои соотечественники, а вы желаете, чтобы я… Поймите: у меня своя жизнь, я не та, кого вы любите.
– Говорят: «Стоит русскому пожелать, и город взлетит на воздух!» Верно, это легче, чем понять вас, хотя сего я желаю всем сердцем и умом.
Анжель чувствовала, что ежесекундно готова заплакать от того, что он говорил, от самого звука его голоса.
– Уж и не знаю, кто вы и что у вас на сердце, однако же вы прочно усвоили набор расхожих истин, коими сейчас тычете мне в глаза. Ежели вы француженка, то и должны быть с французами! Глупость какая! Чего ради? Ради голода, холода, мучений, безвестной жалкой кончины в дебрях российских? Ради насилия, оскорбления от таких же ничтожеств, которые делали на вас ставки в церкви? А, черт… – Он осекся и резко отвернулся к окну, откуда по-прежнему доносились выстрелы.
Анжель покачала головой. Ну и дела… Когда князь смотрит на нее, она вся тает, горит, едва справляется с собой, чтобы не липнуть к его рукам, словно податливый воск. И только злость ей помощница. Все силы душевные направила она сейчас, чтобы взлелеять эту злость в себе, чтобы вспомнить: сей князь ходит шпионить в полки французов, а потом отсиживается в этом заповедном уголке. В это же время, сообразуясь с его сведениями, казаки и партизаны налетают на измученных, оголодавших отступающих, налетают внезапно и свирепо. Сообразуясь с его сведениями, русская артиллерия обрушивает на этих несчастных беспощадный огненный град. Она вспомнила, как умолял о смерти Фабьен, – и только и могла, что тихонько вздохнуть от боли в сердце. На руках у этого человека столько крови, и он вчера обнимал ее этими руками! Теперь и она вся в той крови.
Анжель вдруг осознала, что он стоит напротив, что-то быстро говорит, а в глазах такая тревога, такая нежность.
– Я сын своего отечества, – наконец дошли до ее слуха его слова, – а потому жизнь моя и силы ему принадлежат. Не судите…
– Вы, кажется, только что упрекали меня в употреблении расхожих истин? – ядовито перебила Анжель. – А что же я слышу от вас? И позвольте добавить еще одну истину, которая вам не по сердцу придется, ибо такого вы от женщины слышать не привыкли: я вас видеть больше не желаю, и коли вы человек чести, ежели шпион может быть человеком чести, – подлила она яду до краев, – то умоляю отпустить меня к соотечественникам. Клянусь, что ни слова не скажу про ваше ремесло. Вам же лучше бежать, пока еще есть время. А не отпустите меня – я и сама уйду.
– Это мы еще посмотрим! – выкрикнул князь, хватая ее за руку и рывком привлекая к себе. – Уйдешь? Сама от меня уйдешь?! Да ты можешь напридумывать все что угодно, ты можешь выдерживать эту непонятную роль, поддаваться этому пагубному заблуждению, но разве тело твое забудет меня? Разве сердце твое будет лгать?
Он не договорил, припав к губам Анжель, и та едва не потеряла сознание. Какие-то синие звезды кружились перед ее глазами, она слышала плеск волн, ее опаляло солнце, где-то заливались жаркими трелями кузнечики, а ноздри трепетали от запаха цветущей смородины. Эти призрачные ощущения делались с каждым мгновением все острее, все отчетливее, теперь Анжель уже не сомневалась, что когда-то испытала их наяву и князь молодой был связан с ними неразрывно. «Неужели вправду мы знали друг друга прежде?»
– Господи помилуй! – Чей-то внезапный крик нарушил очарование, и князь выпустил Анжель так внезапно, что она рухнула в кресло, оказавшееся весьма кстати рядом, не то упала бы прямо на пол!
– Беда на пороге, а они?! – возопил голосом Марфы Тимофеевны ворох шуб и платков, чудилось, сам вбежавший в комнату, а потом ворох сей был брошен на Анжель, и князева мамка принялась одевать ее с неимоверной быстротой, яростно ворча: – Охальник! Потаскун! А ну, одевайся, не медли!
Анжель безвольно, будто кукла, подчинилась ее сильным рукам, а князь, усмехнувшись, проговорил:
– Проворному недолго снаряжаться! – накинул на себя бекешу и, быстро склонившись над женщинами, сгреб их обеих двумя руками, крепко прижал к себе, осыпал быстрыми, жаркими поцелуями: – Вы – все, что мне в жизни дорого. Сбереги ее, мамушка, и себя сбереги, что бы ни было. Ежели Бог не совсем еще нас оставил, может быть, эта мрачная туча пронесется мимо. Прощайте – и храни вас Бог!
Еще раз крепко поцеловав Анжель и Марфу Тимофеевну, он кинулся к двери… но тотчас отошел медленными, тяжелыми шагами на середину комнаты. Прямо в грудь ему упирался штык, примкнутый к ружью, которое крепко сжимал в руках французский солдат. Глаза незваного гостя горели таким торжеством, и он был так упоен удачею, что даже не заметил двух женщин, сжавшихся в углу, и тем более не заметил, как Марфа Тимофеевна, прижав к себе Анжель, бесшумно скользнула в щель между двумя тяжелыми бархатными шторами. Женщины оказались в пыльном, синем полумраке.
* * *
– Бежим! – шепотом приказала Марфа Тимофеевна и, прошмыгнув в какую-то дверь, понеслась по длинному коридору.
Анжель послушно бежала следом, недоумевая – почему верная мамка оставила своего князя на произвол судьбы, а не кинулась ему на подмогу? Впрочем, что ж тут удивительного? Приказ был дан: спасаться, а Марфа Тимофеевна, при всей ее воркотне, не из тех, кто выходит из барской воли. Но сколько же можно бежать? Не иначе, этот бесконечный коридор опоясывает весь дом! Не по кругу ли они бегут? Анжель стало невыносимо жарко в лисьей шубе и пуховом платке, и в этот миг Марфа Тимофеевна остановилась и, осторожно приотворив какую-то дверь, заглянула в комнату.
– Никого! – шепнула она с облегчением, и женщины, крадучись, вошли, как поняла Анжель, в барскую библиотеку, ибо все стены были уставлены тяжелыми шкафами с книгами, да и кругом лежали раскрытые книги, и сердце Анжель вдруг сжалось от тоски: как давно она не держала в руках книг, даже не вспоминала о них, а ведь, по всей видимости, они занимали немалое место в той, забытой ее жизни! Марфа Тимофеевна пыталась отворить окно, через которое, как видно, хотела бежать, но вдруг ахнула и отпрянула за портьеру, знаком велев Анжель сделать то же самое.
Вытянув шею, Анжель все-таки ухитрилась глянуть в окошко… Да, бежать было уже поздно: французы окружили дом.
Теперь оставалось только смотреть, как схватились солдаты с десятком, не более, крестьян, составлявших, очевидно, всю немногочисленную прислугу и защиту охотничьего домика и вооруженных кто чем.
Французам было нечего терять, и они дрались как хищные звери, тесня растерявшихся мужиков, которые один за другим падали на снег, и каждая новая жертва исторгала новый стон из груди Марфы Тимофеевны. Это ведь для Анжель они были просто люди, просто русские крестьяне, а княжья мамка всех знала сызмальства, их жизнь протекала на ее глазах… Но вот и Анжель увидела знакомого: это был Лука, который и раненый, простертый на земле, отбивался от француза, не давая снять со своих ног валенки. Разъярясь, солдат рубанул ему руку саблею, чтоб не мешал. Издав пронзительный крик, Лука воздел кровавую культю к небу, потом ткнул ею в солдата – и отдал Богу душу. Солдат сего даже не заметил: он стаскивал с еще вздрагивающих ног вожделенную обувку. Однако проклятие Луки не замедлило его настигнуть: щелкнул выстрел – и француз ткнулся в снег рядом со своей жертвою.
Марфа Тимофеевна быстро, молча перекрестилась, словно не в силах была слова молвить, и Анжель увидела молодого князя, который в рваной бекеше, со свисающим рукавом (верно, вырывался неистово от тех, кто его пытался схватить) бежал между раскидистыми, облезлыми яблонями к низким бревенчатым сараям, откуда доносилось ржание испуганных лошадей, – бежал, стреляя, чудилось, беспрерывно из трех пистолетов. Вот он отбросил один, выдернув из-за кушака запасной; отбросил другой, выхватил саблю – и та замелькала с невообразимой быстротой, разя направо и налево врагов, ошеломленных тем, что русский и левой рукою рубился ловчее, чем все они, вместе взятые, правыми руками. А князь кидался навстречу всякой опасности, подавлял всякого своей храбростью, доходившей до безрассудства, как если бы у него не было души, способной испытывать страх; и пули, словно колеблясь в своем стремительном движении от зрелища этой беззаветной отваги, пролетали мимо, не задевая его.
До конюшен оставалось несколько шагов, как вдруг безостановочный шепот Марфы Тимофеевны: «Господи! Господи, спаси и помоги!», сопровождавший всякое движение ее любимца, затих – и послышалось сдавленное проклятие Варваре, которая выскочила из конюшен и побежала к барину, не обращая внимания на пули. Она была вся растрепанная, с голой грудью, в порванной до бедер юбке, словно с трудом вырвалась из чьих-то жадных, похотливых рук. Следом выскочили два солдата: один со спущенными штанами, другой – в расстегнутых, так что без слов было понятно, от чего спасалась Варвара.
Она бежала, петляя, и мешала князю стрелять в подступавших врагов. Боясь задеть Варвару, он опустил пистолет, однако французам жизнь этой бешеной девки мало была дорога, поэтому случилось то, что неминуемо должно было случиться: из-за голого смородинового куста прилетела пуля и скосила ее на бегу.
Варвара рухнула к ногам барина, перевернулась на спину, мучительно выгибаясь, а руки ее цеплялись за полы одежды, за ноги князя, сковывая, спутывая его движения… и последние усилия жизни и любви Варвары стали теми сетями, в которые был пойман этот отчаянный храбрец. Невольно замедлясь, он опустился на одно колено, глядя в помертвелое лицо, навеки утратившее яркую смуглость, и, собрав в горсть черные, распустившиеся, перемешанные со снегом волосы, поднес их к губам, как бы отдавая Варваре последнюю дань любви. Но больше он уже ничего не мог сделать ни для нее, ни для себя, ибо на него навалились сразу несколько человек.
Марфа Тимофеевна вскрикнула, Анжель, забыв об осторожности, высунулась в окно и увидела, как медленно, тяжело князь поднялся сперва на колени, потом во весь рост – французы висели на нем, как волки, – развел плечами раз, другой… они посыпались, накинулись снова, опять были сброшены.
«Милый, милый! Ну!..» – умоляюще застонала Анжель, однако откуда ни возьмись появился еще какой-то француз – дюжий, могучий, в тяжелой шубе поверх рваного мундира – и навалился на борющихся, так что никто уже не поднимался.
* * *
– Лелуп! Виват, Лелуп! – послышались приветственные крики, и Анжель невольно перекрестилась, словно увидела призрак.
Лелуп! Откуда он взялся? Возможно ли, чтобы еще и этот кошмар прибавился к тому ужасу, который она вынуждена наблюдать? Не довольно ли, что они с Марфой Тимофеевной, вцепившись с двух сторон в портьеры, беспомощно глядят, как солдаты со злорадными, оскорбительными выкриками поставили князя на ноги? Голова его свесилась на грудь, из рассеченного лба струилась кровь, колени подгибались, но, не давая врагу долго торжествовать, он подобрался, распрямил плечи, улыбнулся дерзко…
– Родной мой! – выдохнула Марфа Тимофеевна. – Красавец!
А он и впрямь был красив – даже сейчас: бледный, глаза прищурены, светлые волосы вразлет – весь словно летел, и что ему враждебные, жестокие руки, державшие его мертвой хваткой?! Сила духа окрыляла его и заставляла улыбаться, даже и глядя в лицо смерти.
Его прислонили к дереву, и какой-то драгун приставил к его горлу палаш. Князь смотрел на него с равнодушной полуулыбкою, словно не понимал, что одно небрежное движение француза может враз прервать нить его жизни.
– Экий проклятый! – удивился драгун. – Не сдается. Что делать, а, Лелуп?
– Коли его! – отмахнулся тот, сдирая со скрюченных предсмертной судорогой пальцев Варвары многочисленные кольца. «Жаловал он ее щедро!» – ужалила Анжель змея-ревность в самое сердце, еще не забывшее, как князь целовал волосы мертвой красавицы. Наконец, воскликнув:
– Cе sera plus vite![13] – Лелуп отсек пальцы Варвары вместе с кольцами.
Завидев сие, князь плюнул в его сторону, и это ожесточило драгуна, который опять приставил палаш к горлу пленника, однако же вновь передумал, воскликнув:
– Нет, мне, видно, не убить его!
– Тебе велено! – заорал Лелуп, с усилием нанизывая колечки на свои распухшие, обмороженные пальцы.
– Хоть велено, да рука не поднимается! – огрызнулся драгун, отходя и с преувеличенным вниманием разглядывая стволы яблонь, обернутые до самых ветвей соломою – от морозов.
– Эй, Бурже! – окликнул Лелуп. – А ну, поди сюда. Пора нанизать на твою пику эту русскую собаку!
– Кого? – отозвался Бурже. – Эту собаку заколоть? Сейчас!
Он вскочил на коня, отъехал шагов на пятнадцать, направил на пленного острие – и поскакал.
Князь не двигался, только чуть склонил к плечу голову, глядя с усмешкою на всадника, словно заранее знал, что, подскакав к своей жертве, Бурже вздернет вверх пику, не в силах убить обреченного на смерть.







