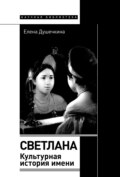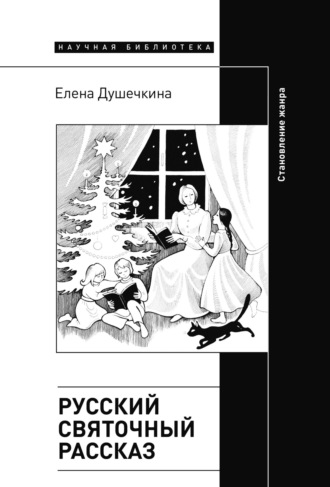
Елена Душечкина
Русский святочный рассказ. Становление жанра
Установка былички на достоверность требует от рассказчика простейших приемов верификации: отсылки к собственному опыту, опыту свидетелей и участников события, указания точного места и времени происшествия или же простого утверждения того, что рассказанное – правда: «Говорят, что правда было все это»[122]; «Вот ты не верил, а это дело тако… Быват»[123]; «Это дядя Петя Чихирдин нам рассказывал»[124]; «Это тоже Прасковья Михайловна рассказывала»[125].
Святочные былички, повествующие о приключениях самого рассказчика, по преимуществу заканчиваются относительно благополучно, хотя он и испытывает в результате общения с «нечистой силой» сильное эмоциональное потрясение. Трагический финал характерен для рассказов о событиях, случившихся не с самим рассказчиком, а с третьим лицом – родственником, знакомым, соседом, земляком и т. п. Такие истории нередко кончаются гибелью участника события – его душит, разрывает на части, сдирает с него кожу «нечистая сила», он сходит с ума, заболевает горячкой и т. д. и т. п.
Устные рассказы, бытовавшие на святках, передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Как показывают записи восточносибирских быличек, опубликованные В. П. Зиновьевым, этот жанр устной словесности еще в 60‐х годах нашего столетия функционировал почти в том же виде, что и в прошлом веке. В XIX веке через дворовых людей суеверные рассказы становились известными в дворянской среде, особенно среди детей, которые активнее и теснее общались с дворней и поэтому в гораздо большей степени, чем взрослые, находились под влиянием народных мифологических представлений. Воспоминания о них часто встречаются в мемуарной литературе[126]. Психологическая потребность в слушании и создании аналогичных историй наблюдалась и среди образованных людей, тем более что этому общественному слою уже явно не хватало обычных в деревенской среде праздничных переживаний и эмоций. Частично эта потребность удовлетворялась приходом в помещичий дом ряженых и гаданиями, которые устраивали для дворянских барышень няни и мамушки – профессионалы этого дела[127].
Кроме того, в создании праздничного настроения немаловажную роль играли те истории, которые в изобилии рассказывались во время святочных вечеров. Порою на основе реальных происшествий, имевших место на святках в дворянской среде, рождались семейные святочные предания. В мемуарах чаще давалась не история (сюжетное святочное повествование), а картинка (очерк, зарисовка) из жизни дома, семьи, учебного заведения[128] или же описание того, что обычно бывало на святках, как, например, в воспоминаниях Т. А. Кузминской:
Приносили петуха, лили воск, пели свадебные песни, причем, пропев хором песню, вытаскивали из прикрытой чашки чье-либо кольцо. Песня же предвещала либо свадьбу, либо горе, либо дальний путь, смотря по словам ее[129].
Порою на этой основе возникали свои «святочные» семейные предания. Так, например, Т. П. Пассек, описывая святки своего детства, кстати вспоминает слышанный ею от отца «странный случай, бывший с его матерью», о том, как бабушка признала в пришедшем в ее дом «молодом человеке с умными черными глазами» того брюнета, которого она видела в зеркале, гадая «о судьбе своей любимой дочери Като». Этот молодой человек и стал вскоре ее зятем[130]. Аналогичное семейное «святочное» предание о провидческом сне своей матери передает Т. А. Кузминская (событие, изображенное в нем, датируется 1841 годом):
Накануне Нового года девушки тихонько от барышни поставили ей под кровать глиняную чашку с водой, положив поверх ее дощечки, что изображало мостик. Это гаданье означало, что если видеть во сне своего суженого, то он должен провести ее по мостику.
Пятнадцатилетняя Любочка (мать Кузминской) увидела во сне, как по «узкой доске» она переходит к лечившему ее в это время врачу Андрею Евстафьевичу Берсу. Услышав от Любочки рассказ о сне,
горничные дружно засмеялись.
– Поздравляем вас, барышня, в этом году быть вам за Андреем Евстафьевичем, вот тогда увидите, – говорили они.
И действительно, не прошло и года, как состоялась свадьба.
Как видим, эти рассказы в основных своих чертах повторяют сюжеты святочных быличек. Однако если для рассказчиков быличек и их слушателей сбывшееся предсказание служило еще одним подтверждением истинности результатов гаданий, то образованные мемуаристы, как правило, объясняют предсказанное событие случайным совпадением или же психологическим воздействием на человека гадания и сна, результатом чего становилось повышенное внимание к явившемуся «суженому». Так, Кузминская пишет о своей матери:
С тех пор, как ни странно, рассказывала мне мать, она стала иначе думать об Андрее Евстафьевиче. Ее юными мечтами, как бы нечаянно, но властно овладел тот, кто провел ее во сне через мостик в ночь на Новый год[131].
Устные святочные рассказы образованных кругов русского общества носили разнообразный характер – от бытовых и этнографических зарисовок до народных историй о «нечистой силе», которые переделывались в соответствии с образовательным уровнем слушающей публики. И уже отсюда, из семейного предания, они проникают в печать в обработанной литературной форме. Являясь в значительной мере сублимацией святочного поведения у таких людей, которые не имели возможности праздновать святки и которые начинали утрачивать или уже утратили знание святочной обрядности, такие рассказы свидетельствуют о переходе устных текстов в новую сферу культуры – письменную. Результатом этого процесса явилось возникновение жанра литературного святочного рассказа.
Литературный святочный рассказ возникает на основе фольклорного. История этой жанровой разновидности прослеживается в русской литературе на протяжении трех веков – от XVIII века и до настоящего времени, но окончательное становление и расцвет его наблюдается в последней четверти XIX века – в период активного роста и демократизации периодической печати и формирования так называемой «малой» прессы. Именно периодическая печать ввиду ее приуроченности к определенной дате становится, как уже отмечалось, основным поставщиком календарной продукции, и в том числе – святочного рассказа. Особый интерес представляют те тексты, в которых прослеживается связь с устными народными святочными историями, ибо они наглядно демонстрируют приемы усвоения литературой устной традиции и «олитературивания» фольклорных сюжетов. Какими же приемами пользуются авторы, ориентирующиеся на устный святочный рассказ?
Во-первых, литературный святочный рассказ гораздо больше фольклорного по объему. Удлинение текста вполне закономерно. Устный рассказ, в отличие от письменного, функционирует в естественных условиях: он рассказывается (а не читается) в той самой обстановке, в которой протекает его действие. Слушатели максимально приближены к тексту – они подают реплики по поводу услышанного, реагируют эмоционально и, что особенно важно, с ними уже случались или могут случиться аналогичные происшествия, во что они безусловно верят. Литературный святочный рассказ, напротив, явление искусственное: он существует в отрыве от атмосферы святочных вечеров и лишь более или менее правдоподобно имитирует ее. Поэтому в нем святочному сюжету часто предшествует воспроизведение обстановки «святочной беседы», один из участников которой рассказывает о происшествии на святках. Примеры тому многочисленны: в рассказе И. К. Кондратьева «Заезжий гость» («Развлечение», 1875) во время святочной пирушки деревенский писарь рассказывает о приходе на святочную вечеринку «окаянного», который «изволил пошутить» над его дедом и уморил его до смерти[132]; в рассказе Н. П. Вагнера «Любка» («Новое время», 1882) «добрейший старичок Петр Нефедьич Трутков» в Рождественский сочельник у камина рассказывает о том, как богатый уральский помещик Турчинов во время праздника, устроенного на святках в Таврическом саду, видел провидческий сон[133].
Во-вторых, фольклорный святочный рассказ, адресованный непосредственно носителям народной традиции, обычно лишен пояснений чисто этнографического и бытового характера – он не разъясняет обстановку, обряды, способы гадания и прочие подробности, и без того известные слушателям. Описание механизма гадания поясняется лишь в тех случаях, когда производится запись рассказа фольклористом, и информант считает необходимым ввести его в курс дела. Так, например, в быличке о «гадании с ложками» вначале дается подробное описание этого довольно редкого способа, после чего передается сюжет[134]; в быличке о «гадании с соломой» рассказчица также дает сначала описание способа гадания[135]. Потребитель литературных святочных рассказов полностью или, по крайней мере, частично оторван от традиции народных праздников, и поэтому автор включает в свое повествование разъяснения бытового и чисто этнографического характера. Так, например, в рассказе И. А. Купчинского «Гаданье» («Газета Гатцука», 1880) сюжету предшествует подробное описание святочных гаданий в помещичьей усадьбе[136]; в рассказе Ф. В. Домбровского «Гадание на погосте» («Родина», 1889) приводятся подробности празднования святок в Белоруссии[137]; в рассказе «Замаскированный», вышедшем под псевдонимом «Некто» («Биржевые ведомости», 1886), по ходу сюжета описываются обрядовые блюда малороссийского рождественского ужина[138].
Тем самым литературные святочные рассказы, наряду с чисто развлекательной функцией, приобретают функцию познавательную, включая в себя детали и особенности святочного обряда и ритуала. Из них можно узнать, как праздновались святки на Украине и в Сибири, на Новой Земле и в Грузии, каковы святочные обряды вотяков, вогулов, пермяков и других народов[139]. Святочные рассказы таят в себе большой и еще совсем не собранный материал, который может значительно обогатить данные по этнографии календарных праздников христианских народов России. Приуроченные к святкам рассказы, действие которых отнесено к давнему историческому прошлому, подробно описывают уже давно ушедшие из жизни святочные обычаи и особенности празднования святок в разных социальных слоях. Примером может послужить уже упоминавшийся рассказ Н. П. Вагнера «Любка», в котором детально описывается святочный маскарад екатерининского времени в Таврическом дворце.
В-третьих, авторы литературных святочных рассказов, ориентированных главным образом на традицию русской психологической прозы, обычно стремятся старательно обрисовать характер персонажей, их состояние, переживания, дать мотивировку их поступков и т. п. Там, где рассказчик ограничивается простой констатацией факта, допустим, указанием на чувство страха, охватившего героя, писатель изображает процесс возникновения, нарастания и предельного нагнетания этого чувства. В рассказе А. Н. Будищева «Ряженые» («Осколки», 1886) героя, идущего святочной ночью через лес, постепенно охватывает страх, достигший в конце концов такой степени, что знакомых ему людей он принимает за оборотней[140]. В рассказе И. Н. Пономарева «Случай гаданья» («Родина», 1886) мальчик переживает ужасную ночь, случайно оказавшись наедине с покойником – телом только что умершего его друга[141]. В рассказе И. А. Купчинского «Гаданье» гадающая на своего жениха героиня, увидев неожиданно в зеркале его лицо, умирает от страха, при этом автор со всеми подробностями передает ее внутреннее состояние.
В-четвертых, фольклорные святочные рассказы, как правило, начинаются сразу же с описания святочного происшествия. Рассказчик вводит более или менее определенное наречие времени («раз», «как-то на святках», «в прошлом году на Рождестве», «давно это было» и т. п.) и тут же приступает к изложению собственно святочного сюжета. Литературный святочный рассказ почти всегда имеет пространную экспозицию, которая предваряет описание святочного случая: в рассказе А. Н. Будищева «Ряженые» вначале автор рассказывает о том, как его герои решили провести святочную ночь в гостях у лавочника Ерболызова, как жены прощаются с ними, направляясь к тетке на хутор и т. п., и только после этого повествует о «святочном происшествии». Иногда экспозиция вставляется внутрь рассказа, создавая сюжет детективного (как в рассказе Некто «Замаскированный») или же загадочно-психологического характера (как в рассказе К. С. Баранцевича «Гусарская сабля»[142]).
Но гораздо более существенное отличие литературного святочного рассказа от фольклорного состоит в характере изображения и трактовке кульминационного святочного эпизода. Я уже отмечала, что устные святочные истории, за исключением историй о розыгрышах, рассчитаны на веру в возможность встречи с «нечистой силой». Установка на истинность происшествия и реальность действующих лиц – непременная черта таких историй. Русскому литературному святочному рассказу сверхъестественные коллизии не свойственны. Сюжет типа «Ночи перед Рождеством» Гоголя встречается достаточно редко. А вместе с тем именно сверхъестественное – главная тема таких рассказов. Однако то, что может показаться героям сверхъестественным, фантастичным, чаще всего получает вполне реальное объяснение. Конфликт строится не на столкновении человека с потусторонним злым миром, а на том сдвиге в сознании, который происходит в человеке, в силу определенных обстоятельств усомнившемся в своем неверии в потусторонний мир. И за это сомнение он платит здоровьем, как в рассказе И. Н. Пономарева «Случай гаданья», или жизнью, как в рассказе И. А. Купчинского «Гаданье». В основе литературных святочных рассказов такого типа лежит механизм псевдобыличек, но если в веселых устных историях девушек разыгрывают молодые люди, то в литературных рассказах злую шутку играет с ними сама судьба.
В юмористических святочных рассказах, столь характерных для «тонких» журналов второй половины XIX века, часто разрабатывается мотив встречи с «нечистой силой», образ которой возникает в сознании человека под влиянием алкоголя (ср. выражение «напиться до чертиков»). В таких рассказах фантастические элементы используются безудержно и, можно даже сказать, бесконтрольно, так как реалистическая их мотивировка оправдывает любую фантасмагорию. Так, например, в рассказе И. К. Кондратьева «Заезжий гость» приход «окаянного» на святочную вечеринку истолковывается как пьяный бред героя.
Различные приемы использования писателями фольклорных святочных историй я продемонстрирую на примере сюжета о предмете (кольце, сабле, ноже, пуговице и пр.), захваченном гадальщицей у пришедшего к ней «на ужин» «жениха-черта». Широкое бытование этого сюжета зафиксировано многими фольклористами[143]. Иногда фольклорный текст включается в литературное произведение почти в неизменном виде в качестве истории, рассказанной одним из персонажей. Так, например, поступили Н. А. Полевой в рассказе «Дурочка» (1839)[144] и Ф. Д. Нефедов в рассказе «Чудная ночь»[145]. В этих случаях рассказчики (у Полевого – героиня, склонная к вере в сверхъестественное, у Нефедова – крестьянская девушка) верят в безусловную истинность происшествия и дают ему традиционную народную трактовку. М. Д. Чулков в святочной истории, помещенной им в журнале «И то и сио» (1769), использует этот сюжет по-своему. Главные признаки святочного текста им сохранены: описывается событие, имевшее место на святках, и, будучи напечатанным в «святочном» номере журнала, он рассчитан на то, чтобы его читали именно на святках. Но Чулков одновременно с этим и обрабатывает традиционный сюжет. Из трагической истории, повествующей о гибельных последствиях неосторожного поведения во время святочных гаданий, под пером Чулкова быличка о захваченном предмете превращается в ироничное повествование автора, который и сам не верит в то, о чем он пишет, и своих читателей не пытается убедить в истинности изложенного (подробнее см. ниже). Рассказ К. С. Баранцевича «Гусарская сабля» (1896) оперирует тем же самым сюжетом. Как литературная обработка былички о гадальщице, приглашающей «суженого на ужин», текст Баранцевича весьма показателен. Его построение характерно для литературного святочного рассказа, адресованного горожанам-полуинтеллигентам с довольно непритязательным вкусом: вначале автор воспроизводит обстановку святочного вечера в городском доме – аналога деревенских посиделок и «бесед». Полковник, институтка, жеманная хозяйка дома и другие гости ведут типичный для подобной ситуации разговор – о гадании и вере в него. «Образованное» общество высказывает свой, «просвещенный», взгляд на гадание, в котором, по его мнению, немаловажную роль играет самогипноз. И в этой обстановке «святочной беседы» один из ее участников, полковник, вспоминает событие, случившееся на святках с одним его давним приятелем. Баранцевич обрабатывает сюжет былички почти до неузнаваемости – он то делится своими впечатлениями, то предоставляет слово герою повествования, которому невольно довелось сыграть роль «суженого», то стремится объяснить психологию героини. Девушка, которой в зеркале во время гадания явился гусар, полюбила его на всю жизнь. Волею случая герой женится на ней, но она, не признав в нем когда-то столь поразившего ее красавца-гусара, продолжала любить того, который оставил ей свою саблю и исчез. Обнаружив свято хранимую женой саблю, герой не отсекает ей голову, как это происходит в быличке, но постепенно, как бы освободившись от власти жены, охладевает к ней. «…Жестокая роль выпала на долю гусарской сабли!» – заключает рассказчик[146]. Сюжет и узнаваем, и неузнаваем. В отличие от былички в нем нет ничего сверхъестественного, в нем гораздо сложнее и изощреннее фабула, он психологичен в духе прозы конца XIX века, но тем не менее это все тот же сюжет об оставленной у гадающей героини сабле явившегося к ней на зов «суженого».
В большинстве своем литературные святочные рассказы не обладают высокими художественными достоинствами. В развитии сюжета они используют давно уже отработанные приемы, их проблематика ограничена достаточно узким кругом жизненных проблем, сводящихся, как правило, к выяснению роли случая в жизни человека. Их язык, хотя он и претендует часто на воспроизведение живой разговорной речи, нередко убог и однообразен. Однако изучение таких рассказов крайне необходимо.
Во-первых, они непосредственно и зримо, ввиду обнаженности приемов, демонстрируют способы усвоения литературой фольклорных сюжетов. Уже являясь литературой, но продолжая при этом выполнять функцию фольклора, состоящую в воздействии на читателя всей атмосферой своего художественного мира, построенного на основе мифологических представлений, такие рассказы занимают промежуточное положение между устной и письменной традициями.
Во-вторых, такие рассказы и тысячи им подобных составляют тот литературный массив, который называется массовой беллетристикой. Они служили основным и постоянным «чтивом» русского рядового читателя, который на них воспитывался и формировал свой художественный вкус. Игнорируя подобную литературную продукцию, нельзя понять психологию восприятия и художественные потребности грамотного, но еще не образованного русского читателя. Мы довольно хорошо знаем «большую» литературу – произведения крупных писателей, классиков XIX века, – но наши знания о ней останутся неполными до тех пор, пока мы не сможем представить себе тот фон, на котором большая литература существовала и на почве которого она нередко произрастала.
И наконец, в-третьих, святочные рассказы представляют собой образцы почти совсем не изученной календарной словесности – особого рода текстов, потребление которых приурочивается к определенному календарному времени, в течение которого только и оказывается возможным их, так сказать, терапевтическое воздействие на читателя.
Глава 2
Святочная словесность XVIII века
Святки в XVIII веке
Прежде чем охарактеризовать святочные произведения XVIII века, я остановлюсь на нескольких, на мой взгляд, наиболее важных моментах празднования святок и восприятия их в эту пору. Я не касаюсь здесь темы святок в Древней Руси, поскольку она была исчерпывающе раскрыта в обстоятельной работе Н. В. Понырко, которая впервые продемонстрировала тесную связь народных святочных представлений с церковными рождественскими обрядами и службами, в частности – с обрядом пещного действа[147]. Ее работа опровергла устойчивое мнение о том идеологическом разрыве, который существовал в Древней Руси между языческими народными святками и церковной рождественской обрядностью. В древний период русской истории как царь, так и православная церковь яростно боролись с языческими праздниками, регулярно выпуская тексты запретительного характера, как, например, грамота царя Алексея Михайловича о коляде 1648 года[148] или же указ патриарха Иоакима 1684 года, в котором говорится, что в навечерие Рождества Христова
мужи с женами и девки ходят по улицам и переулкам <…>. И преображающеся в неподобная от Бога создания, образ человеческий пременяюще, бесовское и кумирное личат, косматые, и иными бесовскими ухищреньми содеянные образы на себя надевающе, плясаньми и прочими ухищреньми православных Христиан прельщают…[149]
Такое отношение церкви к народным святкам продержалось до XVIII века[150]. Но царские и церковные указы, осуждающие и запрещающие «святочные беснования», издавались в ту же самую эпоху, когда «халдеи», участвующие в церковном чине пещного действа, который совершался за неделю до Рождества, «бегали ряжеными по городу в течение всех святок», напоминая святочных ряженых, а по существу – являясь ими[151]. Жизнь оказалась противоречивее и сложнее однозначных и категоричных указов. Осуждая устройство святочных игрищ, церковные деятели одновременно с этим совершали обряды, в основе которых лежали представления, во многом общие с народными языческими представлениями. Иногда же они не только не обличали ряженых, но даже принимали их в своих домах, как это делал однажды вологодский архиерей, о чем мы узнаем из жития одного из «ревнителей древлего благочестия» Ивана Неронова[152].
Еще менее однозначным было отношение к святкам различных слоев населения XVIII века. С одной стороны, мы нередко встречаемся с такими документами, как опубликованное Н. Ф. Сумцовым доношение священника Харьковского уезда 1750 года, поданное им в духовное правление, в котором сообщается, как священник этот разогнал святочные «вечерницы», за что «молодцы и девки» его «бранили и поносили»[153]. С другой стороны, деревня продолжала жить, как и прежде, по народному календарю. Согласно народной традиции в основном отмечали святки и поместные дворяне. В литературе много писалось о том разрыве между крестьянской и дворянской культурами, который четко обозначился к XVIII веку. Однако в действительности этот разрыв не был столь уж велик: поместные дворяне воспитывали своих детей с дворней, в среде которой народные обычаи и представления усваивались ими на всю жизнь. А. Н. Пыпин писал по этому поводу:
Учителя из дворовых, «дядьки» и няни старого времени <…> составляли всегдашнее посредствующее звено, через которое этнографические черты народной жизни целиком доходили до сословия, которое считают теперь «оторванным от народной жизни», может быть, делая ему этим слишком много чести[154].
Притом святки, как справедливо заметил Н. Н. Трубицын, «интересовали усадьбу, особенно молодежь, более и дольше, чем все другие забавы»[155]. Так, например, А. Т. Болотов вспоминает, что его мать на святках обычно приглашала гостей:
Как наступило Рождество и святки, то не преминула мать моя созвать опять всех своих родных и знакомых. <…> Зятю моему оказывали они все отменное почтение, а как он любил повеселиться, то заводимы были всякие святочные игры и деревенские увеселения, и он гостями нашими был доволен[156].
«По старинному обыкновению» отмечались святки и в провинциальной мещанской среде, о чем свидетельствует хотя бы анонимная комедия 1774 года «Игрище о святках», где сестра богатого ремесленника Фетинья характеризуется следующим образом:
…она все подобные сему обряды за правило веры почитает и думает, коли кто в святки не наряжается, не слушает или не поет подблюдных песен, об масленице не катается, о святой неделе не скачет на доске или не катает яйцами, а в семик не завивает венков, тот недолго проживет на свете или по крайней мере будет несчастлив[157].
Однако уже с середины века некоторые просвещенные лица даже из среды провинциалов начинают относиться к святочным увеселениям пренебрежительно. Тот же Болотов, например, в отличие от своего зятя, называя их «зрелищем хотя самым вздорным и глупым, но для тамошних деревенских жителей смешным и приятным», писал:
Молодые люди переодеваются странным образом, надевают на лицо страшные хари, наряжаются в виде разных животных и делают разные нелепости грубые. После чего поют и пляшут, <…> пьют и едят[158].
Такое же ироническое отношение к святкам и святочным гаданиям проявляется и в опубликованных С. М. Любецким анонимных стихах конца XVIII века[159]. Что же касается городской среды, особенно столичной, то здесь календарные обряды начинают постепенно забываться и уходить из быта. В упоминавшейся выше комедии «Игрище о святках» герои разделились на два лагеря в споре о том, стоит ли проводить в их доме святочное игрище. В ходе этого спора хозяин авторитетно заявляет: «Посмотри, бывают ли когда игрищи у знатных господ? В Питере также игрищи совсем из употребления вышли»[160].
Казалось бы, что при таком отношении святочные обряды должны были бы постепенно выродиться. Но неожиданно замечается обратный процесс их воскрешения, причем, что весьма показательно, он идет не снизу, а сверху – от высших кругов русского общества. В XVIII веке именно через царский двор празднование святок все более и более распространяется и даже становится модным в среде городской знати. О святочных увеселениях при дворе в Петровскую эпоху сохранилось множество документов[161]. Петр продолжал обычай славления, который был столь характерен для праздничного поведения Алексея Михайловича[162], с тем лишь отличием, что он сам ездил ряженым и что свита у него была многочисленнее и пьянее, а «уклонявшихся от святочных потех били подчас для острастки плетьми»[163]. В. О. Ключевский так характеризует «шутовские» святочные процессии, организатором которых был сам Петр:
Бывало, на святках компания человек в 200 в Москве или Петербурге на нескольких десятках саней на всю ночь до утра пустится по городу «славить»; во главе процессии шутовской патриарх <…> за ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом[164].
Пушкин в «Истории Петра» также указывает на эту характерную черту царя:
Святки праздновались до 7 января. Петр одевал знатнейших бояр в старинные платья и водил их по разным домам под разными именами [курсив А. П.]. Их потчевали по обычаю вином и водкою и принуждали пьянствовать, а молодые любимцы приговаривали: пейте, пейте: старые обычаи лучше ведь новых[165].
Святочные потехи Петра связаны были и с его знаменитым «всешутейшим собором», который состоялся еще до поездки царя в Европу[166].
С середины XVIII века при дворе возникает мода на все русское, результатом которой явилось ежегодное устройство святочных празднеств на манер народных игрищ[167]. Императрица Елизавета Петровна весьма любила наряжаться и часто появлялась на святочных балах в мужском костюме, который, по свидетельствам очевидцев, очень ей шел:
Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, <…> она любила производить впечатление, и, зная, что к ней особенно идет мужской костюм, она установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, в обширных юбках, а дамы в мужском придворном платье[168].
Любила народные праздники и Екатерина II[169]. Известный мемуарист XVIII века С. А. Порошин писал по поводу организации святочных празднеств во дворце в 1765 году:
Государыня изволила говорить, что уже месяц тому назад, как Государь Цесаревич давал знать Ее Величеству, что прошлого году о Рождестве в первый день ввечеру были у Ее Величества святочные игры, с тем намерением, чтобы и ныне тоже сделать и для того изволила усмехаючись говорить Великому князю, чтобы он после обеда кафтан изволил надеть получе, и был ввечеру к Ее Величеству на игрище[170].
Порою высказывалось мнение, что
при Екатерине II, а еще больше при Елизавете, празднование святок представляло еще много чисто народного, даже при дворе, где также рядились, играли в фанты и распевали святочные подблюдные песни[171].
Однако это неверно. Организуемые во дворце святочные торжества были не столько продолжением народных традиций, сколько их вульгарной реконструкцией, отчего они неизбежно утрачивали свой первоначальный магический смысл и превращались в простую забаву. Это стремление сохранить и даже воскресить святочные народные традиции при дворе привело к искусственному и потому неизбежно комическому их воспроизведению. Вот как описывает Порошин святочный вечер во дворце, инициатором которого была сама императрица, большая энтузиастка русских простонародных обычаев и обрядов:
В аудиенц-комнате, где трон стоит, началась игра: сперва взявшись за ленту, все в круг стали, некоторые ходили по кругу и прочих по рукам били. Как эта игра кончилась, стали опять все в круг, без ленты, уже по двое один за другого: гоняли третьего. После сего золото хоронили; «заплетися плетень» пели; по-русски плясали; польский, минуэты и контрдансы танцовали. Ее величество во всех сих играх сама быть и по-русски плясать изволила[172].
Приведенный фрагмент мемуаров Порошина показывает, что на таких дворцовых увеселениях перемешивались черты балов на европейский манер (где «польский, минуэты и контрдансы танцовали») и псевдонародных игр.
В этот же период двор, а затем и дома высшей знати перенимают с Запада традицию маскарадов, которые первоначально устраивались только на святках и Масленице, а потом постепенно начали распространяться на весь зимний сезон – от Николина дня до Великого поста. Конечно, в какой-то степени эти маскарады соотносились и с народным святочным ряженьем, ориентируясь на него, но, пожалуй, самой отличительной их чертой в XVIII веке было оригинальничанье – стремление выдумать как можно более экзотическую маску и поразить ею присутствующих. И дело даже не в том, что традиционные костюмы народных святочных ряжений здесь, как правило, не встречались, а в том, что на маскарадах отсутствовало то единство мира персонажей, которое всегда было специфической чертой святочного ряженья[173]. Характеризуя святочные маскарады XVIII века, М. И. Пыляев пишет, что в это время их участники наряжались восковыми портретами, деревьями, кустарниками, пагодами, цветочными горшками и пр.[174]